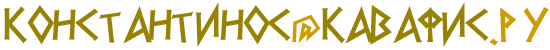|
...Внешняя
биография Кавафиса уместится в несколько строк. Стихи расскажут
об этом существовании, с виду ограниченном повседневной рутиной
контор и кафе, подозрительных улиц и погребков, замурованном
в пространстве тысячекратно исхоженных маршрутов одного и
того же города и, напротив, поразительно свободном во времени,
чуть подробней. Можно пойти дальше и попытаться разгадать
то, что искусство поэта скрупулезно зашифровало, разглядеть
в тех или иных стихах его воспоминания – похожие на правду
или даже взаправду подлинные ...Но обращаться к стихам за
уточнением биографии – значит идти вразрез с их собственно
поэтическим смыслом: по-настоящему проницательный поэт не
раз и не два подумает, прежде чем отправиться назад по тому
пути, который привел его от более или менее смутного чувства,
от более или менее мимолетного события к выверенной точности
и непреложности стихотворения. Тем больше рискует сбиться
с дороги комментатор поэта. Кавафис говорил и повторял, что
его стихи родились из его жизни, но теперь она погребена в
них – целиком и навсегда.
...Прежде
всего, поражает почти полное отсутствие любой восточной и
даже просто левантинской живописности. То, что этот египетский
грек, словно не заметил арабского или мусульманского мира,
навряд ли поразит всякого, кто хоть немного приобщен к Ближнему
Востоку, где разные народы живут бок о бок, но скорей взаимно
противостоят друг другу, чем взаимосвязаны. Ориентализм Кавафиса,
тот исподволь подмешанные ко всей греческой мысли ориентализм
– в другом...
Его людные кафе, улочки,
темнеющие с закатом, пользующиеся дурной славой дома, где
мелькают незнакомые и подозрительные лица юношей, – лишь вехи
одного нескончаемого приключения, всегдашних встреч и разлук,
откуда и безупречная красота самых беглых зарисовок жизни
на улице или в доме. С таким же успехом все это могло происходить
в Пирее, Марселе, Алжире, Барселоне – в любом из больших городов
Средиземноморья. Если не поднимать глаза к небу, чувствуешь
себя едва ли не в Париже с полотен Утрилло; иная комната напоминает
каморки Ван Гога с их плетеными стульями, желтыми цветочными
горшками и залитыми светом голыми стенами. Но все омыто истинно
греческим солнцем: отсюда легкий ветерок, прозрачность далей,
загар на коже, соль, накрепко пропитавшая героев "Сатирикона",
этого шедевра Греции, подаренного латыни...
"Большинство поэтов просто пишут
стихи. Кроме Паламаса – у него есть и проза. А я – поэт-историк.
Я не способен написать роман, не работаю для театра, но внутренний
голос говорит, что задача историка мне по плечу. Только времени
уже нет" (1). Впрочем,
его, может быть, никогда и не было. Кавафис всю жизнь терпеть
не мог циклопических масштабов, грандиозных движений людских
масс в истории и не пытался схватить существо человека в самых
глубинах опыта, в изменчивости и постоянстве. Он не портретирует
Цезаря, не воссоздает переплетение плоти и страсти в образе
Марка Антония – он берет один эпизод из жизни первого, задумывается
над переломом в судьбе второго. Его исторический подход напоминает
Монтеня: свои, нередко обжигающие подлинным любовным огнем,
примеры и сентенции он черпает из Геродота, Полибия, Плутарха.
Кавафис – мастер эссеистики, ему близок XVIII век, но еще
ближе античная эпоха. Намеренно или нет, он ограничивается
беглым взглядом, меткой и нагой подробностью. Но в узком поле
его внимания любая деталь – на месте. Он реалист и не громоздит
ни старых, ни новых теорий, отвергая и паштет из пустых обобщений,
и рагу из переперченных контрастов и жирных школярских пошлостей,
которые заставляли стольких людей здравого ума с отвращением
отплевываться от истории.
...Поэт облюбовал в античности период,
известный разве что специалистам, – те два-три века космополитического
существования, которые последовали на греко-язычном Востоке
за смертью Александра Македонского. Его восприятие древности
не совпадает с нашим. Мы унаследовали от Рима, Возрождения
и академизма XVIII столетия героизированный, классический
образ Греции, беломраморную Элладу. Для нас средоточие греческой
истории – афинский Акрополь. А для Кавафиса античность это
Александрия, Малая Азия, отчасти Византия, – путаная вереница
греческих миров, далеко уводящая от нашего так называемого
золотого века и все же сохраняющая с ним живую связь. Напомню,
что долгие годы мы презрительно равняли все александрийское
с декадансом. Между тем, именно при наследниках Александра,
в Александрии и Антиохии сложилась та, выплеснувшаяся за стены
полиса греческая цивилизация, в которой смешались дары самых
разных земель и принадлежность к культуре стала важней принадлежности
к народу. "Греками, – писал уже Исократ, – мы зовем не
только тех, в ком течет наша кровь, но и тех, кто блюдет наши
обычаи". Кавафис всем существом принадлежал к этой цивилизации
койне, общедоступного языка – к гигантской Греции, раскинувшейся
далеко за пределы архипелага силой не столько завоевания,
сколько проникновения, к той терпеливо возводимой и век за
веком перекраиваемой общности, чьим воздействием и по сей
день живет Левант моряков и торговцев...
Быть или стремиться стать греком это судьба,
и мы находим у Кавафиса всю гамму движений духа при встрече
с этой судьбой – от гордости в "Эпитафии
Антиоху, царю Коммагены" до иронии в "Греколюбе".
Его короткие стихотворения, многосоставные как палимпсест,
но сосредоточенные всего лишь на двух-трех темах – эрос, политика,
искусство – и отмеченные всегдашней, смутной и абсолютно неподражаемой
красотой, какую видишь в горячих глазах фаюмских портретов,
с непобедимых упорством глядящих прямо на тебя, – куда меньше
различаются эпохами, чем объединены атмосферой. Французу эта
совершенно левантинская атмосфера стихов Кавафиса, при всех
явных различиях, не может не напомнить поразительный греко-сирийский
Восток, каким-то шестым чувством угаданный Расином. Орест,
Ипполит, Кифарес, Антиох, сам Баязет давно сроднили нас с
этим воздухом утонченности и страсти, этим причудливым миром,
уводящим, скорее, к диадохам, чем к Атридам, и не кончающимся
с Османской империей. Говорит ли Кавафис о молодом, "одетом
в шелка и украшенном бирюзой" ионийце последних лет дохристианской
эры или о юном бродяге в репсовом костюме из "Дней 1908
года", чувствуешь то же волненье, тот же едва различимый
пыл, ту же сдержанность, иными словами – ту же тайну. У сладострастия
свое понятие о вечности.
Александрия... Александрия... Кажется,
что Антония в кавафисовских стихах покидают даже не заступники-боги,
как у Плутарха, а сам этот город, который он любил и едва
ли не сильней, чем Клеопатру. Так или иначе, Александрия для
Кавафиса – существо живое и бесценное. Может быть, наиболее
точное подобие такой любви – страсть парижанина, не могущего
налюбоваться своим Парижем, одержимого каждой его чертой –
от внешних бульваров до воспоминаний о прежнем Лувре. Но тут
сходство кончается. При всех пережитых встрясках, при всем
неистовстве разрушений и тяге к новшествам Париж сохранил
зримые следы прошлого – у Александрии же от былого великолепия
остались только имя да место. Кавафису на редкость повезло:
он родился в городе, начисто лишенном величия и меланхолии
развалин. Прошлое оживает здесь во всей новизне, помимо книг
и без чарующих глаз посредников вроде барочной живописи или
романтической поэзии, которые обычно стоят между античностью
и нами. Сам факт, что вторжение ислама произошло в Александрии
на восемь веков раньше, чем в Византии и Афинах, напрямую
обращает Кавафиса к более древнему и богатому культурой эллинскому
миру, еще не тронутому средневековой ортодоксией, а тем самым
хранит и от византийского налета, несводимой печатью ложащегося
нередко на греческую мысль нового времени. Он александриец
в самом космополитическом и, вместе с тем, самом провинциальном
смысле этого неверно толкуемого слова. Он со страстью любил
свой суетный и шумный город, город роскошный и нищенский разом,
слишком занятый заботами и утехами, чтобы грезить об улетучившемся
как дым прошлом. Здесь этот до мозга костей горожанин предавался
своим радостям, переживал победы и утраты, спешил по опасным
следам. Он выходил на балкон развеяться, "глядя на замирающую
суету мостовых и лавок"; обитая здесь, он "наполнил
свой город смыслом". Он и был, на свой лад, неповторимой
жизнью Александрии. Это он выговаривал ей голосом Марка Антония.
Каждая вещь Кавафиса это (решусь на такое
слово) увековечение; каждая, отсылай она к истории или к биографии,
моралистична, и эта неожиданная в современном поэте поучительность
– может быть, самое смелое в его стихах. Мы так привыкли видеть
в мудрости итог перегоревших страстей, что с трудом узнаем
в ней самую сердцевину, самое ядро пыла, не серый пепел, а
золотое сердце огня. И упорно воротим нос от не зажигающих
нас аллегорий и наставлений: урока совершенства – в "Аполлонии
Тианском на острове Родос", урока стойкости –
в "Фермопилах",
урока скромности – в "Первой
ступени". Мы плохо переносим резкий перепад от
нравоучений к лирике и обратно в таких шедеврах, как "Город"
с его уроком смирения и, вместе с тем, жалобой на неспособность
человека выйти за свои пределы или "Итака"
– стихи о дали и пути, но, прежде всего, гимн во славу опыта,
предостерегающий, рискну сказать, от чар разочарованья:
Собравшись на Итаку,
молись, чтобы дорога была долгой
и щедрой на события и опыт.
Тебе ни лестригоны, ни циклопы,
ни лютый Посейдон не угрожают:
они тебе не встретятся в пути,
пока ты помышляешь о высоком
и чистым чувствам отдал дух и тело.
Тебе ни лестригоны, ни циклопы,
ни лютый Посейдон не попадутся,
пока ты их не выпестовал в сердце
и не воздвигнул сам перед собой.
Молись, чтобы дорога была долгой,
чтоб не одною летнею зарею
ты зачарованно и восхищенно
причаливал к безвестным пристаням.
Не торопись на финикийских рынках
и отбирай тончайшие товары:
кораллы, перламутр, эбен и амбру
и кружащие голову духи –
духов побольше, разных, сколько сможешь.
Гости в несчетных городах Египта
и черпай, черпай знанья мудрецов.
И ни на миг не забывай Итаку.
Твоя задача – до нее доплыть.
Но торопиться все-таки не нужно.
Пускай дорога длится год за годом,
чтобы ты достигнул острова в летах,
богатый всем, что встретил по дороге,
и не рассчитывая на Итаку.
Она дала тебе твой дивный путь.
Не будь ее, ты бы не поднял якорь.
А больше ничего она не даст.
Но и нуждою не разочарует:
ты столько видел, столько пережил,
что понимаешь, для чего Итаки.
Следить, как вызревает умудренность, как
еще ощутимые в ранних стихах тревога, одиночество, разлука
уступают место уравновешенности, слишком глубокой, чтобы бросаться
в глаза, – зрелище захватывающее. Всегда важно знать, чем
в конце концов живет тот или иной поэт, – бунтом или приятием.
В этом смысле стихи Кавафиса поражают полнейшим отсутствием
тяжбы с жизнью. Спокойная ясность, погруженность в память
как раз и придают ему такой греческий облик поэта-старца в
противоположность романтическому идеалу поэта-юноши, поэта-ребенка...
Эта же несклонность к бунту позволяет
Кавафису без малейшего напряжения двигаться в пределах унаследованной
восточно-христианской традиции, поскольку он, конечно, поэт-христианин.
Христианин, совершенно далекий как от бурь и треволнений сердца,
так и от аскетической строгости, но тем не менее христианин:
"религия" в латинском смысле слова – это, как и
"мистика", неотъемлемая часть христианского мироздания.
Блаженная смерть, следующая у Клеона ("Могила Игнатия"),
у Мириса, у Мануила Комнина за полной наслаждений жизнью,
– еще одно свидетельство смирения человека перед порядком
вещей. Этот монашеский отказ на свой лад продолжает тему стоической
мудрости, втайне как бы дополняя тот, казалось бы, несовместимый
с нею восточный нигилизм, который зачастую примешивается к
греческой мысли. И все же восточно-христианская традиция у
Кавафиса это, прежде всего форма связи с жизненной средой,
с окружением, для его творчества она второстепенна. Собственно
мистическое начало ощутимо, скорее, в языческих пластах стихов,
в неустанном внимании к трудам богов или демонов ("нетерпеливые,
неопытные смертные, мы со своими вопросами – главная забота
богов"), но еще сильней – во всегдашней неразрывности
для Кавафиса творчества, памяти и бессмертия, иначе говоря
– в теме божественного наказа человеку. Подобную мораль вполне
мог бы исповедовать современник Адриана или Марка Аврелия.
Как в глубинах плоти таятся кости и сухожилия, так в стихах
Кавафиса скрыта сила, неотделимая от влекущейся к утехам души.
Даже под самой тонкой, воздушной формой чувствуешь твердый
позвонок стоицизма.
С этим, почти гетевским, мистицизмом у
Кавафиса соединяются черты поэтики, напоминающие, скорее,
о Малларме, – эстетика тайны, умолчания, переноса... Но тайна
у него не замкнута в круг языка или стиля, недоступный посвященным
(2). Поэт ни на
йоту не отступает от роли, которую обычно отводят ему великие
эпохи, – роли изощренного умельца; его задача – обуздать самое
обжигающее и хаотическое содержание чистой и безукоризненной
формой. Искусство здесь не силится превзойти жизнь ни реальностью,
ни достоинством, равно как и не отгораживается от нее, запредельное
для утех и славы, то бишь для пресловутого здравого смысла,
перед которым, напротив, со смирением склоняется. Искусство
и жизнь у Кавафиса служат друг другу.
Внешне бесхитростная поэтика Кавафиса
упрямо и даже рискованно использует лишь самые простые выразительные
средства. Он рано отказался от допотопной ораторской пышности,
от еще заметной в "Итаке"
лирической аффектации ради неприкрашенной мысли и своего рода
чистой прозы. Его сухой и гибкий слог не насилует себя даже
во имя лаконизма. Поклонники греческой старины узнают эту
точеную – ни лунки, ни бугорка – поверхность, где близкому
взгляду, как в иных эллинских статуях, открывается бесконечная
тонкость и, не подберу лучшего слова, живость запечатленной
материи...
Но, может быть, самое важное, требующее
внимания и исследования у Кавафиса – даже не стилистика, а
композиция. Такое александрийское по духу сочетание ученой
поэмы, уличной сценки и эротической эпиграммы достигает у
него предельного и намеренного отсутствия каких бы то ни было
эффектов: это единство в разнообразии и есть жизнь. Александрийскую
тягу к небольшому, до мелочей продуманному стихотворению Кавафис
возвел в систему. Самые длинные его вещи умещаются на двух
страничках, самые короткие – в четырех-пяти строках. Страсть
к огранке, с одной стороны, и к простоте, с другой, вкупе
со всегдашним стремлением к краткости приводят поэта к любопытному
жанру, который я, за неимением лучшего, назвала бы памяткой
или пометой на полях. Подавляющая часть его неустанно шлифовавшихся
трудов – всего лишь беглая и загадочная рукописная строка,
штрих пером, отчеркнувший памятный и любимый абзац, листок
из тетради нелюдима, криптограмма тайных расходов, может быть,
загадка. При всей поэтичности они сохраняют нагую прелесть
записей для себя. Лучшие его вещи передают не столько опыт
или мысль автора, сколько их отправную или конечную точку,
пренебрегая всем, что даже у самых тонких поэтов напрямую
взывает к читателю, всем, что платит вынужденную дань красноречию
или толкованию. Самые волнующие его стихи это, в конце концов,
чуть приправленные комментарием цитаты. Но мало кто затратил
столько сил, чтобы вытравить из написанного малейшие признаки
литературы.
Другая неповторимо кавафисовская особенность,
его редкая любовь к монологам, связана отчасти с эллинской
комедией или мимом, а отчасти – и гораздо чаще – со старыми
упражнениями греков в риторике... Порой эти немудреные и вместе
с тем сложнейшие стихи напоминают запутанные монологи Браунинга,
только Браунинга, сменившего тона и краски живописца на сухую
иглу гравера. Поэту со сценическим даром Кавафиса они дают
возможность пережить чувства другого, а на него перенести
свои, открывая перед сосредоточенной, а то и попросту оцепеневшей
на себе мыслью пространство "игры" во всех бесчисленных
значениях этого слова.
...Так разговор об искусстве привел нас
к самому важному – к человеку. Что мы ни делай, мы снова и
снова возвращаемся к тайной клеточке самопознания, крохотной
и бездонной, непроницаемой и прозрачной разом, – к чистейшей
(или, как сказали бы прежде, интеллектуальной) страсти. Поразительное
изобилие целей и путей, в конце концов, складываются у Кавафиса
в своего рода замкнутый лабиринт, где признание и немота,
текст и комментарий, пыл и ирония, голос и отзвук до неразличимости
смешиваются, а переодевание оборачивается своеобразным обнажением
сути. Головокружительное множество противостоящих друг другу
персонажей предстает, в конечном счете, единой личностью –
вечным и неуничтожимым "я".
Перевод Б. Дубина
|