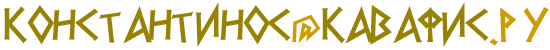|
С тех пор, как ныне покойный профессор Р.М. Доукинс больше
тридцати лет назад познакомил меня с поэзией К.П. Кавафиса,
она оставила не один след в моих собственных стихах. Иначе
говоря, я без труда перечислю вещи, которые, не зная Кавафиса,
написал бы по-другому, если бы вообще написал. И это притом,
что я ни слова не понимаю по новогречески и стихи Кавафиса
мне доступны лишь в английских и французских переводах.
Последний факт не оставляет меня
в покое и даже несколько выводит из себя. Как, видимо, любой
из пишущих стихи, я всю жизнь верил, будто непереходимая грань
между поэзией и прозой в том и состоит, что проза переводу
на другой язык поддается, а поэзия – никогда.
Но если можно оказаться под влиянием стихов,
которые знаешь только по переводам, стало быть, несокрушимость
упомянутой веры встает под вопрос.
Значит, одни стороны поэзии от исходной словесной
формы отделяются, а другие – нет. К примеру, ясно, что любая
связь идей через созвучия слов ограничивается языком, в котором
эти слова созвучны. Только в немецком Welt рифмуется с Geld,
и лишь в английском возможен каламбур Хилэра Беллока:
When I am dead, I hope it may be said:
"His sins were scarlet, but his books were
read." (1)
Когда поэт – допустим, чистый лирик – не "рассказывает",
а "поет", он почти или даже вовсе не переводим.
"Смысл" песенки Кэмпиона не отделить от звука и
ритма именно тех слов, которые он нашел. Может быть, по-настоящему
двуязычный поэт и сумеет написать на обоих доступных ему языках
то, что сам сочтет одним и тем же стихотворением, но сделайте
буквальный перевод каждого из вариантов на язык другого и
пусть потом хоть один читатель признает их родство.
С другой стороны, условности и приемы стихотворной
техники я в силах усвоить и помимо стихов. Скажем, мне вовсе
не нужно знать валлийский язык, чтобы оценить, какие возможности
для моего родного английского открывают внутренние рифмы и
аллитерации, которыми так богата валлийская поэзия. Вполне
понимая, что в точности скопировать их не удастся, я, тем
не менее, могу их переиначить и добиться нового, любопытного
результата.
Другой практически неистребимый
при переводе элемент это образность – сравнения и метафоры.
Они куда реже диктуются местным словесным обиходом, а гораздо
чаще – общим для всех и каждого образом чувств.
Мне вовсе не нужно читать Пиндара
в подлиннике, чтобы почувствовать красоту и точность слов,
которыми он славит остров Делос:
Недвижимое чудо широкой земли,
От людей именуемое Делосом,
А от блаженных олимпийцев – Звездою,
Далеко сияющей по синей земле... (2)
С трудностями в переводе образов сталкиваешься
обычно тогда, когда словарные запасы твоего языка не дают
донести смысл без многословия, ослабляющего оригинал. Строку
Шекспира "The hearts that spanielled me at heels"
(3) не передашь по-французски,
не обратив метафору в куда менее результативное сравнение.
Однако, ничего из перечисленного и доступного
переводу в поэзии Кавафиса не найти. К чуть расшатанному ямбу,
которым он в большинстве случаев пользуется, мы давно привыкли.
А самую яркую черту его стиля – смешение ученого и народного
языка в словаре и синтаксисе – нам как раз и не передать.
Ничего похожего на соперничество между высоким и низким наречием,
возбуждавшее в Греции пылкие страсти литературного и политического
свойства, в английском нет. У нас есть лишь общепринятый английский,
с одной стороны, и местные диалекты, с другой. Так что если
говорить об этой стилистической краске у Кавафиса, то англоязычному
переводчику ее не донести, а англоязычному поэту – не извлечь
из нее для себя ни малейшей пользы.
О кавафисовской образности говорить не приходится:
к таким приемам, как метафора и сравнение, он не прибегает.
Передает ли он сцену, событие или чувство, любая его строка
это просто сухое описание фактов без самомалейших красот.
Тогда что же в стихах Кавафиса сохраняется и
волнует даже в переводе? Не умею назвать это точней, чем "склад
речи", "собственный голос". Я читал его вещи
в разных переводах, но Кавафиса узнавал сразу, таких стихов
никто другой написать не мог. Читая их, я чувствовал : "Это
сказано человеком, у которого свой взгляд на мир". Саморазоблачения
поэта вообще, по-моему, редко поддаются переводу, но эти,
без сомнения, поддавались. Так я пришел к выводу, что единственное
свойство, которым наделен каждый без исключения, это неповторимость.
С другой стороны, сколько ни назови у любого из нас общих
черт со всеми прочими, начиная с рыжих волос и кончая английским
языком, всегда найдутся десятки качеств, под эту классификацию
не подпадающих. Поскольку стихотворение – составная часть
той или иной культуры, перенести его в другую – нешуточный
труд; но поскольку оно воплощает опыт одного-единственного
человека, человеку другой культуры оценить его так же легко
(или так же сложно), как любому из той культурной группы,
к которой довелось принадлежать автору.
Но если главное у Кавафиса это собственный голос,
то литературному критику тут добавить нечего. Критика живет
сопоставлениями, а собственный голос описать нельзя, его можно
лишь воспроизвести – в виде пародии либо цитаты.
Поэтому взявшись представить читателям книгу
Кавафиса, оказываешься в непростом положении: твои слова могут
иметь какой-то смысл только до тех пор, пока их не прочли,
а потом улетучиваются, и притом немедленно, – так познакомившийся
на вечеринке начисто забывает, кто его представил новому другу.
Главных тем у Кавафиса три: любовь, искусство
и политика, как ее понимают греки.
Кавафис был гомосексуалистом, и его любовная лирика
вовсе не намерена это обстоятельство скрывать. Написанные
людьми стихи подлежат моральному суду точно так же, как совершенные
ими поступки, но по разным основаниям. Задача стихов, среди
прочего, – нести свидетельство об истине. Мораль свидетеля
– в том, чтобы дать как можно более точный отчет о случившемся
и помочь суду (или читателю) судить о происшедшем по справедливости.
Свидетель погрешает против морали, если утаивает правду или
просто лжет, но выносить приговор – не его дело. (В искусстве,
понятно, приходится различать между прямой ложью и неубедительной
выдумкой. Выдумщик рано или поздно разоблачит себя подмигиванием
или каменным лицом; напротив, прожженный враль выглядит совершенно
натурально.)
Кавафис – свидетель предельно честный. Он не подчищает,
не лакирует, не подхихикивает. Любовный мир его лирики – мир
случайных встреч и мимолетных связей. Любовь здесь почти всегда
ограничивается физической близостью, а нежность если и возникает,
то, как правило, безответная. Вместе с тем, Кавафис ни за
что не согласится считать свои воспоминания о минутах телесной
радости несчастливыми или подточенными какой-то виной. Можно
чувствовать вину перед другими, грубо с ними обойдясь или
не принеся им счастья, но никто, каковы бы ни были его моральные
устои, и никогда, если говорить по чести, не станет жалеть
о минуте физического наслаждения как такового. Единственную
критическую реплику, которая тут напрашивается, мог бы отнести
к себе любой поэт. Я хочу сказать, что Кавафис, по-видимому,
все-таки недооценивает редчайший подарок судьбы – свою способность
преображать в несравненные строки тот опыт, который для иных
может быть делом обычным, а то и опасным. Поэзия, заметил
Йийтс, рождается "из самых мусорных углов души",
и Кавафис как будто иллюстрирует эту мысль следующим эпизодом:
Запретное и острое блаженство
отхлынуло. Они встают с матраца
и быстро одеваются без слов.
Выходят врозь, украдкой, и по этой
неловкости на улице понятно:
им кажется, что все в них выдает,
с кем миг назад они упали рядом.
Но так и дорастают до стихов.
И завтра, позже, через годы, сила
наполнит строки, чье начало – здесь.
"Начало"
Но что, неудержимо хочется спросить, стало со
вторым, не-поэтом?
Кавафис смотрит на поэзию как аристократ. Его
поэты не считают себя центром мира и не ждут всеобщего поклонения.
Скорей, они – граждане небольшой республики, каждый из которых
подлежит только суду сограждан, но суду нелицеприятному. Начинающий
Эвмен в отчаянии, что за два года борьбы со словом сумел сложить
лишь одну элегию. Феокрит его утешает:
Взяв первую ступень,
ты должен радоваться и гордиться.
Пойти так далеко – уже не мало.
Твой первый шаг – удача из удач.
Поднявшись на ступень,
ты разом возвышаешься над чернью.
Взойдя на эту первую ступень,
ты стал одним из полноправных граждан
в недостижимом городе идей.
Нелегкий труд, редчайшая удача –
стать в этом городе совсем своим.
Там посреди – Хранители законов,
которых ловкачам не обойти...
"Первая ступень"
Поэты у Кавафиса пишут, поскольку находят в этом
радость и хотят порадовать других, но роль эстетического удовольствия
никогда не преувеличивают.
Пусть вертопрахи числят вертопрахом, –
в серьезном деле я всегда бывал
прилежней всех. Да и теперь считаю,
что сведущ, как никто, в трудах Отцов,
Писанье и соборных уложеньях.
При всяких трудностях,
в любых сомненьях по церковной части
Вотаниат на помощь звал меня.
Но в ссылке (пусть ее снесет злодейка
Ирина Дука!), в этой смертной скуке
я не стыжусь, что тешу сам себя
то шестистопником, то восьмистопником, –
да, тешусь баснями про Диониса,
Гермеса или Феба, про героев
Фессалии или Пелопоннеса
и мне под силу образцовый ямб,
не то что им, столичным грамотеям.
За тщательность я, видимо, и здесь.
"Византийский
вельможа пишет в ссылке стихи"
Кавафиса занимает комическая сторона этих непрямых
отношений поэта с миром. Если человеку действия нужны очевидцы,
а без публики он и шагу не ступит, то поэт корпит в одиночестве.
Конечно, он хочет, чтобы написанное им прочли, но ему нет
надобности встречаться с читателями лицом к лицу: публика,
на которую он больше всего надеется, это последующие поколения,
те, кто придет, когда его уже не будет. Поэтому над листом
бумаги он обязан выкинуть из головы любую мысль о себе и о
других, сосредоточась только на самой работе. Тем не менее,
поэт – не машина для стихокропания, а человек, как все другие,
и живет в конкретном обществе, неся в себе его заботы и пороки.
Вот каппадокиец Ферназ сочиняет поэму о царе Дарии и пытается
вообразить чувства и мотивы, заставлявшие Дария поступать
так, а не иначе. Неожиданно слуга прерывает его сообщением,
что Рим и Каппадокия вступили в войну:
Ферназис вне себя. Вот незадача!
А он как раз надеялся, что "Дарий"
прославит автора, заткнувши рты
всем злопыхателям и критиканам.
Какой провал, какой провал расчетов!
И ладно, если бы его провал.
Но в безопасности ли мы, подумать,
в Амисе? Ненадежный городок.
А римляне в сражении ужасны.
И хватит ли нам сил, каппадокийцам,
их одолеть? Да сбыточно ли это?
И что мы можем против легионов?
Так встаньте, боги Азии, за нас!
Но и среди волнений и тревог
в нем прежний замысел растет и зреет.
Да-да, скорее – гонор и угар.
Вот чувства Дария: угар и гонор.
"Дарий"
За вычетом стихов, основанных на личном опыте,
современный фон у Кавафиса – редкость. Несколько его вещей
отсылают к истории Греции, одно-два – ко временам падения
Рима, а в остальном он сосредоточен на двух периодах: эпохе
греческих царств-сателлитов, основанных Римом после краха
империи Александра, и эпохе Константина и его преемников,
когда христианство вытесняет языческие культы и становится
государственной религией.
Он оставил множество подробностей и острых зарисовок
тех времен. Панэллинский мир у него поражен политическим бессильем,
на политику тут смотрят с удовлетворением циника. Официально
царства-сателлиты пользуются независимостью, но кто же не
знает, что их правители – всего лишь марионетки Рима? Ключевые
для Рима политические события, вроде битвы при Акциуме, здесь
не значат ничего. Хочешь не хочешь, а подчиняться надо, так
не все ли равно, как зовут хозяина?
Таких известий об исходе боя
при Акциуме здесь никто не ждал.
Но переписывать всю речь не надо.
Заменим имя. Вот, вот в этом месте,
в конце, в словах: "Освободивший римлян
от злостного губителя Октавия,
пародии на Цезаря", – теперь
напишем так: "Освободивший римлян
от злостного губителя Антония".
И все. А остальное – хорошо.
"В городке Малой
Азии"
Иные, скажем, сириец Деметрий Сотер, вынашивают
мысль вернуть своей стране былое величие, но и они вынуждены
признать, что это всего лишь мечты.
Он был задет и опечален в Риме,
когда почувствовал в речах друзей,
таких же юношей из высшей знати,
при всей любезности и всем вниманье,
какими среди них был окружен
он, царский сын, наследник Селевкидов, –
почувствовал чуть скрытый холодок
к царям эллинистических провинций,
чей век прошел, а мощь свели на нет...
Вот если бы добраться до Востока,
вот если б удалось бежать из Рима...
Ах, если б снова оказаться в Сирии!
Он мальчиком оттуда увезен
и ничего уже почти не помнит,
но в мыслях он все время видел в ней
святыню, чтимую в глубинах сердца,
и образ греческой земли, картину
любимых гаваней и городов.
А что теперь?
Отчаянье и мука.
Те юноши из Рима были правы.
У наших царств, рожденных македонским
завоеваньем, будущего нет.
И пусть. А все-таки он не смирился.
Он дрался с этим, сколько было сил.
И в черном поражении одно
он вправе записать себе в заслугу:
что даже в крахе миру показал
все ту же несгибаемую стойкость.
Все остальное – призрачно и зряшно.
И эта Сирия ему чужда –
владенье Валаса и Гераклида.
"Деметрий Сотер,
162-150 до Р.Х."
Как видно по этим строкам, Кавафис – один из
считанных поэтов, чьи патриотические стихи, не вызывают чувства
неловкости. В большинстве стихотворных выражений патриотизма
не- возможно отделить одно из высочайших достоинств человека
– любовь к другим – от мерзейшего из человеческих пороков
– коллективного ячества.
Во весь голос и на любом углу патриотические
доблести превозносят обычно в тех государствах, которые предаются
захвату других, скажем, в Риме I в. до н.э., во Франции 1790-х
гг., в Англии девятнадцатого века и в Германии первой половины
двадцатого. Для их народов любовь к своей стране подразумевает
лишение других – галлов, итальянцев, индусов или поляков –
права любить их собственную родину. Но и не выказывай страна
особой агрессивности, подлинность любви к ней, пока она богата,
могуча и пользуется всеобщим уважением, остается под вопросом.
Где будет нынешний патриотизм, когда страна обнищает, утратит
политический вес и поймет, что ни малейших надежд вернуться
к былой славе нет? В какой бы части света ты ни жил, будущее
сегодня до того ненадежно, что вопрос этот стоит перед каждым,
и смысл кавафисовских стихов куда шире, чем видится на первый
взгляд.
Единственное в панэллинском мире Кавафиса, что
вызывает любовь и преданность, неподвластные никакому краху,
это греческий язык. Его восприняли даже чужаки, и язык, сумев
приспособиться к чувствам, непохожим на аттические, стал только
богаче.
А надпись, разумеется, на греческом.
Но только без излишеств и прикрас, –
иначе наш проконсул, всюду рыщущий
и доносящий в Рим, прочтет не то...
Теперь о главном. Проследи внимательно
(и, ради Бога, не забудь, Ситасп!),
чтоб после слов "Правитель" и "Спаситель"
изящным шрифтом выбили "Филэллин".
И хватит изощряться в остроумии
в своих "Да кто здесь грек?", "Откуда
грекам
тут взяться – за Фраатами и Загром?"
Раз варвары еще похуже нашего
такое пишут, подойдет и нам.
И, кстати, не забудь, что временами
к нам забредают то софист из Сирии,
то виршеплет или другие умники...
Мы – не чужие грекам, я сказал.
"Филэллин"
Говоря о взаимоотношениях христиан и язычников
в эпоху Константина, Кавафис не склоняется ни на чью сторону.
Римское язычество – религия светская в том смысле, что ее
ритуалы должны обеспечить государству и его гражданам процветание
и мир. Не обязательно презирая земное, христианство, однако,
всегда подчеркивало, что заботится о другом, нездешнем, почему
и не сулило верным процветания при жизни и осуждало непомерную
привязанность к успеху как греховную.
Поскольку же обязательные для всех граждан законы
заставляли видеть в императоре божество, стать христианином
значило стать законопреступником. Поэтому христиане первых
четырех веков, подверженные искушениям плоти и дьявола не
меньше прочих, воздерживались от мирских соблазнов. Ты мог
обратиться, оставшись вором, но не мог, обратившись, остаться
аристократом.
Однако, после Константина шансы преуспеть в жизни
открылись как раз для христиан, тогда как язычники, даже не
подвергаясь преследованиям, стали общественным посмешищем.
В одном из стихотворений Кавафиса сын языческого
жреца обращается в христианство.
Иисус Христос, мой ежедневный труд –
ни в чем не поступаться предписаньями
твоей святейшей церкви в каждом деле
и в каждом слове, даже в каждой мысли.
Любого, кто отрекся от Тебя,
я сторонюсь. Но я сегодня в горе,
Христос, я плачу о моем отце,
который был – чудовищно сказать! –
жрецом в кумирне гнусного Сераписа.
"Жрец Сераписа"
В другом император Юлиан прибывает в Антиохию,
чтобы проповедовать неоязыческую веру собственного изобретения.
Но для антиохийцев христианство давно стало условным обрядом,
который они исполняют, не примешивая к нему никаких чувств,
а потому они просто потешаются над императором как над ста-
рой пуританской кочерыжкой.
Отречься от прелестного порядка
привычной жизни? От разнообразья
дневных утех? От дивного театра?..
Отречься от всего, чтобы прийти – к чему?
К болтанью о неподлинных богах?
К невыносимым самовосхваленьям?
К ребяческому страху перед сценой?
К нелепой важности? К потешной бороде?
Ну нет, они предпочитают "хи",
ну нет, они предпочитают "каппу",
сто раз "каппу".
"Юлиан и антиохийцы"
Надеюсь, цитаты дали некоторое представление
о складе речи Кавафиса и его взгляде на жизнь. Если он оказался
читателю не близок, я ума не приложу, как тут быть. Поскольку
язык создается не отдельным человеком, а социальной группой,
о нем удается судить, так или иначе, объективно. Поэтому,
читая стихи на родном языке, можно считать выраженные в них
чувства себе чужими, а восхищаться словесной формой. Но в
переводе имеешь дело только с образом чувств и либо принимаешь
его, либо нет. Мне повезло: я кавафисовский принял.
Перевод Б. Дубина
|