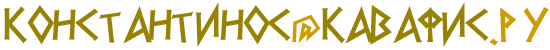Драма
в трех действиях
ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ
Тетушка
Кали, кира Лени, Лефтерис, 4 молодых человека, Петрос,
Йоргис, 8 юношей перед карательным отрядом. Хор шести
старух в черном. Мегафоны.
Декорации те же: три кипариса и их тени.
Изгородь. Тетушка Кали пишет лозунг на стене. Поодаль
кира Лени стоит "на стрёме". Прожектор освещает
лозунг: "Долой предателей" и руку тетушки Кали.
ТЕТУШКА КАЛИ
(Тихо):
Уходи. Я закончила. Осталось последнюю букву дописать.
КИРА ЛЕНИ
Ухожу,
и ты не задерживайся. Зайди ко мне, когда домой пойдешь,
а то буду беспокоиться.
Т. КАЛИ
Хорошо,
зайду. Кончаю.
Кира Лени уходит. Справа осторожно, держась
в тени, пробирается Лефтерис.
ЛЕФТЕРИС
(Про себя):
Вот это да! Какая-то старуха на стене пишет. Добрый знак.
Стало быть, и старики зашевелились.
Т. КАЛИ
(Словно почувствовав присутствие человека за спиной,
съеживается и слегка поворачивает голову. Видит в темноте
кого-то, но не различает лица).
Кто там? Земляк! Патриот!
ЛЕФТЕРИС
(Узнает по голосу мать. Про себя): Ба! Это же мама! (Изменив голос, строго и резко): Старуха, ты что здесь делаешь?
Т. КАЛИ
Не
видишь, что ли, парень? Вот, стираю. Около моего дома
кто-то намазал, а я стираю... Боюсь, не нажить бы неприятностей...
ЛЕФТЕРИС
(Измененным голосом): Кому ты врешь, старуха? Мне? Стираешь или пишешь?
Т. КАЛИ
А
если и так, дорогой мой, что в этом плохого? Разве я кому
навредила? Сам-то ты кто – грек? У тебя что – сердце не
болит за эту землю?
ЛЕФТЕРИС
(Смеется со сдерживаемой радостью): Эх, мама, мама...
Т. КАЛИ
Сынок
мой, Лефтерис... Ты ли это?
ЛЕФТЕРИС
Я,
мама. Я.
Т. КАЛИ
Букой
притворяешься? Хочешь маму напугать?
ЛЕФТЕРИС
Ты
же не испугалась. Тебе сердце подсказывает, старенькая
моя мама.
Т. КАЛИ
Подсказывает,
сынок. Такие храбрые у меня дети, могу ли я их опозорить?
Скажи лучше, чего тебе надо на улицах в такой час?
ЛЕФТЕРИС
А
тебе чего надо?
Т. КАЛИ
Мне?
Я...
ЛЕФТЕРИС
Стало
быть, это ты тот самый преступник, который во всей округе
исписал стены лозунгом "Долой предателей", а
нам и места не оставила написать еще что-нибудь.
Т. КАЛИ
Да,
сынок. Это я, несчастная.
ЛЕФТЕРИС
Скажи
лучше: где ты писать научилась?
Т. КАЛИ
Сама,
хороший мой.
ЛЕФТЕРИС
Выучила
бы еще что-нибудь, чтобы не твердить одно и то же.
Т. КАЛИ
Так
ведь трудно, сынок. Трудно.
ЛЕФТЕРИС
А
это как ты выучила?
Т. КАЛИ
Это
самое простое, Здесь есть баранки.
ЛЕФТЕРИС
(Смеется):
Много баранок, говоришь? Ах, мама ты моя, мамочка...
Т. КАЛИ
Не
смейся, сынок, над матерью.
ЛЕФТЕРИС
А
теперь, госпожа боец, я задам тебе один вопрос: кто поручил
тебе эту работу?
Т. КАЛИ
Никто...
Сердце мое.
ЛЕФТЕРИС
(Смеясь):
Так, значит? Твое сердце...
Т. КАЛИ
Да,
сынок. А что? Не надо было, потому что я не состою в Организации?
ЛЕФТЕРИС
Конечно,
не надо было. Нельзя, чтобы каждый поступал, как ему вздумается.
Т. КАЛИ
Не
говори со мной так, Лефтерис. Не пугай. Ведь это у меня
одно утешение…
ЛЕФТЕРИС
Ладно,
ладно. Идем, уже поздно. Потом поговорим.
Т. КАЛИ
Нет,
скажи, если нельзя. Только ты, Лефтерис, поручи мне какую-нибудь
другую работу. Не могу я сидеть, сложа руки, когда все
работают. Неужели сердце твое выдерживает – твоя мать
последняя из всех? Когда придет Свобода, она спросит меня:
а ты, старуха, что для меня сделала? Что я тогда отвечу?
ЛЕФТЕРИС
Мама,
дорогая ты моя, да ты в десять раз больше, чем мама...
Т. КАЛИ
Вот
я и говорю: поручи мне какое-нибудь дело. Здесь у меня
плохо получается. Если это неправильно, скажи. И научите
меня писать хотя бы несколько букв. Я бы и другим старухам
показала, как надо писать.
ЛЕФТЕРИС
Все
ты правильно говоришь. Идем, поздно уже. Работу закончила?
Т. КАЛИ
Закончила.
Только двух букв не хватает. Перебил ты меня…
ЛЕФТЕРИС
Оставь.
Люди и так поймут.
Т. КАЛИ
Не
люблю, когда наполовину. (Продолжает писать).
ЛЕФТЕРИС
Всё,
мама. Кончай.
Т. КАЛИ
Потихоньку,
помаленьку... И как договорились: поручи мне другое дело.
ЛЕФТЕРИС
Хорошо,
мама. А теперь пошли.
Темнота. На минуту издалека доносится
песня «Народовластие». Отдергивается занавеска. Опять
та же комната, но нет в ней фруктовых ваз, подушек, коврика
с вышивкой "И это пройдет", некоторых рам, что
были на стенах. На столе без скатерти три пепельницы с
горой окурков, несколько кусков хлеба, кувшин с водой
и две глиняные кружки. Вокруг стола сидят четверо молодых
людей в возрасте 20-25 лет и Лефтерис. Перед каждым листочки
бумаги. Лампа зажжена. Сквозь закрытые ставни пробивается
желто-красный отсвет заката, смешивающийся с бледным светом
лампы.
ОДИН ИЗ ЮНОШЕЙ
Надо
обязательно подыскать другой дом. Нельзя приходить сюда
после стольких...
ДРУГОЙ
Да
везде одно и то же. Впрочем, именно потому, что как раз
в этом доме столько всего произошло, не думаю, что мы
осмелимся его снова использовать. Для нас это предостережение.
Посмотрим. А теперь пора уходить.
ЛЕФТЕРИС
Товарищи,
перед тем, как разойтись, я хотел бы предложить принять
в нашу партию еще одного члена. Мою мать. Нелегко говорить
о собственной матери. Но я уверен: мы должны отбросить
как эгоизм, так и ложную скромность. Моя мать – человек
верный и преданный. Во имя борьбы она готова отдать все.
Один из ее сыновей, мой брат Алекос, – вы его знаете,
– уже несколько месяцев томится в Хайдари. Другой мой
брат, Петрос, был арестован на днях, и мы пока ничего
о нем не знаем. А моя мама, тетушка Кали, как ее все называют,
исписала все стены домов в нашем квартале лозунгом "Долой
предателей". Добралась уже до стен полицейского участка.
Я сам застал ее однажды вечером за этим занятием, и она
мне призналась. А ведь она неграмотная. Сама научилась
писать этот лозунг заглавными буквами. Знаю, она готова
на всё и будет хорошим, верным товарищем. Итак…
ВСЕ
Да,
да, тетушка Кали. Принимаем.
Т. КАЛИ
(Появляясь в дверях из кухни со старым серебряным подносом
в руках. На подносе кофейные чашечки). Можно войти, ребята? Вы закончили?
ЛЕФТЕРИС
Входи,
мама.
Т. КАЛИ
Я
вам кофейку принесла. Тоже мне кофе. Одно название. Горох
толченый. Лефтерис, отодвинь кувшин.
ЛЕФТЕРИС
Послушай,
мама...
Т. КАЛИ
(Все еще держа поднос): Что, сынок?
ЛЕФТЕРИС
С
сегодняшнего дня ты вступаешь в Организацию. Ты стала
членом партии.
Т. КАЛИ
Дети
мои, я? Я… член партии... Не надо, не говорите мне, дорогие
мои…
ЛЕФТЕРИС
Да,
мама. Ты что – не хочешь?
Т. КАЛИ
Спрашивают
у слепого: хочешь прозреть? Только я…
ЛЕФТЕРИС
Поставь
кофе на стол, а то поднос уронишь, товарищ мама.
Т. КАЛИ
(Все еще с подносом в руках): Я – товарищ?... Да что я такого сделала, сынки вы
мои? Я же ничего не знаю, чурбан неотесанный. "Свобода
или смерть" все еще не научилась написать. Я – товарищ...
Дорогие мои, и мне можно называть вас товарищами? Да?
И вы мне поручите какую-нибудь работу: ну, там, газеты
разносить, листовки, или снаряды... Товарищи, дети мои...
Не знаю, как сказать... Такое я во сне только видела...
Мечтала, когда готовила еду или стирала… Не знаю, как
сказать… Я же старуха... Сколько мне жить осталось, сколько
я смогу работать... Была бы я молодой, было бы у меня
две жизни, пять, десять – сто жизней я бы все отдала,
только бы вы называли меня товарищем... А теперь что?
Нет, нет, вы меня называйте – на сердце легче становится,
товарищи... От одного только этого слова – товарищи...
И за сына моего Алекоса, и за Петроса – не знаю, что с
ними. И называю вас своими детьми. Вы – мои дети... Мои...
Да, я буду работать... Пока ноги держат... А вы иногда
называйте меня товарищем... Не знаю, что говорю, совсем
растерялась…
ЛЕФТЕРИС
Поставь
поднос, мама. Кофе разлила.
Т. КАЛИ
Поставлю,
дети мои, поставлю. (Ставит
поднос и утирает глаза). Вот я и расплакалась. Какой
из меня товарищ, если плачу... Вы уж простите меня, ребята,
я не хотела. (Остальные
пьют кофе, чтобы скрыть волнение). Слезы сами льются,
Вы не думайте, ребята, что это от огорчения. И не из-за
Алекоса и Петроса. Они сами льются. От радости… Ну, всё...
Извините меня.
ЛЕФТЕРИС
На
сегодня всё, товарищи. (Встает. Остальные тоже встают, собирают бумаги).
ВСЕ
(Прощаются с тетушкой Кали): Спокойной ночи, товарищ.
Т. КАЛИ
Спокойной
ночи, дети мои.
ОДИН
Товарищ,
мы сказали.
Т. КАЛИ
Да
– спокойной ночи, товарищи.
ЛЕФТЕРИС
Спокойной
ночи, товарищ мама.
Т. КАЛИ
Спокойной
ночи, товарищ сын. Разве ты тоже уходишь?
ЛЕФТЕРИС
Дело
есть, товарищ.
Т. КАЛИ
Хорошо,
товарищ.
ЛЕФТЕРИС
Будь
здорова, мама.
Т. КАЛИ
Будь
здоров и ты, сынок. Погоди, погоди, совсем я, старая,
заболталась. Погоди. Вот твой хлеб, маслины. Здесь, в
узелке.
ЛЕФТЕРИС
(Берет узелок. Останавливается и с любовью всматривается
в материнские глаза).
Товарищ...
Т. КАЛИ
(Словно дожидалась этого слова, прижимает голову сына
к груди).
Товарищ... Не знаю, за что люблю тебя больше: за то, что
ты мой сын, или за то, что мой товарищ. Иди, да благословит
тебя Бог. Да хранят тебя Богородица и Свобода...
ЛЕФТЕРИС
Не
скажешь мне, как прежде: береги себя?
Т. КАЛИ
Нет,
товарищ. Делай, что нужно. Не думай ни о любви, ни боли
моей…
ЛЕФТЕРИС
(Взволнованно, с нежностью): Спокойной ночи, мама.
Т. КАЛИ
(С волнением, просто и серьезно): Спокойной ночи, сын.
ЛЕФТЕРИС
Удачи
тебе, товарищ.
Т. КАЛИ
И
тебе, товарищ, удачи. (Лефтерис поворачивается, чтобы уйти, но тетушка
Кали хватает его за рукав). Ты куда? А мне какую работу
выполнять? Какой же я член Организации – для виду, что
ли?
ЛЕФТЕРИС
К
тебе придет руководитель.
Т. КАЛИ
(Удивленно):
А?.. (Пауза).
Будь здоров, сын.
ЛЕФТЕРИС
Прощай,
мама. (Уходит).
Т. КАЛИ
(Стоит, прислонившись головой к двери. Не поворачиваясь,
утирает глаза. Бормочет): Я – товарищ... (Через некоторое
время с выражением радости на заплаканном лице подходит
к окну, открывает его, чтобы проветрить комнату).
Сколько дыму, весь дом пропах... (Всматривается в небо, потом подходит к столу,
убирает чашки и пепельницы. Берет поднос и медленным шагом
уходит на кухню).
Комната погружается во мрак, едва освещенная
лампой. Бесшумно, словно бы сама собой, отворяется дверь
и, как тень, входит Петрос – бледный, небритый, в лохмотьях,
босой.
ПЕТРОС
(Его голос доносится будто издалека): Мама, мама... (Молчание).
Мама, еще рано... Я не хочу уходить... Не могу. Я ничего
не успел... Даже как следует посмотреть на солнце... Мама,
гудит голова моя... Гудит… А сердце – словно молотом по
железу. Не могу я, мама... Так быстро – так – я и дух
перевести не успел… Не успел ничего доделать до конца.
Вот книга – прочитана только до середины. Страница 138...
Сколько еще нужно мне прочесть... Эта лампа светила мне..
Стол... Этажерка... Вот раковины – я собирал их тогда.
Когда? Вчера? В прошлом году? В позапрошлом? Это было
у моря... Воскресенье... Какие были лодки... Паруса плескались
на ветру... А как пахли водоросли, мама... Казалось, мы
никогда не умрем... Стояла жара. Хорошо тогда было...
Столики у самого моря – запах жареной рыбы – и девушка...
Она смеялась, а ее блестящие зубы были, как миндаль, когда
ты чистишь его для куличей... Я не собирался, мама, уходить
так – не хочу. В ящике комода моя полосатая футболка –
белая с синим. Она шла мне, мама, я знал... И белые трусы.
У меня сильные ноги. Мне сказала об этом позавчера вечером
Элени, дочь Мариго. Я не успел... И тот гол, гол в прошлое
воскресенье... Мяч теперь спущенный, у меня под кроватью...
Ах, мама... Так рано... Не могу, мама, не хочу... Нет.
(Прислоняется к
стене, громким хриплым голосом, почти визжит): Не
хочу... Не хочу... (Пауза. Он словно прислушивается
к своему голосу в темной комнате): Эта тень, что
падает на меня... Это отверстие... Боже мой, будто глаз
без ресниц... Куда ни спрячься, он смотрит на тебя...
Нет, нет, не хочу... (Пауза. Теперь говорит мягко, с горечью): Почему? Что я сделал? Еще
немного – и… Как вкусно пахло свежим хлебом… Какой запах
шел от земли при первых дождях. Когда наступала весна,
на деревьях распускались почки... Мама мыла окна... Девушки
хихикали у витрин модных магазинов... А небо! – Какое
голубое было небо!... Я ничего, ничего не успел... (Пауза).
Мама, мама, от рук твоих пахло зеленым мылом и любовью.
Я не успел надеть свой летний галстук... На моей выходной
рубашке не хватает одной пуговицы. Не пришивай ее, мама.
Больше не нужно. И не ставь тарелку на моем месте. Ничего
больше не нужно. Свои черные очки этим летом я уже не
надену. Отдай их моему другу Йоргосу – они ему очень нравились.
А мне ничего больше не нужно... Да, мама, не бойся. Я
не жалею – я – да ладно. Не успел – ну и что? Не бойся,
мама: они не увидят меня ни трусом, ни огорченным – такой
радости я им не доставлю. Тебе не придется стыдиться за
сына. Нет, нет – будь уверена. Выше голову. Вот так. Поцелуй
за меня товарищей, мама. Скажи, чтобы много работали –
много и за меня, и за других. А придет весна, оставьте
в ней место для нас. Очень рано ушли мы, мама, слишком
рано. Если я и не стал ничем – неважно... Так рано...
Вы продолжите наше дело. Вспоминайте нас... Да и ту пуговицу
все же пришей на рубашку, мама. Ты не знаешь, что я учился
стрелять... Не успел... А футбольный мяч пусть Йоргос
надует – насос под кроватью... Мама, руки твои пахли зеленым
мылом... А по вечерам было тихо-тихо... Не надо плакать.
Нет, нет. Вы – как было сказано... А мы – так рано...
Да, мама, не бойся – вот так, с высоко поднятой головой
– ты увидишь: или жить свободными, или умереть. Прощай,
мама... И не плачь, не надо. Прощай и будь здорова. (Бесшумно исчезает, как и пришел – как тень).
Т. КАЛИ
Вроде
бы какая-то тень выскользнула в дверь... И шаги слышались
– любимые шаги – и его голос... Боже мой, он, кажется,
говорил: мама, мама… (Подходит
к иконам). Пресвятая Богородица, спаси и сохрани детей
наших. (Пауза). Свет какой тусклый стал. Наверно,
керосину в лампе нет. (Походит
к столу. Встряхивает лампу, поднимает ее повыше, свет
усиливается. Вынимает из кармана бумагу и карандаш и старательно
пишет). Я уж это выучила. "Свобода или смерть".
(Перестает писать.
Стоит в задумчивости, прислушивается). Я хорошо слышала
– голос Петроса звал: мама, мама... (Словно
стараясь отогнать эту мысль): Убедимся еще раз, как
мы это выучили. Да. (Пишет, произнося по слогам): Сво-бо-да
и-ли смер-ть... Сегодня ночью я это напишу. (Улыбается).
Я теперь член партии... (Кончиком
платка утирает глаза и с радостным всхлипыванием повторяет):
член партии! (Мгновенно приходя в себя). А как же Лени?
Мы же всю эту работу вместе делали. Почему надо хвалить
меня одну? В другой раз я ее "предложу" – так,
что ли, говорят? Предложу принять ее в партию. Так, мол,
и так. Кира Лени достала краску, ведерко, и кисточка тоже
ее, и на стрёме стояла – мы одной опасности подвергались.
Так что, товарищи, я – чурбан неотесанный – предлагаю
принять Лени... (Замолкает и прислушивается. Взволнованно): Его голос... И свет лампы
потускнел... Мама, мама?
ГОЛОС ЙОРГИСА
(Жалобно):
Мама... Мама...
Т. КАЛИ
(Сама с собой): Бедненький Йоргис... Так и бродит по улицам с тех пор, маму свою ищет.
Как только духу хватило у убийц сжечь живьем мать на глазах
у ребенка? Говорят, она партизан укрывала... Как его сердечко
выдержало... В уме повредился, несчастный.
ГОЛОС ЙОРГИСА
Мама...
Мама...
Т. КАЛИ
(Прячет свои бумаги. Идет к двери, открывает ее, зовет):
Йоргис, а Йоргис... Иди сюда, иди. Я погляжу на тебя,
мальчик мой.
Входит Йоргис, в лохмотьях, нечесаный.
Смотрит куда-то вдаль, словно не видя тетушки Кали. Она
тоже растеряна. Пропускает его в дом, закрывает дверь.
ЙОРГИС
(С бессмысленным взглядом говорит сам с собой): Мама моя, мамочка... На ней было черное-пречерное
платье и звезда на сердце...
Т. КАЛИ
Сядь,
Йоргис, сынок. Отдохни.
ЙОРГИС
(Не слышит ее). О, как плачет свет – как свет плачет. Если свет плачет, значит кто-то
уходит из жизни.
Т. КАЛИ
(Рассеянно и печально): Кто-то уходит из...
ЙОРГИС
(Продолжает говорить, не останавливаясь): Как плачет свет – и моя мама плакала – слезы лились
у нее из глаз на костер, чтобы его потушить... потушить
его... А-а-а... А-а-а… Слышишь она зовет меня: "Йоргис!
Йоргис!" (Воет, выкрикивая по слогам): Ма-ма, ма-ма... Как холодно... Собаки
лают на луну... А огонь жжет, жже-е-т... Мама, мамочка!
(Стук в дверь. Тетушка Кали открывает. Входит кира Лени и неподвижно останавливается
на пороге, глядя на Йоргиса, который продолжает кричать):
Мама моя... Ты ее видела? Видела?
К. ЛЕНИ
Несчастный.
(Закрывает дверь).
Т. КАЛИ
Сядь,
Йоргис. Я сейчас тебе чего-нибудь горяченького приготовлю,
и ты согреешься, мальчик мой.
ЙОРГИС
Мама
моя, мамочка...
К. ЛЕНИ
(Шепотом тетушке Кали): Мы пойдем сегодня?
Т. КАЛИ
Да,
да. (Йоргису): Сейчас горяченького дам...
ЙОРГИС
Горячего,
горячего – горячий огонь – где сесть? Высоко... Очень
высоко… Много ступенек... Моя мама в платье из огня –
поднимается высоко и зовет меня... Вы не видели мою маму?
(Воет).
Т. КАЛИ
(Сует ему в руку кусок хлеба). На, поешь, сынок...
ЙОРГИС
(Продолжает выть, вонзая зубы в хлеб): Мама была в черном платье...
К. ЛЕНИ
(Шепотом):
Ведерко я спрятала за камнем.
ЙОРГИС
...
а на сердце звезда...
Т. КАЛИ
Хорошо,
пойдем. (Йоргису): Ты поешь хлебушка, поешь.
ЙОРГИС
(Бросается к двери). Слышите? Она зовет меня... Вон она... Уходит... Мама,
погоди... Я устал…
Т. КАЛИ
Сядь,
сынок.
ЙОРГИС
(Не слышит ее, продолжает) ... и хочу спать... Как мне хочется, мама, поспать
у тебя на коленях. (Открывает
дверь и стоит на пороге, всматриваясь в ночь. Хлеб падает
у него из рук, когда он открывает дверь на улицу, словно
следуя за кем-то вслепую). Она уходит... Мама, постой.
За ее черным платьем звезда. Я иду, мама. Ма-ма-а... Ма-ма-а-аа…
(Оставив дверь открытой, исчезает в ночи. Только
слышен его голос, зовущий мать).
Обе женщины стоят без движения. Потом
тетушка Кали опускается на стул и сидит, опершись на стол,
словно окаменев, без рыданий. Кира Лени закрывает дверь,
поднимает с пола хлеб, целует и кладет его под иконами.
Тишина.
К. ЛЕНИ
Как
холодно сегодня. Очень холодно. (Молчание.
Подходит к тетушке Кали, кладет ей руку на плечо):
Не надо так. Мы не выйдем сегодня? (Тетушка Кали не отвечает). Ничего. Пойдем
завтра.
Т. КАЛИ
(Подняв голову, смотрит на нее, словно издалека). Пойдем.
К. ЛЕНИ
Что
ты на меня так смотришь?
Т. КАЛИ
Сегодня
пойдем.
К. ЛЕНИ
Слыхала?
Наши в Панкрати и в Коккинья задали им жару.
Т. КАЛИ
В
Панкрати? И в Коккинья? Краску принесла?
К. ЛЕНИ
Я
же тебе сказала.
Т. КАЛИ
Ах,
да... Иногда... Ну да ладно. Знаешь, Лени, сегодня вечером...
Так что случилось в Коккинья?
К. ЛЕНИ
Семь
собак уничтожили. Что ты хотела сказать и не договорила?
Т. КАЛИ
Я
хотела сказать… Сегодня вечером меня записали в партию...
Не надо бы говорить, это секрет... Но тебе...
К. ЛЕНИ
(Растерянно и немного огорченно): Не надо меня предупреждать, не проболтаюсь – вот
те крест... Член партии... Как мой сын... Но ты это заслужила
с лихвой. Теперь, значит, можешь писать на стенах сколько
хочешь. Теперь можно? Да?
Т. КАЛИ
В
другой раз я предложу, чтобы и тебя приняли.
К. ЛЕНИ
Меня?
Меня – в партию? Да мне такого и не снилось.
Т. КАЛИ
Зачем
так говорить? Разве ты не отдала борьбе сына? Разве мы
не вместе делали работу? Ты – краска, я – рука. Ты караулишь,
я пишу. Поровну. Что бы я делала без тебя? Я им скажу:
так, мол, и так, она достойна – вот увидишь.
К. ЛЕНИ
Да
я что, я ничего не говорю... Только не могу поверить.
Стало быть, примут? Знаешь, я ведь тоже стараюсь. Уже
научилась писать две буквы – «А» и «О».
Т. КАЛИ
И
скрываешь от меня?
К. ЛЕНИ
Как
говорится, на всякий случай. Вдруг – не дай Бог – с одной
из нас что-нибудь… Чтобы стены не оставались пустыми.
Т. КАЛИ
Как
ты учишься – сама?
К. ЛЕНИ
Меня
Катиница учит, дочка Костанду.
Т. КАЛИ
Вижу,
ты меня обогнала. А меня научишь?
К. ЛЕНИ
А
как же.
Т. КАЛИ
Ну,
Лени, считай, что ты уже в партии. Мой Лефтерис говорит,
что настоящий коммунист должен сам учиться и обязан учить
других.
К. ЛЕНИ
Подумать
только: когда всё изменится, мы тоже пойдем в школу...
Т. КАЛИ
А
как же...
К. ЛЕНИ
И
понесем сумку с книжками?
Т. КАЛИ
Почему
нет?
К. ЛЕНИ
И
сядем за парту со своими внуками? Стыдно же...
Т. КАЛИ
Учиться
не стыдно, стыдно ничего не знать. Мой Петрос говорит:
в России даже дряхлые старухи ходят в школу. И не такие,
как мы с тобой, мы еще держимся. И гляди: когда учишься,
вроде бы моложе становишься. У человека и глаза открываются,
и душа – он начинает яснее видеть.
К. ЛЕНИ
Правильно
говоришь. С тех пор, как борьба началась, мне кажется
– я только вчера родилась на свет... Пусть мы даже погибнем...
Все же и от нас была какая-то польза...
Т. КАЛИ
И
от нас какая-то польза... Только...
К. ЛЕНИ
Словно
бы весь мир стал шире, светлее... Когда вечером ложусь
спать, разные мысли не дают уснуть... И за ребят тревожишься,
и за людей радуешься. Думаю, ведь и мы что-то сделали...
Написали... Думаю об этом, и сердце начинает биться, как
пойманный воробышек. И – как бы это сказать? Кажется за
забором моего дома собрались миллионы людей со знаменами
и поют... поют...
Т. КАЛИ
Мне
тоже иногда чудится, будто плачут. Поют и опять плачут...
И поют хриплыми голосами.
К. ЛЕНИ
Мне
вот приснилось недавно – чего только во сне не увидишь!
– будто бы я держу на руках солнце... А солнце это – толстенький
малыш, и дышит так тепло мне в щеки... Это все из-за борьбы.
Т. КАЛИ
(Задумчиво):
Эта борьба – и горе, и радость... Вот как ты во сне увидела:
теряешь детей, и твоим ребенком становится солнце... Только
тебе все равно больно. Будто гвоздь большой всадили в
сердце. Страдаешь, боишься потерять кровиночку свою –
ведь эту потерю ничем не восполнишь... (Замолкает
и прислушивается). Сегодня вечером мне все слышится
голос Петроса. Будто зовет меня: мама... мама...
К. ЛЕНИ
Не
надо говорить о плохом – беду накликаешь. Это голос Йоргиса.
Не слышишь?
Т. КАЛИ
Да,
Йоргиса... Он говорил перед тем, как ты пришла: Когда
свет плачет, кто-то уходит из этого мира...
К. ЛЕНИ
О
чем ты? Это же слова помешанного.
Т. КАЛИ
Господи,
помоги нам... Не знаю, но сегодня вечером...
К. ЛЕНИ
Хватит
об этом. Пойдем мы или нет? Ты новое выучила?
Т. КАЛИ
Выучила...
«Свобода или смерть»...
К. ЛЕНИ
Почему
так печально говоришь? А еще член партии!
Т. КАЛИ
Да.
(Немного оживившись): Свобода или смерть! (С горечью): Пошли.
Темнота. Задвигается занавеска. В темноте
слышны несколько юношеских приглушенных голосов. Они поют:
Без воды погибнет рыба, и цветы не расцветут.
Ну а эллины без воли, без свободы не живут.
Прощайте, родники, откуда воду пили,
Прощайте, поля, горы, где хоровод водили.
Сцена освещается. Рассвет зимнего, холодного
дня. Восемь парней в расстегнутых рубашках танцуют сирто
и поют перед дулами винтовок карательного отряда. Самого
отряда не видно, только стволы винтовок загораживают сбоку
горизонт, подчеркивая тем самым глубокую грусть и героизм
смертников. Хоровод ведет Петрос, бледный, гордый и бесстрашный.
Песня.
Раздается залп, и в тот же миг наступает
темнота. Издалека доносятся голоса через
МЕГАФОНЫ
Свобода
или смерть! Свобода или смерть! Свобода или смерть!
Неожиданно луч прожектора высвечивает
свеженаписанную на заборе надпись: "Свобода или смерть"
и руку тетушки Кали, выводящую кисточкой последнюю букву.
Чуть в стороне смутно различается фигура кира Лени с ведерком
в руке, издали слышно, как кричат в мегафоны: "Свобода
или смерть!" (3 раза).
ХОР ШЕСТИ СТАРУХ В ЧЕРНОМ
Сумерки. Шесть старух сидят на земле.
У каждой в руках узелок с одеждой расстрелянного сына.
С ними тетушка Кали, безмолвная и неподвижная.
ПЕРВАЯ СТАРУХА
Ах,
сын мой, сыночек мой...
ВТОРАЯ
Мальчик
мой, птенчик мой...
ТРЕТЬЯ
Сердечко
мое...
ЧЕТВЕРТАЯ
Угас
ты, мальчик мой, и весь свет померк…
ПЯТАЯ
Зачем
ты, птенчик мой, оставил меня одну, словно почерневшее
дерево в заснеженном поле.
ШЕСТАЯ
Как
вернуться мне в осиротевший наш дом без тебя, ни одна
звездочка не зажигает свечу, чтобы осветить мне дорогу.
ВСЕ
Сжался
ветер. Тесным стал двор – дышать не могу.
Весь мир стал тесным. Двинуться не могу.
Мир стал тесным, мой сын, словно склеп –
я не в силах в нем повернуться.
ПЯТАЯ
...
а месяц, сынок, красный-красный, как ободранное сердце.
ВТОРАЯ
Какой
месяц? Не вижу. Только кость висит в воздухе на веревке,
рука – кость, нога – кость, надежда – кость –
куда ни глянешь, кости заслоняют глаза.
ВСЕ
Гора
– это гора костей.
Море – это море крови.
Весь мир – одни только кости.
ЧЕТВЕРТАЯ
...
Месяц – тоже кость, желтая, обглоданная кость в зубах
собаки-ночи.
ПЕРВАЯ
Не
вижу, не различаю – ничего не осталось мне, сын,
Только этот вот узелок.
Он еще пахнет твоим потом, мой птенчик,
и в твоей футболке подмышками еще тепло.
Все еще говорит мне одежда твоя: мама, мамочка...
ЧЕТВЕРТАЯ
Кого
ждать мне теперь, сын, по вечерам?
Для кого зажигать лампу по ночам?
Для кого накрывать на стол, мой сынок?
Для кого вспыхнут цветочки весной?
ШЕСТАЯ
Носки
я постирала, сынок, и положила их в ящик,
и брюки погладила к воскресенью,
зашила твою белую рубашку –
тебе шло белое, мой птенчик.
Ты такой же смуглый, черный, как отец,
а белая рубашка – словно миндальное дерево в цвету на
скале.
Я знала: девушки заглядываются на тебя. Гордилась.
Ты стал курить – по вечерам от тебя пахло табаком.
От меня ты скрывал, но я знала, хотя ничего тебе не говорила.
Я ни разу не видела, сын, как ты куришь –
Не успела, сынок, не успела.
ТРЕТЬЯ
Ах,
сынок, целыми днями ты не бывал дома,
вырос ты и перестал меня слушаться.
Приходил по ночам в запыленных ботинках,
в пропитанной потом рубашке – меня ты не слушал,
носился все с теми бумагами, спрятанными за пазухой,
будто огонь носил у самого тела – я боялась,
боялась, сынок, но и любовалась тобой – это было похоже
на боль и радость при родах.
И так каждый день, в страхе, мне казалось – я снова рожаю
тебя.
А ты со своими товарищами все говорил и говорил без конца.
Ах, мама, придет "мать-Свобода" – так ты мне
говорил.
Ах, "придет" говорил ты мне всякий раз, когда
я ругала тебя.
Что мне делать, сынок, со свободой, если не будет тебя?
ПЯТАЯ
Зачем
уходить тебе, мальчик мой, зачем уходить?
Все было прекрасно, сынок. Зачем уходить?
Пусть не было хлеба, пусть не было масла, пусть не было
угля – мы как-то перебивались.
Было в доме спокойно, сынок, и старая кровать с бронзовыми
шишечками была крепкой, и серьезной, как Святой престол.
Когда ты на кровати лежал, бронзовые шишечки сияли,
как четыре солнца, сынок; сияла комната,
я слышала твое дыхание – им наполнялась комната,
наполнялось и сердце мое – так наполняется старый кувшин
у родника.
И стол был надежным, как деревья,
надежными были и стулья, словно ступеньки, ведущие в маленький-маленький
рай.
И блестели на полке свежевымытые тарелки,
похожие на ряд воскресных месяцев. Для чего тебе уходить?
ВТОРАЯ
Ох,
сынок, говорила тебе: поостерегись, поостерегись.
Не ходи ночью по переулкам. Не уходи далеко.
Звезды коварны, сынок: не успеешь и рта открыть, как лишат
тебя речи.
ЧЕТВЕРТАЯ
Месяц
коварен – движется по черепице, словно паук, – подстерегает.
Плетет какие-то тонкие нити – ты их не видишь, а они опутывают
тебя.
Откуда-то издалека, из-за кипарисов, чей-то голос взывает
о помощи.
ШЕСТАЯ
Издалека...
Почему, сердечко мое, не остался ты дома?
В палисаднике нашем два розовых куста,
был и колодец – ты мог поливать цветы на закате.
Заря приносила нам в изобилии синьку для домотканной одежды,
ночь приносила нам в изобилии звезды, окропляла тебе волосы
звездами –
так окропляет прохлада крылья соловья.
Ничего, сынок, что мы плакали иногда –
от плача на сердце становится легче.
У меня не было ничего, но был ты, сынок, и мне этого было
довольно.
У нас не было пальто на зиму, а башмаки твои
прохудились. Свои, мальчик мой,
я прятала под стулом, чтобы ты не увидел.
Нет, ты не видел... А черное платье свое – я тебе ничего
не сказала –
Я изрезала на подкладку для твоего пиджака.
Потому я и не выходила. Ничего. Зачем тебе уходить?
У тебя такие тонкие руки – и в них оружие...
ВТОРАЯ
Они
были легкими и красивыми. Куда ты пошел со своими тонкими
руками?
Когда ты говорил "мама", я забывала обо всем!
о долгах бакалейщику, зеленщику, булочнику.
О морщинах у глаз, на руках и на сердце,
и о той большой тени, что уселась у наших дверей...
Когда ты говорил "мама", было покойно – светало...
Глубоко-глубоко оседала горечь, я и не вспоминала о ней.
Оседала, словно кофейная гуща в маленькой чашечке.
ПЕРВАЯ
Когда
я несла тебе полотенце вытираться,
мне казалось – меня за пазухой ласточка.
ВТОРАЯ
Когда
ты надевал брюки и отворачивался, я улыбалась.
ПЯТАЯ
Когда
ты выравнивал пробор перед зеркалом,
я
забывала о своих сединах.
ТРЕТЬЯ
Когда
ты, сынок, уходя по утрам, мне улыбался у двери,
ты сметал мне улыбкой всю горечь с души –
так сметают сосновую пыльцу с зеленых столиков приморской
кофейни.
ЧЕТВЕРТАЯ
Хорошо
было, сынок, по утрам:
я пол подметала, убиралась, стряпала,
убиралась и ждала,
стирала и ждала,
штопала и ждала – тебя ждала, сынок.
Добрым гостем входило в комнату солнце
всегда с добрым словом твоим: "Жизнь хороша",
оно протягивало свои широкие босые ноги на нашем изъеденном
полу
и потирало толстые пальцы, приговаривая:
"Хороша жизнь, хороша", – и я ему верила.
ШЕСТАЯ
Только
когда вечерело, сынок, а тебя все не было –
не
было –
и детишки, весь день запускавшие бумажные змеи, уже спали,
только
тогда
и вечерняя звезда казалась серебряной ложечкой
с
лекарством – так было, сынок, –
это горькое лекарство я пила в одиночестве, –
говорила
об этом тебе –
пока не услышу шагов твоих с улицы – как я их узнавала
–
и шаги твои завязывались у меня в сердце,
словно крепкие, крупные ягоды на нашей лозе,
и я уже не слышала, как возится моль в складках юбки,
не слышала больше шагов времени по потолку, забывала
о наших худых башмаках, о рваных локтях,
о нашей дырявой крыше.
ПЯТАЯ
Добрый
вечер, сынок, добрый вечер, мой дорогой.
ПЕРВАЯ
Добрый
вечер, добрый месяц в каморке моей.
ЧЕТВЕРТАЯ
Добрый
месяц, нежный мой месяц, весенний.
ШЕСТАЯ
И
стояли они – далекие, темные, словно деревья или горы,
мирные и спокойные – все они наши, сынок,
как льняные отглаженные салфетки в ящике.
ВСЕ
А
теперь, сын мой, далеко, далеко – куда повели шаги твои?
Далеко, далеко – куда направились?
Ах, сын мой, сыночек, птенчик мой, сердечко мое...
Тетушка Кали поднимается среди них, сжимая
в руках одежду сына. В течение нескольких секунд гладит
узелок, потом начинает говорить, глядя старухам в глаза.
Т. КАЛИ
Нет
слез у меня, чтобы оплакать тебя, сынок.
Как у них сердце не дрогнуло, не дрогнула рука?
Что за псы, мой сынок, мой хозяин, нет сил у меня,
выжали кровь из меня, душу вынули,
только пламя внутри – пламя, чтобы их сжечь.
Пламя, пламя, пламя… Эй, старухи, что хнычете?
Так, что ли, бросим детей своих?
Так вот останемся? Так?
Что мы получили, старухи, за столько лет?
Что получили, пока хныкали, терпели, возмущались
и снова ныли, терпели и негодовали?
Жалел ли нас кто-нибудь? Так чего ж нам жалеть?
Нас все время топтали и затаптывали все глубже.
Эй, старухи! Ели мы хлеба досыта? Или масла? А когда отдыхали?
Наши руки истлели в корыте, мы надрывались:
целый день на ногах, а ночью в заботах,
чтобы сжались часы, чтобы сжались работы
плотно-плотно, как зубчики чеснока. Как дух перевести?
Мы забыли о полях, забыли, какого цвета день,
забыли вкус ветра – в вечной тревоге: за что браться сначала?
Что ж о времени – всего лишь о временах года – как скажет
лоза
у
крыльца:
Когда зазеленеет целиком и заблестит, как хвост у павлина
в
городском саду,
или когда сгребаем сухие листья в мешки – вот и всё,
да и этого нет. Онемели ноги у нас от стояния. А польза
какая?
Какой толк? Где они, наши труды?
Даже погулять рядом с мужем не выходили – он-то чем поможет
тебе?
Нищий заработок на фабрике, работа, работа; усталый, разбитый
по
вечерам,
от масла и пыли одежды черны, а внутри – горечь,
нищета и ворчанье… Где взять время и деньги, как на такое
решиться?
Чтоб субботним вечером выйти на часок, полакомиться мороженым
в
кафе на площади,
стаканом ледяной воды, когда стемнеет
и народ станет прохаживаться туда-сюда, как муравьишки,
а в небесах – мириады звезд, тоже как муравьишки.
А граммофон под перечными деревьями – черт его побери
–
заставляет тебя то улыбаться, сидя в тени,
то жалеть свои руки, изъеденные щелочью,
да, да – пожалеть свои руки субботним вечером,
как жалели бы двух сирот, измученных и заплаканных.
Эй вы, старые матери, чем насладились мы в своей жизни?
Может, черного хлеба досыта наелись?
Кофе мы заменяли зернами пшеницы и нута,
пшеницу – кукурузой,
а кукурузу – сорго.
А потом не стало ни кукурузы, ни сорго,
ни кофе не стало, ни хлеба.
Только резкая боль в желудке и в сердце,
удушье и сухость в горле,
и нож в кости…
Эх, старухи, старухи,
а мимо едут дамы в дорогих экипажах,
обдавая нас пылью и бензиновой гарью.
И прохаживаются щеголи, выбритые и отутюженные,
идут толстобрюхие хозяева,
а наши дети голодают и в великие праздники:
на Рождество, Новый год и на Пасху.
А из печей доносится аромат жареных барашков, курабье
и чуреков.
А мы что, старухи? Мы-то что со своими детьми?
Можно ль было отдохнуть весенним вечерком во дворе, посидеть
на
скамейке?
А как стрекотали цикады у забора, как звали...
Заглянешь на минутку через окошко на небо –
вечерняя звезда помашет серебряным платочком
и улыбнется тебе, как дитя, что показывает первый свой
зуб.
Зовет тебя поболтать, поласкаться, понежиться,
а ты отвечаешь: некогда, времени нет,
оставь меня с моими невзгодами. А тот граммофон в таверне
– черт его побери –
заткнулся бы, что-ли...
Где взять хлеба и смелости смотреть, говорить и слушать...
Эх, старухи, будто этого всего было мало?
Для чего притащились к нам эти бешеные волки?
Будто нам своих не хватало.
Почему не позволили нам самим как-нибудь разобраться?
Ногтями, зубами, молчаньем и криком – самим.
Чем провинились мы, чем?
Потому что хотим, чтобы наша земля была нашей?
Потому что... Ах, пусть огонь их падет на их же головы.
А так – виселицы, пушки и пожары,
кровь на стенах, кровь на наших порогах, кровь во дворах.
Запомните виселицу, старухи:
в тени от нее мы копошимся, как черви.
Кровь – земля, вода, свет и деревья.
Кровь – заря на дороге.
Кровь – ночь в постели.
Кровь – воздух.
Наклоняешься над столом – кровь в тарелке.
Хочешь дверь приоткрыть – и на досках кровь.
Хочешь крикнуть – выходит кровь.
Задушили собаки нас. Уничтожили.
Украли у нас хлеб и соль,
деревья украли и море,
украли и воздух, и солнце.
Всадили нож в сердце народа, старухи,
и внутренности вспороли нам. – Но настанет час
и поразит их меч божий и наш кухонный нож.
Поднимайтесь, старухи, вперед!
Неужели мы, матери, бросим своих детей?
Они ушли для того, чтобы принести нам зёрна и солнце.
Вперед! Встретим их на дороге.
Час настал возвратить свою кровь,
и хлеб для людей.
Так идем же, старухи, вытащим наши дома на солнце,
чтобы свободными жить или умереть.
Все женщины с узелками уходят. Тяжкое
молчание. Только слышны их шаги – твердые и уверенные.
ЗАНАВЕС
<<
действие первое | действие
третье >