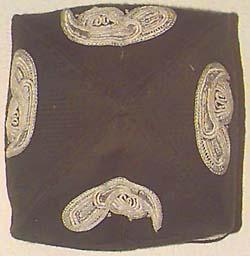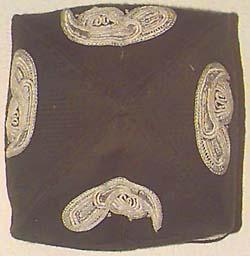Предисловие
Оговорюсь сразу: это не роман в его хрестоматийном
понимании, это, скорее, почти что документальное повествование
о моём приятеле, которого я знаю с самого детства и до последних
дней. Я даже однажды уже писал о нём. К сожалению эта повестушка
- “Корейский иероглиф” так и не была опубликована и затерялась
вместе с советским временем в неких архивах журнала “Милосердие”.
Да, я знал его с самого детства и лишь совсем недавно
обнаружил в его корейском имени отзвук совсем другого имени,
а именно Дон-Хуана или же в более привычном прочтении -
Дон-Жуана. Тон Хван - некий глухой, приглушённый отзвук
того, что некогда потрясало мир. И этот неприметный отзвук
заставил меня пересмотреть всё то, что я знал о своём приятеле,
единственном, кто вперекор мете его корейского поколения
не был, как я уже писал, назван ни Витольдом, ни Лиром,
ни Артаксерксом Борисовичем, Васильевичем или Степановичем,
а вот так - Тон Хваном - назван отцом, имени которого не
могли выговорить даже сами наши безродные корейцы.
Имя и человек. Может быть об этом я хочу рассказать.
[2] Об имени, которое не просто как набор приводимых
мною букв, но об имени, похожем на иероглиф - некий знак
этой странной и обыкновенной судьбы, прошедшей, идущей рядом
со мной и вплетающей меня ненароком в свои многозначные
очертания.
Мне было бы проще привести здесь эту самую повестушку
- “Корейский иероглиф”, чтобы не повторяться, но я сделаю
так - приведу её в приложение к этому повествованию и тогда
вы легко представите себе “задник” действия, а вернее его
детства, когда он довольно рано потерял своего отца, женившегося
на сахалинской кореянке и остался среди женщин, окружавших
его - первых женщин в его жизни. Но с этого я и начну своё
повествование.
Песнь
первая
Родился Тон Хван на той железнодорожной станции, куда
я приехал впервые, когда мне было четыре года: мать моя
развелась с отцом и привезла меня к бабушке. Мои дяди и
их соседи, на несколько лет старше меня, а один и вовсе
мой одногодок, окружили со всех сторон и сказали: “Давай
купаться в арыке”. ”Мама меня купает только в тазике”, -
ответил я. Они сказали: “А мы никому не скажем”, - и повели
меня к маленькой запруде, выкопанной во дворе в сторону
от грязного, мутного арыка и раздев меня догола, и насмеявшись
над моей необрезаннорусской пиписькой, столкнули меня в
эту муть...
Вот на этой станции и родился Тон Хван.
Когда ему было два года - отец, уехавший копать лук
в астраханскую степь, женился там на сахалинской кореянке
и продав оптом весь выкопанный лук, остался жить с ней на
Кубани. Тон Хван остался живым сиротой при матери и бабушке
- зобастой старушке удивительно правильных черт. Когда я
впервые увидел её - а было мне семь лет и я учился уже в
одном классе с Тоном, приходя к ним по воскресеньям - смотреть
в их покрытой циновкой и пахнущей горькой капустой пустой
комнате большой телевизор с футболом - её зоб уже прятался
в платье, как третья, высокая грудь и стягивая кожу её старческого
лица вниз, он придавал ей несколько надменное, но прекрасное
выражение, которое я видел на лице качающей головой китайской
статуэтки, купленной в те годы моей мамой.
Мать Тон Хвана - красивая и несчастная женщина - женщина
рождённая быть несчастной из-за своей горькой красоты -
с мужем из ревности, с чужими - из-за неверной привлекательности,
первая из кореянок бросила поле и выучившись на деньги одного
из урожаев на медсестру, работала в хирургическом отделении
местной райбольницы. Когда мы с мамой переехали на эту станцию,
а вернее - ещё дальше, там, где была большая больница, и
мама устроилась туда старшей медсестрой, а я же стал жить
наполовину у бабушки, наполовину у мамы, ездя к ней каждый
день после уроков на автобусе за вычетом тех дней, когда
она оставалась на ночное дежурство по “Скорой Помощи”, тогда-то
и сдружились мы с Тоном на почве знакомых нам больниц, рассказывая
друг другу какие носилки появились там или там, или как
теперь выкручивают скорости за спиной на новых УАЗиках.
Так уж случилось, что и его и меня окружали красивые
женщины, те, что жили вокруг или же собирались по воскресеньям
на чьём-нибудь дому и начинали петь: “Называют меня некрасивою,
так зачем же он ходит за мной?...”, а ещё, напевшись, начинали
целовать напомаженными на воскресенье губами, после чего
мы оба оттирались то ли у них на сеновале, то ли у моей
бабушки в сарае полном хлопковой шелухи. У каждого из нас
было по два десятка невест - тех тётенек, которые ждали,
когда мы вырастем, чтобы выйти за нас замуж, тех, которые
тискали и щекотали нас, а потом хохотали с нашими смущёнными
матерями. Этим может быть и объясняется наше постоянное
стремление окружать себя во что быто ни стало красивыми
женщинами в нашей последующей жизни. Но это к слову.
А однажды я увидел Тон Хвана в женской бане, куда
привела меня искупать моя бабушка. Правда, скрывшись за
тазиком, я виду не подал, впрочем, также поступил и он.
И мы никогда не признавались в классе ни друг другу, ни
другим об этой встрече.
*
* *
Игра начиналась с того, что мяч подпинывался во всю
мочь вверх и падая на землю он должен был стукнуться об
неё три раза, после чего все бросались на обессилевший мяч.
“Мяч на три удара” называлось это правило и вот мяч взмывает
вверх как дыхание, как пустота над сердцем, потом стремительно
несётся вниз, сгибая неподъёмный взгляд: “Топ!”, подскакивает
чуть выше твоего роста, так что успеть бы втянуть голову
в плечи не задеть его вне правил, “Туп!” второй раз глуше
и ниже, но сердце и живот ёкают в предвкушении и ноги сами
тянутся еще ближе, сжимая круг так и зрачок сжимается в
одну напряжённую круглую точку: “Тпп!” и едва звук отрывается
от земли, как вся пружина, вложенная в первый удар и сжимавшаяся
с каждым падением, распрямляется внутри тебя и ты бросаешься
туда в кучу ног, тел и дыханий, чтобы увёртливо загрести
этот клубок кончиком носка точкой в которую отослано всё
твоё существо и начинается игра…
Я вырос в своей больнице, он в своей. Как-то он показывал
мне множество фотографий, где он, как и я, то стоит на стуле,
то держит мячик, то просто, сидит на чьих-то коленях, и
всё это больница, больница, больница. Правда, в отличие
от меня он обедал у своей матери. Я больницей брезговал,
и лишь оказываясь на её территории, начинал нещадно плеваться,
отчего все подруги моей матери подначивали то ли её, то
ли меня, говоря, что хорошо бы этого мальчика оставить здесь
лежать - поправился бы, а то смотри какой худой! Мать грустно
смеялась. У Тона же лучшей подругой была их повариха - тётя
Тоня, - толстая гречанка, которая восхищалась узким, как
скальпелем, и изящным разрезом корейских глаз Тон Хвана,
предрекая его матери, что сын её будет красавцем и много
сердец разобьётся из-за этих загадочных глаз...
Тон и вправду вырос в больнице. Я-то до приезда на
эту станцию ещё в отцовском горногеологическом кишлаке,
куда мы переехали по моему рождению из Каракамыша, ходил
в детский сад. Детский сад моей первой привязанности. Любовь
- странное слово. Длинное и отвислое, как зоб Тонкиной бабушки.
Это в сегодняшнем моём представлении. Но тогда... А впрочем,
что я говорю о тогда? Разве что-то произошло с тех пор,
кроме того что музыка лишь прошла свою середину? Моя первая
воспитательница - Валентина Ивановна, - девушка Валя, как
я теперь понимаю, была влюблена. Она выводила нас на прогулку
в парк вековечных разлапистых осенних тополей и в этом пиршестве
жёлтых листьев, синего неба и прозрачного солнца мы кричали:
“Гуси-гуси, га-га-га, есть хотите, да-да-да. Ну летите,
коль хотите, только крылья берегите...”
И это были слова о нашей воспитательнице, которая
заняв нас игрой, сама встречалась за деревьями с тем, кого
призывали в армию. Так сказал однажды Толик - сын народного
судьи, чьё зеркальцо я по нечаянности разбил и ждал своего
скорого приговора все мои детскосадовские годы. Ведь по
вечерам, приведя нас с прогулки обратно, Валентина Ивановна
начинала играть на баяне и петь о мерцающих звёздах - первое
поэтическое выражение в моей сознательной памяти, ведь это
же самое мерцание я чувствовал внутри самого себя, приходя
зимним, хрустящим под ногами вечером с мамой домой и вспоминая
Наденьку Синельникову, девочку, с которой я должен был танцевать
на Новый Год кавказский танец...
Мы жили тогда на квартире у строгой женщины по имени
Нина Сергеевна, чья дочка - Наташка, девочка на год старше
меня - в этом возрасте год - не целая ли жизнь, оставаясь
присматривать за мной одна, пока матери наши пряли пряжу
или вязали нам всем носки, смотрела мне в глаза и допытывалась:
“Ты что, влюбился что-ли?” И ничего от меня не добившись,
строго переходила на обучение буквам: “Смотри, это слово
Учпедгиз и значит оно: “Умер Чапаев, победа его, дети-герои
идут за него. Понял? А ну-ка повтори! Что такое У? Умер.
Ч? Чапаев...” А я удивлялся до глубины души глубине этих
слов - не только о Чапаеве, но и о том, как глубоко прячется
слово - влюбился...
Тон Хван в детский сад не ходил. Он рос вместе с соседской
девочкой Алей, которую мать оставляла под присмотр Тоновской
бабушки. В три годика они уже знали как живут муж и жена,
примеряя друг к другу свои невинные признаки в тени вишен
за внутренним забором. Когда Тону исполнилось четыре года
мать привела домой высокого мужчину, которого назвала дядь
Сашей, и сказала, что дядь Саша будет жить с ними. Дядь
Сашу Тон Хван первоначально полюбил, поскольку мать выжигала
в нём память о родном отце, но вскоре дядь Саша стал почти
ежевечерне выпивать вместе с мамой разведённый спирт, который
мама приносила из больницы и видя их пьяными и любезными,
Тон Хван прятался в соседней комнате под зоб своей бабушки,
перебиравшей в это время вышелушённый рис.
Потом бабушка его и вовсе переехала к тёте в Куйлюк,
жалуясь на ухудшившееся здоровье и Тон остался один на один
со своими страхами и ненавистью.
Когда Тон Хван пошёл в первый класс, я ещё на станцию
не приехал, а дядь Саша уже оставил их семью. Мать его стали
навещать вполне случайные люди, то хирург этой самой райбольницы,
то аптекарь, которому мать сдавала съэкономленные в больнице
лекарства, то водитель “Скорой Помощи”, с которым она выезжала
на ночные дежурства. Алю же отдали в параллельный класс.
Мы с мамой приехали на эту станцию к бабушке - после
моей первой четверти, когда я привык уже к слову “круглый
отличник”. Мама, как я уже сказал, быстро устроилась на
работу старшей медсестрой, меня же, как водится, устроила
в класс “А”, именно тот, в котором и учился уже целую четверть
Тон Хван. Он не был круглым отличником, хотя и висел за
первую четверть на Доске Почёта. Меня что ли не хватало,
чтобы сравнить, что же такое настоящий отличник?! Но он
никогда со мной не соревновался. Он был сильнее физически,
этого ему хватало с лихвой. Соревновался я с девочкой Олей
Бредихиной - красавицей, в которую были влюблены все кроме
Тона и частично меня.
У Тона была Аля, а я был уже влюблён в своей прежней
школе в девочку по имени Наташа Казанжи, поскольку и Лену
Синельникову отдали в той школе в параллельный класс.
Помню, как уезжая из отцовского кишлака, где я учился
с Наташей, я, оставшись на нашей квартире один на один с
нашим надвигающимся отъездом, раз за разом проигрывал на
мамином патефоне “Я люблю тебя жизнь” Марка Бернеса, а особенно
же то место, где он поёт: “...соловьи, поцелуй на рассвете...”,
- ведь это было о Наташе, о Наташе, которую я, выдумывая
новую мировую войну, защищал с автоматом, сидя вместе на
дереве, Наташу, которую я вспоминал с невольными слезами
на глазах, глядя на рисунок золотого осеннего дерева в “Родной
Речи”... Такое дерево первой моей школьной осенью росло
во дворе моей прежней школы... Наташа, конечно же, ничего
этого не знала.
Наташа отличницей не была, а вот Олю Бредихину все
любили по положенности, как отличницу. Как-то само собой
считалось, что отличники должны любить отличниц, хорошисты
- хорошисток, а у троешников - свои пары. Правда, дозволялось
влюбляться и в представителей более высокого сословия, какой-нибудь
троешник Мишка Пожарицкий вполне приписывался в любви к
Оленьке, потому что жил с ней в одном дворе. Вот и те девочки,
которые питали ко мне пристрастие, как правило, были из
троешниц: любили наверное за отличие и опрятность. У Тона
же всё было определённей: есть он и есть Аля.
Почему-то принято считать, что любовь приходит с совершеннолетием,
а то и просто выдается как аттестат, но ведь это неправда.
Той глубины чувств, ещё лишённых физической похоти, приходящей
с этим самым совершеннолетием, той чистоты переживаний,
доступной в детском саду или же в начальной школе разве
же достичь с тяжестью каждого нового года в твоём возрасте?
Разве же с наращивающейся как кожа, усы, борода - хитростью
и лукавостью сравнить то ангельское ощущение щемящего в
самом начале жизни голого сердца?..
И ведь все знают об этом. Ведь и семилетний Тон рассказывал
мне об Але, как ни один из моих умудрённых приятелей сегодня
не расскажет, да и я вряд ли повторю то целомудренное восприятие
детской любви, сидевшее в нас и изредко просыпающееся, когда
сквозь наросты и коросты мы пробираемся к своему самому
сокровенному нутру - к тому утреннему свету, когда начинают
петь птички...
*
* *
Песнь
вторая
Тот кто ходил по земле босыми ногами, тот поймёт откуда
растут мои ощущения. Есть выражение “в полный рост”, есть
более архаическое “с головы до пят”. Это всё об ощущении
земли ногами. Первые колкие шажки по весне, когда наконец
с земли стаял снег и подсохшая прошлогодняя трава ещё колюча
и щекотлива, а ступни белы и изнежены. Вдруг оступишься
в мягкую и скользкую лужу и вместе с глиной, проступающей
слизисто между пальцев, тебя охватит холод и терпкость этой
мякоти: и блаженно и мерзко против травы, и не то чтобы
станешь тереть ноги о годовалую стерню разбежишься и влепишь
по резиновому мячу да так, что брызги этой грязи полетят
вслед ему, но рассыпятся на полпути, а в ступне звонкий
гуд нового сезона: вон и солнце уже висит в небе как запущенный
свечкой мяч…
Откуда в человеке прорастает футбол? Это всё равно
что спросить о любви. Кто скажет из каких недр какого детства
прорастает она?
В четвёртом классе в семью Тон Хвана вернулся дядь
Саша, а мы уехали опять в отцовский кишлак и я снова стал
учиться в одном классе с Наташей Казанжи. И в тот же год
в семье у Тона произошло несчастье. Об этом я узнал почти
уже взрослым, и не от Тона, а от их соседа Лерки-трубача.
Однажды Лера сидел у себя во дворе и крутил свой джаз
на патефоне, когда услышал какие-то стуки и вопли из соседского
дома, а потом и просто крик Тона. Он перепрыгнул через забор
и оказавшись у них, увидел, как голый дядь Саша носится
в пьяном иступлении по дому, а голая мать Тон Хвана лежит,
истекая пеной изо рта. Тон сидел у ног матери, ни жив, ни
мёртв, а этот мужик размахивал то ли ножом, то ли ещё чем.
Лерка бросился к мужику и рявкнул, скорее из испуга, чем
произвольно, но и это произвело отрезвляющее впечатление
на дядь Сашу, который тут же как-то обмяк и уселся в голом
виде на табурет, чтобы раскиснуть и бесшумно заплакать...
Мать в тот день увезла “Скорая” и вернула её полупарализованной.
Уже потом выяснилось, что мать напилась с дядь Сашей
каких-то возбуждающих таблеток и сердце её не выдержало.
Дядь Сашу забрали в милицию, но потом будто-бы отпустили
и он уехал неизвестно куда. Тогда-то и вернулась бабушка
из Куйлюка и осталась жить с Тоном в их доме. Через два
года сошедшей с ума матери не стало...
Моя же мама умерла раньше, когда мне было уже двенадцать,
и шесть месяцев моей сестрице.
А до того я жил одними мыслями о Наташе Казанжи. Её
любили многие, но изнутри - лишь я. Лишь я не признавался,
как я её люблю. Когда у меня случался день рождения и я
приглашал по повелению матери и отчима всех своих одноклассников,
приходили все девочки, но только не Наташа. Она находила
какой-нибудь повод, ведь именно потому, как я её любил изо
всех своих сил, я никогда не осмеливался с ней разговаривать,
я стеснялся её, а потому и не мог её пригласить...
Отец её работал вместе с моим отчимом и когда я приходил
перед днём рождения со стадиона или из Дома Пионеров, отчим
заговорщицки с мамой говорили мне: “Вот, приходила дочка
Казанжи, ждала, ждала тебя и ушла...” Ах, будь это правдой,
я бы мучился меньше, чем зная, что это неправда!
Приходила первой Лена Кондопуло - фантастически красивая,
как я теперь вспоминаю, девочка-гречанка. Но она была нашей
соседкой, сестрой Васьки, с которым я день и ночь гонял
футбол. Она приходила и без дня рождения, однажды с домашним
заданием по алгебре, которую мы только начали учить. Я был
дома один и вот когда она пришла спрашивать как решается
задача - эта чистая, только что из бани, кудрявая ангелица,
я впервые в жизни почувствовал, что стоящее рядом существо
совсем не слушает то, что я говорю, потому что я сам не
слушаю свой чужой голос, а только гулкое и глупое биение
сердца, отдающее в лицо, а потом в дыхание. И что это важнее
того, зачем она пришла, якобы...
Но я пятиклассник любил ведь Наташу. Я научился возить
на велосипеде Лену, но я мучительно представлял, как на
раму или же на багажник садится Наташа и я везу её в сторону
Чачма-сая - предгорных лесов, где я буду спасать её от змей
и камнепадов...
Однажды, когда наша школьная футбольная команда должна
была играть с какой-то приезжей, и я - уже в футболке, расхаживал
звездой, пока не заметил, что забыл дома гетры, и вскочив
на велосипед, двинул в школьный проулок - я наткнулся на
Наташу. Увидев меня, она бросилась обратно! Я - за ней,
впервые произнеся вслух её имя. Она же, как вспугнутый олень,
- нет ничего правдоподобнее никогда не виданной мной вживе
фразы, бросилась бежать, пока не скрылась за одним из домов.
Со странной дрожью я привёз свои гетры. Я думал: что она
всё-таки придёт смотреть футбол и всю игру больше озирался
по сторонам, чем думал о мяче. Но она не пришла. И это был
единственный случай нашей встречи один на один.
В нашем классе учился Илюша Пентакиди - ещё один грек.
И вот он-то безо всякого стыда рассказывал всем нам, что
он сделал “стукалочку” Наташе. “Стукалочка” же означала
собой вот что: берёшь длинную нить, продетую в иголку или
булавку и к одному из её концов привязываешь камушек или
кусок свинца - своего рода отвес, прикалываешь иголку или
булавку к раме девочки и сам, удалившись на безопасное расстояние,
оттягиваешь нитку раз за разом, так что тот самый отвес
начинает стучать по окошку, Наташа выглядывает, не видит
никого, тогда она выходит на улицу, где ты её хватаешь и...
Словом, врал конечно Илюша Пентакиди, но все, и в
первую очередь я, который меньше всех показывал, что это
меня интересует вовсе, верили во всесилие этой самой “стукалочки”,
уж коль скоро другого средства дать знать о себе - нет.
Врал конечно Илюша Пентакиди, ведь когда Андрюша Райник
- немец из нашего класса, из ревности сказал, что спросит
у самой Наташки, перепуганный Илюшка стал сочинять про то,
что в последний раз на “стукалочку” вышел отец Наташки и
он, Илюшка, схватил в свои объятия по темноте отца...
Но “стукалочка”, которая может все решить на расстоянии,
так и осталась в моей памяти как амулет или талисман, о
котором я рассказывал двумя годами позднее Тону Хвану.
Да, после того, как умерла моя мама, бабушка забрала
меня к себе, на эту самую станцию, где я снова стал учиться
в одном классе с Тоном Хваном и Олей Бредихиной.
*
* *
Если и нахожу я некий эквивалент своим высказываемым,
или надлежащим быть высказанными здесь
чувствам,
как это
всё
неуклюже
то они все как я уже сказал в моих ногах.
Футбол вот слово,
в
котором
нет
этой
невысказанной
тяжеловесности.
Как
лёгок
мяч
на
ноге,
как
он
быстр
от
ней
оторвавшись,
как
он
желанен,
как
телесен,
накатываясь
вновь
на
ногу,
на
колено,
на
грудь.
Всю
эротику
света
я
не
променял
бы
на
это
ощущение
округлости,
с
которой
ты
волен
и
способен
делать
то,
что
тебе
вздумается…
Помню
ли
я
первое
ощущение
мяча?
Мяча нет, но
скорее
футбола.
Я уже гдето об этом писал: через дверь от Тона жил Руслан,
сын председателя поссовета и первого фронтовика Турдыали.
Самый младший сын. Старшие все как на подбор были спортсменами:
фронтовик сдавал их в суворовские училища по всему Союзу
и на нашу станцию приходили известия, что Марат стал чемпионом
Вооружённых Сил по классической борьбе, Зафар чемпионом
по боксу, Алёша по гребле, Шурик по ещё чемуто. И только
Руслан оставался как последняя копейка на попечении родителей,
а вернее жена фронтовика отказалась наотрез отдавать его
безродным воспоминаниям мужа. Младший не был спортсменом,
но вырос же однако среди разговоров о чемпионах, а потому
был докой в рассказах о спорте. “Пахтакор”, говорил он,
“Красницкий” и как всякое вновь услышанное слово в детстве,
эти звуковые орнаменты впечатывались намертво в наши детские
мозги.
Здесь, на этом месте я долго искал в своих старых
тетрадях абзац или другой, в котором я давным-давно описывал
то ощущение, когда мы с Тоном - две сироты, уходили по весне
далеко-далеко в поля, в сторону Зах-арыка, чтобы рвать мяту
по берегам ручейков. Из этой мяты моя бабушка выпекала “зелёную
самсу”, род печённых пирожков с зеленью вместо начинки.
Мята так остро пахла вдоль бегущих - когда мутных, но чаще
чистых весенних арыков и этот запах, бьющий из пакета уносил
нас вдаль - к во-он тем верхушкам тополей, черневших на
горизонте, и ещё дальше - к видневшимся в прозрачном до
самого предела воздухе горам, туда, за которыми - как я
однажды признался Тону - жила Наташа... Но я так и не нашёл
этой страницы.
Это там, на стерне кукурузы, выпасывая свою корову,
я читал в шестом классе “Яму” Куприна, которую дал мне Тон,
и впервые почувствовал как трусы под моими брюками мокнут,
но впервые не от мочи, а от мочи, и это взволновало меня,
и я рассказал об этом на обратном пути Тону.
*
* *
К концу шестого класса родители перевели Алю в совхозную,
вернее, в совхозскую школу и Тон остался не у дел. Именно
тогда в луночке для чернильницы посреди школьной парты мы
обнаружили с Тоном первую записку. Девчачьим почерком в
ней было написано: “Я интересуюсь тобой. Можешь ли ты оставить
мне записку тут же?”
Кому была написана записка - мне или Тону, ни он,
ни я не знали, а потому решили отвечать вдвоём. Этот роман
в записках длился почти полгода, но мы так и не узнали,
кто посылал нам загадку за загадкой: каждое утро стоило
лишь приподнять пластмасску для чернильницы, как под ней
лежала очередная таинственная и волнующая записка. Вот тогда
мы и поняли как сладостна может быть тайна, как заставляет
трепетать сердце ожидание и неизвестность...
Именно тогда я решил написать своё первое письмо Наташе,
а Тон - в соседний совхоз - Але. Наташа ответила, как будто
бы всю жизнь мы разговаривали с ней и только недавно прервали
разговор на пять минут. Вторым письмом она прислала свою
фотографию. И почему-то любовь моя к ней увяла... Это ли
было то, о чём нам рассказывали за всякими сальностями старшие
ребята: дескать, трахнешь её и видеть не хочется! Некое
чувство сделанности, исполненности наступило что-ли... Не
помню. Но как-то незаметно избылось.
А возникло вновь потом, когда уже двадцатилетним я
случайно приехал в отцовский кишлак и один из моих бывших
одноклассников рассказал о страшной смерти Наташи в восемнадцать
лет, когда уехав учиться в Самару, она возвращалась вечером
с танцев и на пригородной дороге её сбил сзади насмерть
самосвал...
Если в любви есть первородный грех - то мой - это
Наташа.
*
* *
Я может быть потому и стал играть в футбол в том горном
посёлке, чтобы хоть чемто поразить Наташу. Или же моё предстоящее
собственное поражение требовало то ли привычки, то ли напротив
иных побед. Греки играли в футбол и среди них лучше всех
всесельский кумир Иван Пищириди. Впрочем, Иван играл одинаково
хорошо во все игры от тенниса и до хоккея настоящий древний
грек, забытый гдето в горах Советского Союза. Считалось,
что все девки его возраста его тайные если не любовницы,
то уж точно воздыхательницы. И тут вдруг возвращается из
армии его брат Стасик нечто никак невообразимое, как к примеру
папа богу. И мало того, что этот уже лысеющий и с животиком
человек и впрямь старший брат Ивану, он вдобавок ко всему
ещё им и помыкает: создаёт первую в кишлаке футбольную команду,
чобы играть с соседними посёлками, и гоняет Ивана вокруг
стадиона развивать армейскую выносливость.
Позже, много лет спустя и нам в армии будут говорить,
что в отличии от армии вероятного противника наша непобедимая
Советская Армия держится на выносливости умей бегать там
где остальные дерутся врукопашную как тут же переиначивали
мы. Но к тому времени эта самая выносливость была всажена
в нас Стасиком, который по полному армейскому раскладу не
только создал еще дублирующую команду, но и команду пацанят
моего возраста некий “Ураган”, бегавший вслед за понукаемым
Иваном свои двадцать пять кругов вокруг стадиона.
Так вот Иван целыми днями отрабатывал некий странный
по самому замыслу пенальти, который он посылал внешней стороной
стопы в левый от себя угол. По логике вещей, понимаемой
даже нами пацанятами, если метишь в тот угол, то надо было
бы закручивать в обратную сторону, а стало быть внутренней
частью стопы своего рода посеребренниковски, тогда мяч если
даже не дотянет до угла, то по крайней мере попадёт в створ
ворот. По Ивану же получалось что он бил заведомо мимо ворот,
но в самый последний момент мяч мог вертануться и оказаться
в девятке в крестовине между верхней перекладиной и боковой
штангой. И это не умещалось ни в какую логику. Но на то
Иван и был нашим Иваном, чтобы при всём при том делать всё
наперекор понукающему Стасику, и тогда мне стал ясен смысл
всех этих православных сказок про братьев с Иванушкойдурачком
на завершение.
Но теперь я думаю о другом. О превратной порусски
или же первертивной поиностранному природе футбола кактакового.
Представьте себе руку вместо ноги, замечаете что получается?
Основная часть обращения с мячом ложится на так называемую
внутреннюю часть стопы, иными словами, если называть вещи
своими именами по отношению к руке на тыльную сторону ладони.
Ведь подошва это по существу ладонь ноги. Многое ли вы можете
сделать тыльной стороной ладони: попробуйте хотя бы как
в детской игре удержать на ней горстку камушков. Видите
как сложно! И это рука сделавшая будто бы человека человеком.
Так что тогда говорить о другой паре конечностей, обращённой
ладонью к земле. Так вот футбол об этом.
Футбол он об Иване, метящем ножным мизинцем в левый
верхний угол ворот…
Песнь третья
Ещё
одну историю из отцовского кишлака я хочу вспомнить. Тем
более, что Тон заставлял меня рассказывать и рассказывать
её, пока мы ходили по полям. Летом между пятым и шестым
классом в наш кишлак приехала из столицы Наташка. Помните,
я рассказывал о дочке нашей хозяйки, дочке, которая допытывалась
у меня - детскосадника: влюблён я или нет. К тому времени
они переехали в столицу и девочка, нет, уже девушка, приехала
в кишлак на каникулы в гости. В первый же день она стала
суперзвездой кишлака. Греки и турки, не считая остальных,
все передрались из-за этой девушки на танцах в парке, том
самом парке с огромными тополями под самое небо.
Я-то считал, что она забыла меня. И кто я такой для
этой суперзвезды... Ан нет. Она нарочно разыскала меня и
всё так же по-матерински, как и в детстве, заставила умыться
и повела есть мороженное в самый центр кишлака. Помню как
сейчас эту самую прогулку рядом с роскошной девушкой, на
которую озираются и стар и млад, и за какие заслуги, думают
все они, этот пацан идёт рядом с ней, удостоенный не только
её, но и их внимания...
В ответ на эту историю Тон рассказывал о том, как
он с ребятами-узбеками пас корову на опушке ивняка и долговязый
киношник Сотим, озираясь по сторонам, привёл туда коротышку
с шерстемойки - татарку Фаю. Они вошли, держась за руки
в ивняк, и пацанва последовала за ними, пока в самой глубине
зарослей Сотим не расстелил две газеты и положил эту коротышку
на неровную землю, а сам лёг на неё поперёк и стал её драить.
Пацанам хотелось увидеть всё поближе и вот поодиночке они
стали пробираться со всех сторон к месту происшествия. А
Тон и вовсе оказался в такой близи, что ему не оставалось
ничего другого, как просто пройти мимо этих сношающихся,
и когда пыхтящий Сотим ненавистно взглянул на него и спросил:
“Чего узырился?” - Тон, как ни в чём ни бывало, ответил:
“Ищу свою корову...” - на что уже вскричала задавленная
Сотимом поперёк Фая.
*
* *
Такие истории рассказывались особенно часто на хлопке,
когда, начиная с седьмого класса каждую осень нас вывозили
караваном автобусов в соседнюю область собирать в течение
двух или трёх месяцев хлопок. Славное это было время для нас. Хотя
занудное и рабское отчасти. Славное тем, что нас поселяли,
скажем, в какой-нибудь колхозной школе или же на следующий
год в школьном спортзале, а то и просто по колхозным домам,
но вместе. Правда, девчат отдельно, нас - пацанов - отдельно.
Зато завтракали, обедали, ужинали мы вместе, работали тоже
грядка к грядке. Норма наша была 45 килограммов чистого
хлопка за день - это когда одна коробочка весит что-то около
двух с половиной граммов. Но зато набрав план до обеда,
можно было после обеда уходить или на речку, или залегать
с девчатами в кустах и резаться в дурачка, или же выбрав
в себе в напарницы какую-нибудь младшеклассницу, только
что приехавшую на хлопок, помогать ей в сборе и зарабатывать
на этом себе очки.
В старших классах мы стали покупать на полученные
деньги - 5 копеек за килограмм, то бутылку вина в сельском
магазине будто бы для учителей, то кишмишёвку у местных
бузотёров, и засандолившись этой полбанкой, ходить на ежевечерние
танцы к девчатам другой школы. За своими всегда был учительский
присмотр, а там можно было и выкрасть кого-нибудь на нейтральную
полосу поля. Целоваться мы научились на хлопковых полях.
Там же попробовали впервые закурить анашу...
Тон по своей природной полевой работящести собирал
в день за сто килограммов, когда хотел, а потому ходил в
школьных звёздах. Там он стал всеобщим любимчиком не только
помогая отстающим девчатам, но и потому что первым научился
бренчать на гитаре свои “бои”, держа на грифеле маленькие
и большие “звёздочки”, “лесенки”, “палочки”.
Это был возраст, когда мы впервые осознали, что девчата
из младших классов нуждаются в нашей помощи, в нашей опёке.
Одноклассницы же вдруг в одночасье стали переростками, с
которыми, как с ежедневными жёнами можно играть дождливыми
днями при запретном поле дурачка или гадать на будущее,
доверять вольготно свои сердечные тайны, словом, они стали
“своими в доску”. А вот девочки из младших классов... Те,
что плакали от бессилия или обиды, те что вместо защитной
косметики на лице носили только пыль, замешиваемую на тонком
поте и быстрых слезах, эти беззащитные существа, которые
снятся вживую на закате или следующей весной в тоскливый
дождь, внося в сердце первую щемящую пустоту или брешь,
сквозь которые несёт в прошлое сквозняком...
*
* *
Я вспоминаю это всё не просто самого воспоминания
ради, но с возрастом я стал понимать, насколько моё ли,
Тона ли поведение предсказано вот этими, казалось бы ничего
не значащами случаями, событиями, историйками, насколько
сегодня я завишу от этого прошлого, как будто не сквозняк
протянулся туда, а некая нить, питающая меня будто бы током,
диктующим моё поведение. То же самое я вижу и в Тоне.
Вот, к слову, последний случай. Совсем недавно я был
направлен в зарубежную командировку в Австрию, в окрестности
Зальцбурга в биологическую лабораторию знаменитого профессора
Венцлова. На полтора месяца. Он собрал своего рода летнюю
школу биоаналитиков. Здесь были австрияки, чехи, немцы,
американцы. Я всё это говорю обобщая, поскольку то, что
я называю, к примеру, американцами - это была Линесса, высоченная
девушка - ни дать, ни взять топ-модель, с которой я познакомился
в обход профессора на первой же вечеринке по поводу нашего
сбора. Я приходился ей чуть выше, чем по плечо, но именно
это обстоятельство как бы оправдывало нашу затянувшуюся
беседу, ведь и вправду, что дурного или серьёзного можно
подозревать между столь несуразными двумя собеседниками?
Ночью, в общежитии, ложась в холодную постель, я вспоминал
несколько болезненное лицо Линессы, её покусанные губы и
вдруг понял, что она ещё в худшем положении, нежели я: она
резко ограничена в своём выборе! Ведь лишь каждый двадцатый
мужчина - метр восемьдесят! Однажды высокий и толстый чех,
приставал к тоненькой девочке, и когда она сказала: “Но
вы ведь такой большой!”, чех ей ответил: “В постели все
равны...” Вот такая, наново понятая демократия. это я вспоминал,
думая о Линессе.
Словом, началось всё с затяжных разговоров, перешло
к прогулкам после работы, затем, озябшие, мы попадали в
кафе, где за чашкой кофе или за стаканом джина с тоником
наши разговоры становились всё теплее, а дыхания всё ближе.
Правда, я так и не осмелился спросить это заготавливаемое
наперёд: “Каково тебе, такой высокой? чувствуешь ли ты себя
обделённой или же наоборот?” Нет, не решился.
Поскольку, как я теперь понимаю, всё это было не о
том. Всё это было лишь продолжением той самой прогулки рядом
с приехавшей в наш кишлак столичной Наташей, избравшей совсем
несуразно меня...
А Линесса... О Линессе позже.
Я, впрочем, вспомнил, где я заразился футболом окончательно
и бесповоротно. Это был год чилийского чемпионата мира.
Меня, как и всякого светскогосоветского мальчика отправили
на лето в лагерь и там, в пойме реки Келес, в начинающихся
степях Казахстана каждый вечер лагерные группы играли в
футбол, но странным образом не блюдя возрастных различий.
Был там некий глубокоглазый Юра, человек по моим семилетним
меркам совсем уже взрослый, тот который умел перебрасывать
мяч через себя захватом носокпятка изза спины и тот, кто
впервые сообщил мне два заветных слова: “Пелло” и “Гарринча”.
Он был “Пелло”, “Гаринча” же был Мишка вечно улыбающийся
казах, ростом чуть выше меня, но возрастом чуть ли ни между
мной и Юрой, тот, у которого в семье прыгали даже с шестом.
Мишка носил бутсы первые бутсы, которые я видел в своей
жизни. Так вот, каждый вечер на степном приречном закате
нас выводили на кочковатое поле поверх подсохшего к лету
болота и на этой пальчатке начинался футбол, в котором нет
ни возраста, ни сословия, ни разницы в росте или в искушённости,
где на всех есть единый кожаный мяч, режущий шнурком босые
ноги, мяч, от которого отпадают ногти и ноги покрываются
сеткой цыпок…
Мне всё кажется, что именно тогда я и увидел всю свою
последующую жизнь, или даже её закат, с неотмываемыми цыпками
не на ногах, а в сознании, из которых не выпутаются мысли…
*
* *
Это - я. Но то же самое происходило и с Тоном. Помните
повариху тётю Тоню, обещавшую матери Тона Хвана каким он
будет красивым и сколько сердец разобьёт? Когда Тон учился
в медицинском, а я на биофаке, у нас появился общий друг
- журналист, вернее этот приятель появился у меня, увязавшись
где-то в библиотеке за одной из моих сокурсниц - Милочкой,
к которой и Тон питал некую привязанность. Серёга, - так
звали журналиста, оказался необыкновенным коллекционером.
Каждой следующей пассии он вручал на первый же день знакомства
свои дневники с откровенным описанием предыдущего падения
и каждая следующая падала с ним на третий день, становясь
очередной героиней знаменитых дневников. То же самое случилось
неизбежно и с Милочкой и Серёга со смаком описывал её прелести
сзади, как будто писал для нас обоих анатомический реферат,
на самом же деле занося всё сказанное в свою общую тетрадь.
И вот однажды, когда Серёга, уже как лис, сквозь дверь
открытую Милочкой пробрался со своими эпидемическими дневниками
в курятник нашего факультета, Милочка рассказала мне совсем
другую историю. О том, как она несколькими днями раньше
осталась наедине с Тоном в пустой квартире, куда ожидалось,
что придёт, но зналось, что не придёт Серёга. Тон вёл себя
загадочно, он вдруг принял печальный вид и грустным тоном
сказал, что наверное уедет, чтобы разом всё покончить...
“Что?” - спросила искренне Мила. “Всё-всё!” - сказал патетически
Тон и приблизился к ней.
Сквозь занавески падали косые лучи закатного солнца
и грустно было и впрямь. Мила загляделась на сноп и Тон,
со словами: “Смотри, зайчик на твоём лице”, - коснулся рукой
её щеки. Веснушки запрыгали не её лице и Мила приготовилась
к привычному, но он почему-то отвернулся. Она не знала как
себя вести.
Они опять выпили за ненадобностью всего происходящего
по чашке кофе и он опять приблизился к ней, лепеча какие-то
обрывочные, непонятные и печальные фразы, она не могла понять,
к чему всё это. Наконец он спросил: “Можно я поцелую тебя?”
“Разве об этом спрашивают?” - искренне удивлялась впоследствии
Мила. Она промолчала тогда из растерянности и он как-то
неловко чмокнул её, потом же судорожно стал покрывать её
всю поцелуями. Она облегчённо вздохнула, поскольку всё соскользнуло
на обычную колею, но здесь он опять вдруг бросился к окну,
со словами: “Я не должен был бы так поступать, извини меня...”
Милка рассказывала, что чувствовала себя наподобие
теннисной стенки, о которую стучат, но не входят. После
непонятно проведённых четырёх часов совместного времени,
в очередное сближение Тон прошептал: “Давай, полежим вместе”,
и Мила легла спиной к нему, чтобы не смущать его и не смущаться
самой. Они лежали в неподвижности некоторое время, затем
Тон взял её руку в руку и долго гладил её пальчик с колечком.
Спустя некоторое погружённое в молчание время, он стал гладить
ей плечо и ещё позднее - живот, и так прошёл ещё час и в
это время в дверь позвонили и они некоторое время лежали
не отвечая, но на второй звонок Тон вскочил, встала и Мила
и уже сидя на кухне, услышала бодренький голос Серёги.
Но сердце её было уже разбито на части...
*
* *
Вернусь к последним школьным годам. К тем самым, когда
мы стали уже преднамеренно устраивать вечеринки у тех, чьи
родители были менее строги или же, как во многих корейских
семьях, просто уезжали всем взрослым составом на сбор своего
лука или косьбу своего риса. Мы их ждали. И не из-за какой-нибудь
одной избранницы, а как саму возможность войти в кураж,
причём неразборчиво, с кем попало, и вот оказывалось, что
и Тон и танцевал, и какойнибудь Лазарь целовался с одной
и той же Гульшад - отъявленной троишницей, расцветшей вдруг
в самую модную девочку класса. И всё же вот это классово-кастовое
сознание, когда отличник или хорошист не мог влюбляться
в отстающую, до последних дней восьмого класса билось в
нас внутренним противоречием, ведь получалось, что всё доставалось
на этом свете Лазарю Ли да Сашке Ахтёмову, поскольку отличницы
были скучны для отличников - как дворяне между собой, а
вот низам позволялось всё...
Девятый класс нарушил всё и упорядочил наново. Девчата,
оставившие нас и ушедшие в вечернюю школу, как бы вышли
из кастового круга и даже больше того - стали разом старше
нас, недоросков, найдя себе ухажёров среди старших, но и
нам теперь, как братьям меньшим, позволялось перекинуться
с ними при встрече любезным словом. А я и вовсе влюбился
в девушку по имени Нелли из бывшего параллельного класса.
Как это случилось? Наверное на баскетбольной площадке.
Как-то незаметно, как приходит возраст, когда каждый мальчишка
уже как бы по норме положенности должен тайно воздыхать
о ком-либо. Меня всегда несколько смущали ближние - те,
которые, что называется, лежали под рукой, те, о которых
всякий мог подозревать меня в любви. Я и женился на той,
кого никто из моего окружения не знал. Как бы непредсказуемо
и несказуемо вослед. Без прошлого следа: “А-а, мы ведь замечали...”
В этом тоже наверняка что-то кроется. Наверное охота
к тому, чтобы этот человек изначально принадлежал лишь тебе
самому, чтобы никто не прослеживал “истории твоей болезни”,
вот и Нелли была неожиданна и постороння. Меня бы могли
подозревать в неровном дыхании к Олечке Бредихиной, или
же те, кто знали поближе - к Наташе Казанжи, а я вот выбрал
наново - Нелли, девушку простую и красивую, девушку, ушедшую
в вечернюю школу, и тем летом после восьмого класса, когда
я узнал, что следующим сентябрём я её не встречу в школе,
редкая летняя тоска, так и оставшаяся во мне на всю жизнь,
упала на сердце, как падает, достигнув своего апогея само
лето, как падает медленно и неотвратимо удалающееся после
22-го июня солнце. Каждый год своей жизни я чувствую это
падение и хотя ещё целое лето впереди, впереди отпускной
сезон, надлом во мне происходит в самый долгий день года,
как будто я всё ещё белю тот самый потолок, когда я узнал
об ушедшей Нелли, белю, как будто хочу забелить это вколоченное
в небо и нескончаемое на этот день солнце, как будто и потолок
надо мной не потолок, а пустое - белёсое от чёрного солнца
небо, и вся эта пустота от ушедшей Нелли, и всё, что будет
впредь - ненужно, и падает щётка-мочалка из рук и вдоль
руки стекает холодная струйка белой извёстки...
*
* *
Песнь четвёртая
Тон Хван рассказывал мне о
двух своих может быть самых ранних воспоминаниях. Однажды
они с мамой попали в страшный дождь и зашли в первый попавшийся
двор - мать Тон Хвана знали все, и вот стоя в двери узбекского
сарайчика, они пережидали хлещущий ливень. Молнии сверкали
вкосую от навеса, а здесь, под навесом, сзади чернел погашенный
очаг. У узбеков в стороне от очага обычно сложены дрова,
а здесь были какие-то кривые сучья вповалку, сухолом, как
будто бабушка, пустившая их во двор, была не худой бабушкой,
но Бабой-ягой. Всё было серо и это длилось долго, как будто
они были заперты дождём. Мама молчала всё это время и глядела
серым лицом наружу. И молнии ломались как эти самые сучья
за спиной, как будто кто-то складывал их ворох поверх дождя.
И ещё было их сродство с соломой в стене этой мазанки: эта
солома, замешанная в глине тоже шла жёлтыми изломами по
серой стене. Но потом дождь прекратился, унеся в ворохе
туч вязанку своих молний и был ещё оказывается день, который
длился ещё долго, пока они шли с мамой по светлым и мокрым
улицам домой.
А второе - когда он заболел и поздней ночью мать решила
понести его в больницу к врачу, и укутав его в шубу, он
взяла его на руки и понесла по жутко тёмной ночи. Сначала
они должны были пересечь поле и дойти до единственной двухэтажки
села, тускло светившейся вдалеке, и трясясь то ли от озноба,
то ли от шагов спешащей матери, мальчик видел, как трясётся
навстречу этот тусклый свет, а потом на них вдруг напали
собаки, и мама тогда присела, и мальчик тускло перепугался,
думая, что теперь он ближе и уязвимей к лаю, но мама схватила
палку и держа его одной рукой, другой замахала и тогда запрыгала
и тусклая луна, и собаки выли уже вдалеке, и в конце жизни
они дошли до этой двухэтажки, где Тон Хван забылся насовсем...
*
* *
После школы мы разъехались по разным сторонам: я в
Москву - на биофак, а Тон Хван сразу же по завещанию покойной
матери поступил в медицинский институт. Мы переписывались
с ним, как обычно это случается между приятелями, нежели
между друзьями, но приезжая на каникулы, я заставал из мальчишек-одноклассников
лишь его, а потому мы как-то сдружились ещё больше, ходя
сообща к нашим одноклассницам, или же просто, сидя в его
одинокой городской квартире. Да, к тому времени он съехал
со станции в город, отправив бабушку опять в Куйлюк, к тётке,
а деньги, которые они получали с постояльца их станционного
дома, они делили пополам. Собственно на эти деньги и снимал
свою городскую квартиру Тон Хван.
Я только что рассказывал о самых ранних воспоминаниях
Тон Хвана. Так вот, что бы ни происходило с нами потом,
всё казалось повторением чего-то уже бывшего, испытанного
может быть даже с большей силой, первобытней, неистребимей.
И я, и он ездили в детстве в пионерские лагеря. Ах, этот
утренний запах травы и солнца, когда идёшь чистить зубы
к умывальнику и начинаешь день с того, что проглатываешь
со всеми хором первую щётку мятной зубной пасты, которую
можно оказывается есть...
Тон же рассказывал мне об их вожатом - некоем Володе
- десятикласснике (по нашим тем временам и меркам - взрослый
человек - куда уж взрослее?!) влюблённом в другую вожатую
- Лену, которая, увы, заглядывалась на совсем другого хлыща
- крутогрудого волейболиста Лёню - старшего пионервожатого
всего лагеря. И всякий раз, когда на утренней линейке Лёня
поднимал флаг лагеря и вожатые докладывали ему о строе своих
отрядов, Тон с замиранием в сердце замечал, как дрожат голоса
Володи и Лены, но по разному поводу, и ему становилось так
жалко этого долговязого, красивого - намного красивей Лёни
- Володю, которого не хотела любить Лена...
Чужая любовь всегда острее что-ли. Я сам помню, как
в той предгорной школе в отцовском кишлаке мы только и жили
тем, что разбирали, почему наш баскетбольный кумир - девятикласник
Борис оказывается влюбил в себя и оставил Курманову Гулю
- отличницу и красавицу, а в эту Гулю был безответно влюблён
другой наш кумир - Жаныш, и нам было одинаково жаль и понурую
Гулю, и печального даже за игрой Жаныша. С кем я это обсуждал
- уже не помню. Не с Илюшей же Пентакиди, занятым лишь своей
стукалочкой! И вот я думаю теперь, не в себе ли самом во
мне происходило всё это?
То же самое я замечал и на квартире у Тона. К нему
очень часто приходила его однокурсинца - девушка по имени
Фая. Девушка как девушка. Из тех, которые становятся лучшими
друзьями. Незаметная, настолько незаметная, что даже без
признаков пола. Что-то варила, мыла полы, читала книги,
сидела при спорах. Подозреваю что Тон Хван принимал её уже
за принадлежность своего обиталища: сундук на месте, кровать
на месте, Фая на месте...
И вот однажды Фая влюбилась. Взбунтовалась. Девушка,
которая без обиняков могла остаться ночевать и лечь спиной
рядом. Знаете - эти медицинские медбрато-медсестринские
отношения. Влюбилась в приятеля, которого я привёз на каникулы
с собой. Нет, он не давал никакого повода, правда, был несколько
удивлён её роли на этой квартире, вот и всё. Но это удивление,
эта отстранённость от ситуации оказалась достаточной, чтобы
раскачать равновесие, гомеостазис, как говорил Тон Хван,
Фаечки. И она ушла с квартиры. Вышла из себя. Помню, однажды
Тон поехал за ней, предварительно созвонившись по телефону.
Ведь и вправду трудно представить себе, что вдруг на месте,
где стоял всю твою жизнь привычный сундук, теперь - пустота.
А тут - не сундук, тут целый человек!
Позже он рассказывал мне что встретил её на улице,
у Дворца Спорта. Он пытался с ней объясниться, но впервые
чувствовал, что все его слова идут по касательной, не проникая
в неё. Они шли непонятно в какую сторону и Тон Хван пытался
удержать её хотя бы в пределах своего понимания, но она
была уже другой, она была уже чужой. А может быть она и
всегда была такой, и требовалась лишь её любовь к другому,
чтобы всё это обнаружить. “Как будто пытаешься петь чужую
песню при самом барде”, - говорил Тон Хван.
Чужая любовь как чужая песня...
*
* *
Тон Хван ни с кем до тех пор не расставался. Не считая,
конечно, матери и бабушки. Аля изначально была потусторонней,
а все остальные были всегда при нём. Не считать же расставанием
эти пять километров от станции и до города, когда сев на
любой автобус - в двадцать минут можно приехать к любой
из одноклассниц, поскольку одноклассники в основном все
ушли в армию.
У меня же расстояния были как бы наговорены с самого
детства, с бестолкового скитания родителей, а вернее, мамы
- от своей матери и до моего отца, а потом - обратно. Вот
и мой московский биофак был как бы избран заведомо подальше,
чтобы разлука с очередной или внеочередной Наташей Казанжи
была погорше. Я говорил о Нелли, но переписывался я с Афродитой
- полу-кореянкой, полу-русской - сестрой своего одноклассника
Елисея. И опять это было как с Наташей Казанжи - я никогда
в жизни с ней не разговаривал, а заметил её на том самом
сборе хлопка, когда эта девчушка - семиклассница, чьё лицо
никогда не знало краски, и только хлопковую пыль, плакала
то ли от бессилия собирать эти режущие коробочки, то ли
от охоты поесть клубничного варенья...
С Елисеем я никогда особо не дружил, но написал ему
письмо преднамеренно, зная, что если не первое, так второе,
не второе, так третье - сестра его прочтёт. А впрочем, среди
приветов и поклонов - ей тоже отпускался свой, особый, несколько
свысока - этой девятиклашке... Расчёт мой оказался верным.
Девочка написала мне письмо, жалуясь на лень своего брата,
не выдержавшего темпа переписки с Москвой. Но как девятиклассница,
уже должная иметь своё суждение о мире, несколько раздражённо
написала: почему это я сыплю всё больше латинскими изречениями
и поговорками, когда никто на станции кроме аптекарей никогда
о латыни и не слыхивал? И так появился повод для переписки.
А латынью я сыпал не потому, что мы изучали и записывали
какую-нибудь заднюю ногу хромоногой собаки именно этой самой
латынью, но именно и поимённо для завлечения внимания этой
самой девятиклассницы, читающей наверняка романы Золя и
Мопассана.
О, эти ожидания писем на кроватях общежития, когда
после занятий ты спешишь застать, а по свежести чувств почти
всегда предугадываешь день этой спешки, - письмо со знакомым
школьным почерком, робко пытающимся быть свободным хотя
бы в выборе своего наклона... О чём были эти письма? Какая-нибудь
пустяшная фраза, заставляющая колотиться сердце до самого
следующего письма, но более этих самых фраз - сам конверт,
как чистое обещание, когда ещё не ожидаешь никакого подвоха,
наподобие: “Ты знаешь, я на днях познакомилась здесь с парнем,
которого зовут Андреем, он такой интересный...”, - и тут
же поршок опять к пустяшной и колошматящей фразе: “Твои
письма хочется читать и читать, вчера я показала их подруге,
она тоже хочет с тобой переписываться...”
Господи, сколько значения придаётся в юности словам...
*
* *
Позже мы часто спорили с Тоном Хваном о женщинах.
Спорили - это сильно сказано, скорее обменивались мнениями,
поскольку я никогда не замечал за Тоном достаточной энергии
для противоречия: он мог легко уступить там, где казалось
бы должен стоять насмерть - исповедуя своего рода умственный
кун-фу - в конечном итоге спорящий побеждал самого себя.
Я был достаточно зрел, чтобы доказывать, что женщины значат
для этой жизни большее, нежели мужчины - они производят,
они создают, они воспроизводят человечество. Рождение -
акт происходящий из женщины и посредством женщины - оправдывает
всё остальное. это мужчинам остаётся выдумывать историю,
чтобы противопоставить её природе, либидовать, как выражался
я, начитавшись к тому времени Фрейда. Эти жалкие потуги
хоть что-то значить перед лицом родов: я как-то видел зарубежный
научно-популярный фильм, в котором муж и жена рожали вместе,
то есть я хочу сказать, что в родильном доме к жене был
приставлен её муж, державший роженицу за руку. Ничего более
ненужного при родах, нежели этот мужчина, я не видел. На
кровати лежала она,
акушерка массировала живот
ей, сама она мучилась в родовых схватках, выделяя
из себя выношенную жизнь, а этот сидел, только строя важность
и нужность при полной неприспособленности и неприкаянности...
Вот она - роль мужчины в этой жизни и для этой жизни!
На втором курсе Тон Хван приехал проездом и ко мне.
Едя в Ленинград, он остановился на пару дней в Москве. Мы
ходили вечерами по театрам: в Гоголя смотрели Пушкина, во
МХАТЕ “Утиную охоту”. Дни же проводили в музеях и галереях.
Вечером третьего дня мы выехали поездом в Ленинград.
Случайно или по намерению какой-нибудь доброхотливой
кассиршы, но именно в те годы мы попадали в купе к двум
девушкам наших же лет, и вот поначалу хорохорясь каждая
пара сама по себе: мы - рассказывая с демонстрацией сцен
о последнем фильме с Брюсом Ли, они же - обсуждая наряды
какой-нибудь “Крестьянки” или “Работницы”, в конце концов
все сходились неожиданно и смущённо на виниловой пластинке
из “Ровесника” и потихоньку завязывался разговор. Один из
нас предлагал этим всем совсем уж диковинную в те годы жевательную
резинку, и после резинки, другой уже бежал в вагон-ресторан
за бутылкой какого-нибудь “Солнцедара”.
Но в тот раз Тон Хван принёс из вагона-ресторана вместе
с варённой курочкой бутылку крымской “Массандры”, девчата
же достали копчённого сыру и наваренных яичек и мы закатили
пир...
За окном стояла близкая к белой ночь и уже начинались
валдайские перелески после густых и тёмных лесов дальнего
Подмосковья, когда мы пересказали все анекдоты и смешные
сцены из последних фильмов и стали просто уже вздыхать и
глядеть за смущением в окна. Дальше должно было начинаться
то, о чём и мне, и наверняка Тону, рассказывали наши каникулярные
однокурсники - должна была начинаться “стукалочка по Илюше”.
Но как и в том глубоком детстве, так и сейчас какой-то тормоз
из доверчивого взгляда этих девчат, из внутренней стеснительности
при внешнем кураже стопорил всё, и сидя в ступоре, не только
я, но и Тон Хван глядели то ли в свои отражения, то ли ещё
дальше, на эти мелькающие в зеленоватом свете туманные кусты,
летнее тусклое от ночи разнотравье - ту молодость жизни
в дымке, которая до сих пор кружится в моих глазах и чувствах
утекающей каруселью пространства и времени.
Я помню, тогда с неким облегчением необязательности
этой самой “стукалочки” я вдруг решил ложиться спать, и
как положено в этом возрасте, полез на верхнюю полку. Так
поступила за ненадобностью и та девушка, что сидела рядом
со мной, правда, она легла внизу, там, где мы сидели минутой
раньше вдвоём. Тон Хван же с другой девушкой задержались
в некоторой то ли нерешительности, то ли как-раз-таки в
решимости, но как бы то ни было, выдуманный мною сон не
шёл, разумеется, в глаза, и я, лёжа на животе, чуял всем
телом девушку, лежащюю внизу - подо мной, на нижней полке,
хотя глазами смотрел всё ещё в ту самую валдайскую полубелую,
светлую ночь. И не только это. Ещё я чуял каждой
клеткой своего бессонного тела двоих, сидящих молча, напротив:
каждое дыхание и движение их. Вот мне показалось, что девушка
решила прилечь - или я спутал это с движением “моей”, отворачивающейся
под лёгкой простынёй к стенке? - нет, это она вытянулась
внизу - мелькнул отсвет простыни в молочно-зелёном мутном
окне и опять равномерно застучал поезд по стыкам, перескакивая
с рельсов на рельсы. Прошло ещё некоторое время. Затем ещё.
Мне казалось, что для всеобщей справедливости должно произойти
что-то, но это что-то не происходило. Знаете, как для начала
кристаллизации достаточно стука или хлопка, так и мне надо
ли было кашлянуть или бросить вниз ободряющее слово, но
я делал вид, что спал и не спал на самом деле, они же делали
вид, что бодрствуют, и Тон Хван сидел неподвижно у ног истомившейся
наверняка в неразрешимости девушки.
Не знаю, чем кончилась тогда эта ночь. Скорее всего
всеобщим сном. И скорее всего я знаю об этом, но то самое
чувство бесконечного, неразрешимого ожидания своего ли,
чужого ли действия посреди валдайской ночи ещё долго, почти
непрекращающеся стучало по рельсам моей жизни.
*
* *
Обратно из Ленинграда мы ехали уже по отдельности
и Тон Хван задержался на несколько дней. Ленинград тех лет...
Наверняка в дневниках тех лет есть мои восторженные записи
от красного песка и белых зданий, зелени царских и царственных
пригородов и лепоты дворцов, скученности театров и простора
васильеостровских закатов. Словом, нет более красивого города
в Союзе, нежели Ленинград. Он совершенно чужой, чуждый этой
стране, он - другая страна в этой стране, другая и в смысле
времени и пространства. Ощущенье зарубежья жизни не покидает
тебя в Ленинграде - даже в его коммунальных клоповниках.
Такое впечатление, что тебя всё время кто-то снимает в кино...
Но что-то я отвлёкся. Дочь моя, когда ей было пять
лет, пригласила на свой день рождения подругу трёхлетку,
которая увидев на стене фотографию спросила: “Ёша, а
это кто?” “Это я - в детстве”, - ответила дочка, не мешкая.
“Но ты ведь и сейчас в нём”, - удивилась малышка. “Да, но
это я в глубоком детстве”, - не задержалась с ответом Ёшка.
Так вот, в дни моей глубокой молодости один из профессиональных
ловеласов моего окружения - человек, давно полысевший и
обрюзгший донельзя теперь, в одной тёплой компании рассказывал
нам некую притчу о том, как лепя женщину Бог так влюбился
в свою работу, что решил повторить. А потом ещё, и ещё.
Но вот сахар для замеса был рассчитан лишь на одну порцию,
и тогда Бог решил вложить его в самое любимое произведение
- самое первое, рассчитанное на себя, но оказалось, что
пока Он был увлечён лепкой копий, Дьявол уже всыпал этот
сахар в одну из них. “Вот и мучится не только Бог, но и
человек, ища, которая женщина слаще и всякий раз ему мнится,
что сахар в соседней”, - закончил тогда он свой тост, предлагая
за что-то по этому поводу выпить...
Я всегда удивлялся тому, как до зубов вооружены подобными
притчами, иносказаниями, параболами все эти записные красавцы,
и на каждый случай жизни им есть что сказать, чем обезоружить
женщину, снять доспехи её обороны...
Но не Тон Хван. В тот раз он приехал безнадёжно влюблённым
в некую Лиечку, девочку, которую он встретил мельком в поезде,
ну совсем как лейтенант Шмидт, и вот он никак не мог прийти
в себя, рассказывая, как она оттопыривала пальчик, пия поездной
чай... “Ты знаешь, какая она простая. Ни краски на лице,
ни пылинки. Как будто всё смыто...чистое лицо и огромные
глаза...”
В тот день мы поехали в Подмосковье, навестить нашего
служивого одноклассника - Генку Пчеленкова, зарывшегося
в какие-то ракетно-секретные леса. И это было сплошным мучением,
нет, не для меня, хотя, честно говоря и для меня, но в большей
степени для Тона, который в каждой встречной красивой девчонке
распознавал свою Лиечку: та пила, закинув голову, лимонад,
другая тянула воду из колодца, третья просто уходила в зелёный,
опрятный подмосковный лес...
Знала ли эта самая простая, простодушная Лиечка, которую,
оказывается встретили на вокзале старенькие родители, как
её любил некто и не родительской любовью?!
Через месяц Тон прислал мне напыщенно-архаическое
стихотворение, написанное им сразу же по возвращении, но
сама эта напыщенность, вся эта тяжеловесная декоративность
говорила как раз-таки о старомодной истинности его чувств.
Вот оно, это стихотворение:
На паперти Любви
дрожащими руками
ловя не глядя
брошенный пятак,
я бьюсь губами
о холодный камень...
Кто виноват,
что всё случилось так?
Уходит солнце
на лучах-ходулях,
Сметая свет.
А где-то далеко
Застряла словно
в вате облаков.
Ревёт органом
ненавистный вечер,
минута встречи
без добра и зла,
и вместо солнца
- вянущие свечи...
Кто виноват,
что мимо ты прошла?
И час за часом
страшной вереницей
уходит юность
в беспросветный мрак,
и жизнь моя
- подстреленная птица -
трепещет на
обломанных крылах.
А завтра вновь,
изнемождённый нищий,
услышав шёпот,
словно благовест,
взмолю твой
след, а взгляд пятак твой сыщет...
Кто виноват,
что ты на свете есть?...
*
* *
Песнь пятая
Тон Хван мог бы жениться в двадцатисемилетнем возрасте.
Очень поздно по нашим того времени меркам. Я сам женился
в двадцать четыре и считал, что упустил своё время бобылём...
И я не уверен, что раньше женитьбы он знал женщин, то есть
как стали говорить чуть позже и повсеместно - спал с ними.
Девчата с его мединститута, которые всегда кажутся простыми
и доступными, при ближайшем - нет не рассмотрении, а отношении
оказываются такими же сложными, как и, скажем, романтизированные
филологини, если не сложнее. Играть в “бутылочку” с расстёгиванием
каждой следующей пуговички или же с поцелуями взасос - да,
а чуть дальше - стоп! Впрочем, сам Тон Хван никогда не шёл
дальше. Он был воспитанным человеком, не причиняющим ни
малейшего неудобства окружающим, а тем более - себе.
Честно говоря, я замечал это качество и за собой.
Поколение что ли было воспитано так, что представление о
тебе было всегда важнее для тебя - тебя самого, такого как
ты есть. Не приведи господь уронить себя в чьих-то глазах...
Я полагаю, что перед самой женитьбой он мог быть влюблёным
в ту самую романтизированную филологиню, и об этом я, пожалуй,
расскажу сейчас. Звали эту студентку Лика - сокращение от
кого-то имени, но именно с этой родовой интеллигентской
таинственности и начиналось то самое романтизирование. Некое
начало века, “она пришла с мороза, вся раскрасневшаяся”
и т.д. и т.п. Единственный раз, когда Тон Хван повёл меня
в эту потомственно рафинированную семью, она и впрямь пришла
с мороза, я помню как сейчас, Лика стояла в углу, прислонившись
спиной и ладонями к высокой печке-контрамарке и что-то возвышенно
говорила. Мне она казалась не меньше как Марией Магдалиной,
закатывающей глаза к небу, Тон же и вовсе был от неё без
ума.
Мама Лики преподавала на том же самом филологическом
факультете и в юности некоторое время, как студентка, язык
не поворачивается сказать “прислуживала”, лучше сказать
- помогала по хозяйству Анне Ахматовой. Вот и сохранила
эта семья некую ахматовскую “королевистость”, и эта самая
королевистость передалась по наследству Лике, как будто
затем, чтобы по этим мелким временам не терять эту самую
ахматовскость:”Ну а тот, кто с нею танцует, непременно сгорит
в аду!”
В тот раз, когда Тон повёл меня к ним, я приехал на
свои последние зимние каникулы и Тон, уже, видимо намеревавшийся
жениться, мучительно признавался мне, что не может выбрать
между двумя. Мне же тогда показалось, что этот преднамеренный
треугольник сочинил он сам, чтобы в конце концов жениться,
но и женившись, всегда хранить при себе другую, несбывшуюся
возможность, о которой позже один узбекский поэт-песенник
очень точно сказал: “Куйнимда бир ёр, кунглимда бир ёр”
- в объятиях - одна, на сердце - другая. А показалось это
мне потому, что уж больно откровенен был в тот раз Тон в
своём эдаком разрыве, уж слишком он был литературен между
двух своих пассий...
Мне только что приснился сон и как всякий сон, он
кажется, всё объясняет в этой жизни с той степенью определённости,
на которую ты способен. Будто-бы я вижу Землю на отдалении
и весь этот глобус покрыт некими красными линиями - своего
рода марсианскими каналами, которые прибывают. Сначала мне
подумалось, что таким образом обозначены реки Земли, и то
была правда. но почему реки не сини, а красны с отливом
в сиренево-фиолетовое?! Что-то тревожное заговорило во мне
и вслед за этим я вдруг увидел, что это самолёты Земли -
как иммерсионным следом, покрывают Землю и особенно же её
реки этим сиренево-фиолетовым дымом. Догадка о некой экологической
тревоге коснулась меня, но я был больше опьянен этим ощущением
пребывания на Земле и её постороннего восприятия. В эту
же самую секунду я ощутил дрожь её воздуха и увидел, как
эти сверхсовременные самолёты надвигаются со свистом на
меня.
Я был со своим сыном на этой границе двух миров -
пребываемого и наблюдаемого и вдруг с характерным гулом
самолёты пролетели над нами - и кувыркнувшись в воздухе
за спиной как голуби, повернули обратно. Они летали всё
ниже и ниже - уже настолько низко, что было ясно: они прощупывают
каждый клочок земли и нет ничего неизвестного им. Тень вечно
преследующей третьей мировой войны как бы стала сгущаться
в очередной раз. С этой самой болезненной предопределённостью
один из самолётов вдруг коснулся границы перед нами и как-то
металлическим носом обнюхал её, как могут ощупывать предметы
локаторы. Потом он, как мне показалось, обнюхал мимоходом
и меня. Он что-то искал и искал что-то неверное в этом мире,
на этой Земле. И оно наверняка было в нас, потому как нас
охватил страх.
Первый раз пронесло. Но этот самый самолёт нащупал
что-то в глубине почвы и стал выклёвывать это самое неверное
из-под глыб, стуча часто-часто с отлёта своим металлическим
клювом. И тогда мы поняли, что нам следует бежать с сыном
с этой полосы Земли на другую, может быть более безопасную
для нас.
Пока самолёт клевался с Землёй, мы перебежали на параллельную
- над которой могли летать параллельные самолёты - делянку
и в тревоге перед неумолимо надвигающимся, равно как и в
нашей беззащитности перед этим, стали выдумывать способы
защиты. Это извечное ощущение, когда никуда не скроешься,
выдумало среди деревьев некий ящик - боюсь сказать - я раз
уже стёр это и написал его вновь, полный песка и ветоши.
И тогда в каком-то весёлом упоении перед опасностью я решил
положить сына в этот ящик и он согласился, и только лишь
попросил лечь лицом к этом концу, с тем, чтобы мог свободно
дышать. Уж здесь-то его не достанет, - подумал я и накрыл
с вырезом для дыхания целлофановую крышку ящика.
По мере написания я пугался всё больше и больше, но
теперь эта весёлость и что мой сын продолжал со мной разговаривать,
вселили в меня надежду, что он, как и в моём сне - теперь
в безопасности перед этим металлическим надвигающимся всезнающим
и всеправым.
Но ведь сон продолжался и он перешёл в ту стадию,
о которой я, собственно, и хотел рассказать. Есть у меня
две коллеги в моей экспериментальной команде. Обе - одиночки,
но одна - овдовевшая, другая - по выбору. И вот сидели мы
как-то в предночное время с ними, а со мной был ещё мой
друг по фамилии Артюхов - завзятый холостяк - сын своей
крутой мамы. Трепались о том, о сём. Я не знаю, как связались
эти две части сна и были ли они связаны на самом деле вовсе,
но можно допустить, что эти двое тоже лежали в своих спальных
мешках или на кроватях, готовясь ко сну в неких полевых
условиях, какие часто случаются в биологической жизни. И
вдруг, не знаю как, но когда свеча догорела и от неё пошёл
дым - одна из моих коллежанок - более серьёзная, сделавшая
жизнь по своему образу и подобию, твёрдо объявила, что намерена
спать, тем более, что избывать свечу это, что-то вроде как
бы неприлично, аморально, и тогда Артюхов, примостившийся
внизу рядом со вдовой - именно со вдовой, а не со вдовой,
вдруг с неприятной мне манерностью, какую я в нём никогда
раньше не знал, сказал: “Уже поздно и почему бы нам не лечь
всем вместе. Нас четверо: я - с тобой, а он - с ней”. И
полез в постель к своей новой напарнице. Та особо не сопротивлялась.
Я затушил свечку до конца и поднявшись сказал: “Артюхов,
а почему бы нам тебя не женить этой ночью”. Не помню, так
ли была оформлена эта фраза, но как-бы-то ни было в ней
было превосходство женатого мужчины перед падким холостяком,
и полный достоинства не столько перед собой, но перед своей
холодной коллегой, перед мурлыкающим Артюховым, и особенно
же перед своей, наверняка наблюдающей всё это женой, я удалился
в свой угол, наверняка прицепленный к тому пододеялу, где
руки Артюхова стали защупывать мою вдовую соратницу.
Жена моя молчала. Ей надо было включить свет в нашем
отсеке и честно говоря, меня это раздражало. Не за самого
себя, но за вторую коллежанку, ради которой и были затушена
свеча. Я попросил жену включить ближний свет, который освещал
бы наш только участок. Жена, набрасывая на себя ночнушку,
легко согласилась, но свет горел при всём при том на всех...
Вот и весь сон. Как и всякий другой сон, он, как мне
кажется, объясняет всё. Просто надо внимательно всё истолковать.
Только вот надо ли?
*
* *
В наши студенческие годы Тон Хван часто приводил к
себе каких-то случайных девушек. Случайных конечно же для
меня. Поскольку, я зачастую останавливался у него на квартире
- он отдавал мне вторую связку ключей, то в поисках одиночества
я то и дело уезжал к нему на окраину города посреди белого
дня и вот тогда то заставал его дома с какой-нибудь белокурой
соседкой, которую он “подцепил”, купаясь на диком пляже
недалёкой речки, то, наоборот, он звонил в дверь или же
напрямую шелестел ключом, полагая, что дома никого нет и
представал передо мной - или же, скорее, я представал перед
ним, приведшим некую спутницу из больницы, где он лежал
вот уже неделю с пищевым отравлением, наевшись несвежего
арбуза. Мне кажется виной этим больничным побегам с полусомнительными
белокурками был Ремарк, которого Тон Хван, да и я, читали
обильно в те годы. что значили эти девки в жизни Тон Хвана?
Ведь ни с одной из них он, грубо говоря, не спал.
Хотя, мне кажется, пытался.
Однажды он привёз с собой на ночь, возвращаясь самолётом
из Москвы, командировочную девушку с часового завода. Я
был в это время в Москве и, собственно, провожая его на
аэровокзале, свёл эту плотную девушку с другом, поскольку
она летела туда же, что и Тон, не зная там никого. Вот почему
и рассказывал он мне впоследствие, что привёз он её к себе
на дом, они стали пить на ночь кофе, потом вино, привезённое
для друзей из Москвы, слушать музыку и даже танцевать вместе.
Он попытался обнять её и поцеловать. И это было позволено.
Но потом всё пошло-поехало нелепо. Он честно предложил ей
лечь спать вместе. Девушка, разумеется, честно отказалась.
Тон недоумевал. И даже обиделся. Но девушка, эта подпитая
девушка, была мало того, что непреклонна, ещё и агрессивна.
В её глазах засверкали какие-то злые огни и она сказала:
“Ты будешь спать на кухне, я - здесь. И если только посмеешь
приблизиться - получишь сковородой.” Тон Хван ничего не
понимал. Но, разумеется, не настаивал, а, обиженный и надувшийся,
пошёл спать на кухню. Утром он проводил девушку на родственный
часовой завод и всё кончилось этим. Вина, привезённого для
друзей было жалко.
Позже, когда на квартире у Тона появился тот самый
дневникастый Серёга, он поучал, что никакая из женщин, кроме
проституток и жён, не пойдёт спать по договору или уговору.
Кому хочется брать на себя вину или грех. Нет, им всегда
нужна “отпиздка”, говорил Серёга, слово, которое Тон принимал
поначалу за “отписку”, они должны иметь возможнось попенять
на кого-то. Но к тому времени Тон читал это же самое где-то
кажется у Музиля.
И всё же это касалось не столько случайных гостьей,
сколько самого Тона. И я понимаю его в том. При всём при
том была в нём некая внутренняя бережность к другому человеку,
я бы сказал “нефункциональность”, и это было в нём глубже,
нежели его похоть или страсть к коллекции. Как-то Тон Хван
признался мне, что всех женщин, с кем он спал, будучи уже
женатым, он любил и почти на каждой из них мог бы жениться.
Мне кажется, объяснением всему этому - его мать.
*
* *
Песнь шестая
Мячи… Всё начиналось с резинового красносинего мяча,
похожего на Сатурн, мяча, увиденного поначалу в детской
книжке о Тане, которая уронила в его в речку и не должна
при этом плакать, поскольку этот самый мяч не тонет. Моя
же лопаточка для песка в речке утонула и я плакал уже обратным
ходом, когда меня отшлёпала за это мама: ято был уверен,
что упавшее в речку не должно тонуть. Так и повернулось
всё наоборот слёзы, недоверие к мячу и книге, а отсюда жадная
тяга и это слово “плачь” символ того самого резинового мяча:
разбежишься влепишь по мячу а он издаёт это слово: “плачь!”
“п” прикосновения, тягучевдавливающееся “л” или даже “пл”
и с отлетающим от ноги “а” до ушей доносится шлёп от “ч”!
“Плачь!” босая нога горит всей ступнёй, “плачь!” гулкий
и звонкий мяч кувыркается сорвавшимся с орбиты Сатурном.
Это лишь один удар босой ступнёй, вернее её подъёмом.
Когда же пинаешь этот мяч пыром или как пишется в
учебниках носком, то он гулко гудит, а стукнувшись юзом
об асфальт или любую голую и жёсткую землю, ещё и взвизгивает,
но совсем другое дело, когда этот мяч прокалывается. Есть
два его состояния: состояние с ненайденной дыркой прокола,
когда после удара он вдавливается и не распрямляется, так
и летя шаром с выемкой: каждый новый удар перетягивает часть
этой выемки на себя, вот и превращается недавний шар в непонятную
форму, на которой каждый оставляет уже своё раздражение,
пока эта форма не запнётся к какимнибудь соседям на крышу
и не вернётся, выгорев на солнце, к своей первоначальной
форме.
Тогда есть хитрость: бросить мяч в воду и подавить
с боков, и вот когда прокол даст о себе знать медленными
пузырьками, проткнуть и разворошить эту дырочку гвоздём.
Тогда резиновый мяч приобретает своё последнее состояние,
проколотого, но восстанавливающегося мяча. Он уже не упругий
как изначальный, но зато не кривой, а при всяком ударе мягко
слипается с ногой и медленной отрывается от неё, чтобы по
ходу набрать через дырочку опять воздуха до нового пинка.
Но уж если бьёшь таким мячом штрафной, то метиться надо
большим пальцем в саму дырочку и если палец не прорвёт её
окончательно, то он ложится на отверстие пипкой и тогда
воздуху некуда деваться, как только в силу удара и мяч летит
как настоящий в раствор ворот.
Это всё о большом резиновом мяче. Есть мяч поменьше
с гандбольный. У этого свои повадки…
*
* *
В нашей центральной
библиотеке, в отделе редких изданий работала стареющая и
одинокая женщина по имени Леонор. Наверняка её звали Элеонорой
или ещё как, но как душевно она сокращала свой возраст,
так и в имени её оставалось с возрастом всё меньше букв.
Друзья называли её уже Лорхен, она же иногда игриво предлагала
звать её Лорой.
Ум её, да и, впрочем, всё её существо было таким же,
как подведомственные ей редкие издания. В единственном экземпляре.
И в этом нет никакой иронии, скорее восхищение.
Лорхен, давайте я остановлюсь на этом варианте, так
вот Лорхен была автором множества выдающихся ума холодных
наблюдений и сердца горестных замет. Частью я объясняю теперь
это тем, что она была и впрямь допущена до редких изданий
какого-нибудь там вовсе неизвестного в те времена в читательском
обиходе Юнга или Адорно, но большей частью, и я уверен в
этом, её теории - как тесто на редких дрожжах, были производимы
её самой.
По одной из её теорий история мира - эта история войны
между полами с переменным успехом. После естественно матриархата
начались эти напрочь деланные поползновения мужичишек, и
когда я, это самый мужичишка, останавливал её на этом слове,
она недовольно прерывала свой дискурс и начинала, как строгая
учительница, объяснять всё заново. “Вы знаете что такое
матриархат?” - спрашивала она меня для острастки. “Да, приходилось
читать”, - ответствовал я и начинал сыпать цитатами то из
Энгельса, то из Моргана, а то, дабы хоть как-то ей наперчить
- из какого-нибудь Леви-Брюля. “Достаточно, - останавливала
меня она, и продолжала: Так вот, матриархат был самодостаточен,
это потому нет никаких материальных улик того времени. Мужичишек
тогда держали лишь для детопроизводства, после чего с ними
обходились наподобие скорпионов, поедащих своих самцов.”
Она угрожающе взирала на меня и я подневольно начинал играть
в её игру. - “Эта война идёт до сих пор, правда, мне не
нравится какие она принимает формы. Особенно эта возня с
феминизмом. Вы знаете, что такое феминизм? - останавливалась
она как профессор, за которым студенты не успевают конспектировать.
Я вам расскажу об этом чуть позже”, - не успевала она выслушать
меня за приходом очередного читателя редких изданий, к примеру
того же самого Тона, с которым у ней был назначен разговор
на тему какой-нибудь латентной полигамии среди среднеазиатских
товарок...
Я
бы никогда не осмелился назвать её старой девой,
коей она формально была, не осмелился бы потому, что она
никогда при этом не была старой, а потом ещё девой, поскольку,
скорее, родилась уже умудрённой женщиной. Люди любят рассказывать
о неких проститутках, на окраинах песчанных, пляжных городишек,
где они ещё детьми обучаются любви, нет, если говорить о
женщине, которая учила нас с Тоном быть мужчинами, то это,
скорее всего, Лорхен. Мужчинами, способными ценить женщин
не только телесно, мужчинами, способными ценить в женщинах
их неприступное и неодолимое увядание, их каждый возраст,
красивый по-своему...
*
* *
Настаёт, по-видимому,
пора рассказать про между прочим о времени, когда кому из
нас пришлось, а кому лишь предстояло войти в жизнь семейную.
Как я уже говорил, мне часто казалось, что ранняя смерть
матери опустошила Тона изнутри и сделала его глубоко равнодушным
человеком. Что-то могло происходить снаружи, но его было
очень трудно затронуть по-существу. В этом он сподобился
дервишам, а Серёга, тот и вовсе придумал образ гнущегося
до земли, но не ломающегося тамариска. В образе Серёги,
по-моему, было больше от самого Серёги, опускающегося, но
не теряющего при этом своей самооценки. Хотя, как знать,
наверняка в словах Серёги была и доля правды о Тоне.
Я редко разговаривал об этом с ним, чтобы знать это
изнутри. Да и жена моя, после того как я женился неожиданно
для всех моих друзей, неожиданно для самого себя, не часто
говорила с Тоном, между ними сложились некие отношения ревности:
ведь он уступил ей друга, а она, будучи уже моей женой,
всё полагала, что мы многое скрываем между собой и ревновала
меня не только к нашему прошлому, но и к живому и попутному
воплощению этого прошлого - к Тону.
Обычно говорят: он быстро и незаметно обзавёлся детьми.
Вспоминая о том, как я обзавёлся двумя дочерьми я не сказал
бы, что отцовство моё случилось быстро и незаметно.
Девятимесячный кошмар беременности, когда всё жене
не в корм, когда сам ты - как нелепый довесок к этому крутому
животу - болтаешься под ногами и лишь изредко бываешь помилованным
и допущенным - потрогать как стучит твоё порождение, к которому
ты не имеешь теперь никакого отношения... И вот ночь родов,
когда ты впервые оказываешься по-настоящему нужным - вертишься,
крутишься, суетишься, то раздавая деньги - одной - за устройство
нужного роддома, второму - за то, что довёз ночью, третьей
за то что звонит врачу, четвёртой - за то, что она акушерка,
то после того, как эта самая акушерка выйдет после 12 часов
беспрерывного хождения по приёмному покою и наружу - под
окна, а потом обратно - с вестью, что ты отец, и ты не зная,
что это означает - бредёшь пьяный от непонимания по улицам
и не знаешь, что делают при таком случае: вышибают ли окна,
кричат ли на улицах, бросаются ли под трамвай, горланят
ли песни?! - и в конце концов забредаешь в свою ночную лабораторию
и засыпаешь на столе, чувствуя сердцем, что теперь ты не
тот, каким ты был до сих пор...
Почему же мне никогда не казалось и не представлялось,
что тоже самое могло произойти и с Тоном, который так и
не женился?
На виду всё схематичней. Сегодня ночью я видел Тона
мельком во сне. Будто бы пришли мы на одну и ту же работу
к тому самому профессору Венслову и через некоторое время
меня сделали завлабом, тогда как Тон так и остался в рядовых
исследователях. И вот я думаю: почему же случилось так,
ведь начинали мы одинаково и на время нашего прибытия к
профессору, быть может Тон был более лидером, чем я сам.
Этот сон объясняет, как мне кажется, мою зацикленность на
самом себе, ту самую зацикленность, что не позволяла подозревать
нечто глубинное в отношениях Тона с женщинами вокруг него,
ту самую зацикленность, которая стала камнем, каменищем
преткновения в моей собственной семейной жизни.
Теперь уже понятно, что и сам я не менее равнодушен,
чем Тон. С тем может быть отличием, что о себе-то и о своём
равнодушии я знаю гораздо больше, но об этом я расскажу
чуть позже.
*
* *
Я заметил, что о семейной
жизни люди говорят с меньшей охотой, нежели о жизни внесемейной.
Дескать, как в фигурном катании - есть скучная обязательная
программа, когда один за другим каждый фигурист вычерчивает
одни и те же круги, виражи, спирали, вытягивая по-одинаковому
ноги и раскидывая как и все - однообразные руки. И есть
произвольная программа, где уже каждый становится поэтом.
Потому, наверное, я знаю мало что о так называемой “семейной”
жизни Тона в кругу его сестёр, дядь и тёть, тогда как все
его “персональные дела” мне известны доподлинно, хотя признаюсь
ещё раз, я никогда не был его ближайшим другом.
Я рассказывал, как иногда он приезжал ко мне в Москву,
и вот одна история, что запала мне в память, поскольку напомнила
мне историю другую. Но обо всём по порядку.
Как-то, сидя на концерте художественной самодеятельности,
коими была так богата бесплатная клубная жизнь Окружного
Дома Офицеров, куда Тон заглядывал каждую субботу, поскольку
перед этими самыми концертами обыкновенно шла распродажа
книг, он обыкновенно послевкушал всё, что сегодня ему предстояло
листать дома и что грело сейчас его колени: “Сад радостей
земных” Джойс Керолл Оутс и “Русское искусство” Михаила
Алпатова, когда взгляд его рассеяно натыкавшийся на пианистку
из Театрального Института, вдруг заметил, что всякий раз,
когда она берёт низкие ноты, спина её выгибаясь в противоположную
сторону, внезапно оголяется из-под лёгонького свитера своей
зверской талией и это сочетание музыки и обнажения, чему
он позже нашёл подтверждение в моей общей тетради с самопальной
антологией: “Рояль дрожащий пену с губ оближет...” возбудило
его настолько, что лишь кончился концерт, как он, выскочив
из зала, обежал его и зашёл за обратную сторону, где интенданты
- содержатели этого клуба целовали ручки этой тетралке в
отстутствие своих мужеподобных жён, и ведь Тон не постеснялся
их, чувствуя некую гражданскую солидарность с девушкой и
подойдя сквозь этот строй, вручил ей приофицерно эти две
свои книжки и сказал: “Это вам за музыку”, и девушка лишь
взглянув на книги, вдруг всплеснула руками и воскликнула:
“Неужели это правда?!” и они согласно пошли сквозь этот
строй, кончавшийся прапорщиками-сверхсрочниками, так и не
успевшими приложиться к дамской ручке, но зато проводившими
их спешно в защитного цвета автобус, стоявший под акациями,
тот, что теперь вёз их по пустынному субботнему городу в
общежитие, где жила Таня и в котором они говорили о музыке...
Вспоминая ещё раз о концерте, он признавался себе,
что она напомнила ему чем-то цыганку - то ли широченной
юбкой с распахом, то ли серо-зелёными глазами, то ли некой
пухлостью, особенно выдававшейся в губах, то ли тем, как
при цыганке - при ей всё будущее становилось зыбким и зависимым
от вот этих губ...
Оказалось, что Таня приехала сюда учиться из Москвы,
поскольку в московские училища Вахтангова или щепкинское
едет поступать весь Союз, так что не пробьёшься. Скажу здесь,
что Тон обладал фантастическим свойством располагать людей
к себе. Людей предпочтительно женского пола. Поскольку он
был парнем совсем не из разряда Шварцнеггеров или Делонов,
то никто из лиц и тел противоположного пола и не подозревал
в нём ничего опасного для себя и вот эта безопасность была-таки
самым главным подвохом. А мушка, повисшая на одной нитке
одной ножкой, почитай, уже попалась в паутину.
Словом, говорили они исключительно о Джойс Керолл
Оутс и Тон прямо там же в автобусе отлистал тот её рассказ,
где некто стучится в дверь к девушке и соблязняет её на
протяжении короткого рассказа сквозь эту самую дверь, которую,
бедная девушка, в конце концов отворяет. После этого раза
Тон видел Таню ещё один раз, когда та переезжала, пользуясь
грузовиком того самого Дома офицеров, где интенданты и старшины
встретили сопровождающего Тона как своего старого знакомого,
и в тот раз, посреди знойного лета, в самом пекле старогородских
тупиков, Тон ещё раз увидел из-под задирающейся футболки
звериную талию Тани и томная восточная музыка, текущая медленно
в патоке зноя, ещё раз соединилась с этим обнажением в некую
взрывоопасную смесь и покрытая пылью старого города, стала
ждать своего часа...
Таня вскоре после переезда, закончила свой курс или
же перевелась наконец то ли в щепкинское, то ли в вахтанговское
московское, словом, уехала в Москву, оставив Тону лишь свой
телефон. Но даже это простое слово - “телефон”, произнесённое
ею в два приёма, казалось отлипло от своего непосредственного
значения, и превратилось всё в ту же внезапную наготу из-под
звонка...
Я говорил о том, что Тон навещал меня в Москве. Однажды
он весьма внезапно оказался у меня, но как всё это происходило,
я узнал намного позднее. Оказалось, что прилетел он в Домодедово
самым последним рейсом, что-то в десятом часу вечера, меня
тревожить не стал преднамеренно, а позвонил по тому самому
заветному номеру Тане в Тёплый Стан, где у той была кооперативная
квартирка, купленная разведёнными родителями вскладчину,
и Таня оказалась дома. И ведь помните, как было в Советском
Союзе - дескать, я вот в Москве и мне негде ночевать, можно
я приеду к тебе. И даже не так. “Я в Москве и я еду к тебе.
Привёз, мол, дынь и гранатов.” Какой из москвичей устоит
при этом?
Я видел Таню раз. Кажется передавая те самые дыни
и гранаты от Тона. И она мне тогда сказала, что каждый звонок
южанина - как солнце, встающее среди ночи. Так, наверное,
было и тогда. Тон приехал к ней на такси - что-то между
пятью и семью рублями в тех ценах. Было за полночь, и ни
одно из окон в её подъезде не светилось. Он поднялся по
адресу и позвонил в дверь. За ней долго не было никаких
признаков жизни. Тон тем временем успел и перепроверить
номер квартиры по шпаргалке, и пересомневаться бог знает
о чём и в чём, но в конце концов дверь отворилась и заспанная
Таня в зелёной ночной рубашке, морщась на подъездный свет,
пригласила его войти.
Мне нетрудно представить чувства Тона в ту минуту
той ночи. Окажитесь и вы среди полночи в чужой квартире,
где живёт одинокая девушка, окажитесь впервые, передумав
загодя тысячу вариантов своего поведения и теперь найдя,
что ни один из них неподходящ, поскольку в жизни всё неожиданнее,
нелепее, угловатее, чем это мыслится наперёд - и вы поймёте
эти чувства. Ночь настолько хрупка, что сам ты в осеннем
пальто и с авоськой, полной дынь да гранатов кажешься себе
грубым и невмещающемся в её пределы с этой заспанной девушкой
в шёлковой ночнушке, и от этого начинаешь суетиться, искать
себе роль по росту, голос твой не вмещается в шёпот, заданный
ею, пока она сама не придёт к тебе на помощь и не скажет
что-нибудь наподобие: “Я постелила тебе на кухне”, и только
тогда - перед лицом этой откровенной несправедливости, ты
воскликнешь: “А я тебе дыни и гранаты привёз. А ещё инжир,
который может пропасть...” И тогда она усмехнётся и, набросив
на себя кофту ли, свитерок, включит свет на кухне, и тогда
тебе уже не придётся жаться голосом, теперь ты распрямишь
его и вы долго будете сидеть на этой самой кухне при этом
самом включённом свете, разыгрывая этот самый нетерпящий
отлагательств инжир.
Так по-моему было и в ту ночь. Потом они легли каждый
на своё место, долго не умея расстаться, и Тон, поцеловавший
её в щёку на спокойную ночь, долго ворочался, не зная, что
придумать, пока в конце концов она сама не спросила из комнаты:
“Тебе не холодно там?”, и ведь спросила искренно о холоде,
он же, использовал немедленно этот шанс, чтобы встать и,
шлёпая по холодному линолеуму, а потом по паркету, пройти
к ней и молча лечь в её тёмную постель.
Нет, ничего тогда не произошло. Они лежали, долго
целуясь, и Тон, хоть и сходил с ума от немнущегося и скользкого
зелёного шёлка её ночной рубашки, но её молчаливый отказ
от большего, так и оставил в памяти ту самую задравшуюся
линию свитерка или футболки, с обнажённой из под них зверино-гибкой
спиной...
Правда, Тон приезжал к ней не раз. Вернее, всякий
раз, когда приезжал ко мне. Разумеется, тогда он не рассказывал
мне секрета того, как выныривал столь неожиданно в Москве,
без приезжих провинциальных чемоданов и пыли на лице. Позже
я узнал о тех “неделях один на один”, когда на всей земле
лишь они двое знали о том, где они: то в Доме Туриста на
Юго-Западной, то в дубовом зале ресторана “Прага” посреди
двух Арбатов, прыгая до полуночи под модный тогда “Вот:
новый поворот” “Машины Времени”, а то в магазине “Берлин”
или “Польская мода”, покупая ей трусики или же новое пальто
ему...
Тон уверял меня, что никогда ничего с ней не происходило...
Но Тёплый Стан так и остался в его жизни Тёплым, выглядывающим
тонкой линией, Станом...
Песнь седьмая
А почему, собственно, что-то должно было случиться?!
И что это собственно, что должно было случиться? Разве не
то, что происходило между ними двумя важнее, скажем, лишения
невинности или гражданского брака? Или не та самая внутренняя
деликатность Тона, о которой я говорил уже не раз, интересней
для наблюдения и размышления? Ведь он хотел её, да так,
что привязался до выдумывания поводов оказаться в Москве,
и этот зелёный шёлк ночной рубашки, и эти острые, а не цыганские,
как оказалось, груди из-под неё, и эти пухлые, целованные
им губы...
Но что ложится между мужчиной и женщиной, когда они
ждут друг друга, тоскуют друг о друге, и оказываясь вместе
не переходят этой последней черты? Почему эта черта так
отдаёт вечностью?
Была у меня знакомая девушка в Москве. Когда мне становилось
совсем одиноко и тоскливо от тупой учёбы, я запросто мог
позвонить ей и приехать на Семёновский Вал, в квартиру,
оставленную ей ушедшим к другой мужем. Нет, она не кормила
меня, это не был вариант студенческой мамочки, мы сидели
за долгими разговорами за какой-нибудь дешёвой бутылкой
вина и бог весть кем оставленными косточками абрикоса -
больше у ей ничего не бывало, и вот там, как нигде я чувствовал
всей кожей, всем мясом эту самую вялую, тоскливую, беззвучную
и бесформенную вечность, в которой никогда, ни за что, ничего
не происходит...
Хотел ли я её? И да, и нет. Да, поскольку знал, что
она может запросто переспать с другими, с теми самыми, которые
и оставляли ей пригоршню сухих косточек или изюма. Нет,
потому что не было между нами этой самой изначальной простоты.
И самое важное и неотвратимое - то, что её быть не могло.
Она ли была в этом виновата или я, я не задумывался. Теперь
же мне кажется, что человек отражаётся в человеке ещё до
того, как скажет свою первую приветственную фразу.
В своих умных разговорах мы легко переступали все
барьеры, все пределы приличия, я вполне по-медицински мог
рассказывать ей о новых гормонах, продлевающих оргазм, она
обогощала мою теорию своим опытом, но боже упаси, чтобы
я прикоснулся к ней или двинулся в её сторону - часами я
сидел на её софе, пригвождённый затылком к стене, и лишь
в самую немоготу вставал и шёл к окну - глотнуть воздуха
вне этой самой запертой в комнату и между нами вечности...
И всё же однажды после такого забора воздуха я подсел-таки
сзади неё на её табуретку и даже обнял её с шумным вздохом,
как мог бы, к примеру, сжать в объятиях подушку на её софе.
Её бёдра были фантастически широкими и свешивались с двух
краёв этой табуретки, а потому я просто завис на ней и это
было столь нелепо, что мы просто никогда впредь не вспоминали
того инцидента. Тогда она предложила кофе и я оставшийся
с широкобёдрой пустотой, которую она занимала мгновением
раньше на этой табуретке, вдохнул её в себя и пустота заполнила
моё нутро. Мне не было ни стыдно, ни досадно, никак...
И я любил её за это...
Так, я думаю, и Тон.
*
* *
Почему же чаще вспоминаются не бунинские солнечные
удары, а пастернаковские лейтенанты Шмидты? Ведь не потому,
что вся жизнь наша состояла из одних воздыханий. Хотите,
расскажу случай? Ещё в аспирантские годы послали меня как
павловского стипендианта на международный симпозиум молодых
учёных в Дублин. Редкая была возможность. После тысячи бесед
и аттестаций. После миллиона предупреждений, о том, как
себя вести в логове капитализма.
Но то ли внешней разведки не хватало на Дублин, то
ли она была стянута на какую-нибудь лондонскую операцию,
как бы то ни было, вопреки ожиданиям, на всей конференции
я оказался один на один с миром капитализма. Началось с
того, что я опоздал на открытие, вокруг не было никого,
кто бы мог подсказать в каком здании и в какой аудитории
пустого на каникулы университета собрались мои коллеги.
И когда я шелестел раздражающим щебнем между слепооконными
зданиями, изза угла появилась довольно дородная фигура толи
арабки, толи индуски, правда одетой поевропейски. Я дождался
когда она поравняется со мной и вежливо спросил не знает
ли она где идёт конференция по высшей нервной деятельности.
Она сказала, что направляется тудаже и я охотно потянулся
следом. На вид я дал ей все профессорские по распаху её
платья, она же оказалась как и я аспиранткой и тогда я примерил
её на себя.
Что я хочу сказать? Она была чуть ли не вдвое крупнее
меня физически, социально же мы оказались ровней и неожиданность
этого соположения, признаюсь, тут же приобрела во мне эротическую
окраску. Правда, это было лишь мимолётное головокружение,
которое тут же забылось, когда мы вошли в аудиторию и я
по своей врождённой примерности пошёл садиться в первый
ряд. Она же осталась гдето сзади, “в районе гипоталамуса”
как говорили у нас на факультете.
В первом же перерыве, когда вся учёная братия пошла
знакомиться за чашкой кофе, я по своей чужеродности и неприкаянности
оказался чуть дальше основной толпы, где-то на её задворках,
где и увидел опять ту же самую арабку или индуску, сидящую
в углу. Заметив меня, она помахала рукой, я подошёл к её
столику и она предложила мне выпить чего-нибудь. Пока я
отпирался, подыскивая вежливые английские фразы и тут же
копаясь в их грамматических нелепостях, она успела принести
стакан “Мартини” со льдом, напиток, который тут же опьянил
меня не столько силой алкоголя, сколько всеми литературными
ассоциациями, связанными с модной в нашей молодости хемингуэевщиной.
Кто знает то время, тот поймёт меня с полуслова: все эти
“пинта кьянти” или “бокал хереса”, воспринимаемые как литературные
знаки чего-то совершенно нам неизвестного.
Так вот, за “Мартини” мы стали говорить о чём-то биологическом
и быстро сошли на вопросы секса. Я имею в виду на вопросы
разделения полов. В биологическом контексте они значительно
более нейтральны, нежели в обыденной жизни, но наш биологический
разговор мало-помалу стал перемещаться в плоскость обыденную,
в которой я мог позволить себе быть значительно более прямолинейным,
пеняя якобы на незнание английскоого. Собственно я и использовал
это незнание, спрашивая у собеседницы, как по английски
будет “копуляция”, как будет “пенис”, а также ровно противоположное,
чтобы быть достаточно вооружённым для межсессионных дебатов.
Но на самом интересном месте нас прервал звонок на новую
сессию и мы опять расстались, но уже почти заговорщицки.
Через сессию в перерыве я опять стал будто бы ненароком
смещаться в сторону бара, но что за позор как говорят англичане
она сидела с каким-то слюноточивым профессором и тут я почувствовал некое чувство ревности,
совершенно, впрочем, беспочвенное, ну не назовёшь же почвой
какой-то разговор о полах - мало ли с кем она говорит на
эту тему, может быть, нет наверняка и с
этим профессором. И тем не менее я почувствовал себя
обманутым, в сердцах я говорил вполума с какими-то дородными
англичанами и сухопарыми французами то о состоянии биологии
в Москве и на периферии, то о системе обучения биологии
в Конго, сам же при этом думал о том, как легкомысленны
и однообразны эти женщины от русских и до индусок - мысль
в моём репертуаре оскорбительная, но опять звонок на новую
сессию прервал не столько моё мучение, сколько “барский”
союз профессора и аспирантки.
На следующем перерыве а это уже был перерыв на обед
я без обиняков ринулся к ней и пригласил вместе отобедать,
на что она невинно и охотно согласилась. Тем более, что
профессура пошла обедать на званый приём, а все остальные
на своё усмотрение. Она была при машине и предложила проехаться
до достопримечательности ресторанчика, дескать, описанного
в “Уллисе” у Джойса. Или я путаю что-то, но словом недорогого
и уютного местечка с местной пищей. И мы поехали. Мало что
помню из ресторана разве что прокуренную темноту и многолюдность,
а потом не то ирландскую, не то шотландскую пищу: какие-то
потроха или требуху, обильно приправляемую виски с водой
(хотя по знаемой литературе следовало бы виски с содовой,
но она отмела это как безвкусную литературщину!) и разговор
на грани фола - род разговора, который стоит всех радостей
постели, когда один за другим разрушаются редуты, на их
же место возводятся новые, которые впоследствие падут должны
пасть наподобие прежних. Честно говоря, это скорее всего
бой с тенью с собственной нерешительностью, мнительностью,
иллюзиями, скорее всего и сам разговор это род иллюзии существующей
для самого себя, но в том случае это была своего рода шахматная
партия или же игра в футбол в финале Кубка чемпионов…
В Радхе была половина немецкой крови, а потому при
индийской мистике глаз и зверином кокетстве в ней сидел
еще суровый и точный прусский ум и она рассказывала мне
о своём муже чистокровном немце, с которым у ней по её словам
были отношения охотника и зверя. “Моя задача говорила она
оказаться в назначенное время в назначенном месте. И когда
он из засады взведёт курок одним прыжком скрыться под самым
носом до нового времени и до нового места!” Я поддакивал,
не в силах совладать тем временем своим собственным взведённым
курком, и рылся в этой отменной гадости требухе, перемешанной
с густо перчённым тестом.
Словом, не приехали мы на послеобеденную часть конференции,
благо на послеполуденное время было запланированнно лиш
одно заседание с последующим коктейлем для профессуры, мы
же устроили свой собственный коктейль из пабов и забегаловок
Дублина идя следом Джойса, шедшего следом влекомого сМаринами
Одиссея. Вечер наступил както незаметно, как слепок с синих
витражей очередного ресторанчика, заживший собственной жизнью
и погрузневшая Радха повезла меня окружным путём в моё университетское
общежитие.
Казалось бы мы отговорили в своём биологическом откровении
все возможные и запретные тем, которые отделяют мужчину
от женщины, ан нет, сидя в машине и думая о последнем бастионе,
я удивлялся его непреодолимой неприступности: был ли он
внутри меня или же между нами, а то и в самой Радхе или
равноудалялся от всего перечисленного с каждой я не мог
сообразить, но я решительно не знал, что же мне делать теперь
перед потоком последних песчинок, скатывающихся из песочных
часов. “Я бы очень хотел побывать у тебя дома”, сказал я
с напускной обыденностью в голосе, но голос предал меня
и мою напускную обыденность, я положил руку на её руку,
лежащую на переключателе передач, на этом фаллическом пестике,
но опять почуял нелепость происходящего. “У меня муж дома”,
сказала она и рассмеялась. “Тогда пошли ко мне в гости”,
не унимался я на ходу. “Там профессора!” показывала чудеса
то ли древнеиндийской, то ли исконнонемецкой логики или
же изворотливости Радха.
За этими нелепостями мы подъехали в десятом часу к
площадке, где встретились да, сегодня утром. Гравий зашелестел
под шинами и она остановила машину фарами на окна университетского
общежития. “Ну что, до завтра?” сказала она, прерывая мои
чуть ли уже ни канючания. И тогда я склонился на прощальный
поцелуй как бы в щечку. Сколько раз я замечал, что с этого
прощания и начинается собственно встреча. Щёчка в темноте
подвернулась губами, а руки для последней опоры упали на
груди. Радха тяжёло задышала. И тогда я уже бесстыдно зашептал:
“Пойдём ко мне, никто не заметит!”, но она отлегла как бы
для нового дыхания и сказала: “Ладно, поедем…” Различие
я понял когда она развернула машину и с места взнуздала
её в сторону ночного Дублина, ведь в английском нет разницы
между “пойдём” и “поедем”. Дальше я уже возбуждённо молчал,
теперь нами управляла она. Меня разобрала мелкая дрожь,
но это продолжалось недолго куда она меня везла я не знал,
не к мужу же! Но когда она сказала: “Вот мой дом!”, моя
дрожь стала как вкопанная была у меня подружка банкирша,
которая всю жизнь хотела познакомить меня со своим мужем:
то ли хитрый, то ли трезвый расчёт, которого я своим биологическим
умом никак не понимал. Так ведь и Радха была биологиней!
“Пошли, но тихо”, сказала она и это меня почемуто
раззадорило. Какието фацеции Ирландии, думал я и крался
за ней по тёмной лестничной клетке. Она сходу, не громыхая
ключами, открыла одну из дверей и мы оказались в тёмной
прихожей. “Ну вот и пришли, выдохнула она и потянулась ко
мне. “Я ведь говорила, что я не одна!” прошептала она и
я склонился перед ней на колени, к тем тринадцати складкам
на животе, между которых льют мускусное масло в сказках
“Тысячи и одной ночи” …
С Радхой за семь солнечнопятнистых ночей и лунномолочных
дней мы прожили всю Камасутру вдоль и поперёк…
*
* *
Песнь восьмая
Я никогда не рассказывал о солнечных ударах никому.
С собеседницами я мог иногда поделиться своим или чужим
поражением. Но я замечал, что есть какойто запах или вернее
сцентии говоря моим профессиональным языком победного гона,
на который не только зачарованно озираются незнакомки в
трамвае или автобусе, но и ревниво начинают хвалиться своими
похождениями кореша. Когда я вернулся из Дублина, Тон ни
с того, ни с сего рассказал мне о своём хлопковом приключении
того осеннего сезона.
Я уже говорил о том, что каждый год нас старшеклассников
вывозили по осени на сбор хлопка, так вот этот самый вывоз
продолжался для тех, кто не выехал подобно мне в Москву
(на картошку!) и в институтские годы, и даже в послеинститутский
период, когда распределённые по разным НИИ, мы каждую осень
оказывались в какомнибудь Букинском или Баявутском районах
на соседних полевых станах.
В один из послехлопковых вечеров, когда подмытая и
поддатая братия точит ножи на еженощные вечерние танцы,
за Тоном заехал тот самый Серёга, который брал женские редуты
дневниками. Он и здесь устроился в Штаб краснобаем ли, краснописцем,
освещать трудовую страду. В тот вечер он пригнал на штабном
грузовике и предложил Тону смотаться в соседний колхоз,
там где художницы должны были заготовить формочку для очередной
штабной “Молнии”. Вполне безобидные фразы приобретали в
устах усатого Серёги двусмысленное значение, но и он имел
наверное какието резоны взять с собой именно Тона и Тон
тогда поддался. Они приехали в соседний колхоз, в какоето
имение какогото правления, спешились и вошли в прибранную
комнатку с настеленной на порог влажной тряпкой. В комнате,
презрев наверняка идущие гдето поблизости танцы, сидели
две девицы и вразнобой корпели над листом ватмана. “Девочки,
а вот и мы!” сказал как всегда двусмысленно Серёга, как
будто не то чтобы обнаруживая своё присутствие, а обнажая
нечто большее, непотребное. И вдруг он вытащил из газетного
свёртка с красками чтобы вы думали, нет, не свои разрушительные
дневники, а коробку шоколадных конфет и как бы легализируя
её сказал: “Это вам от Штаба!” Девочки взвизгнули от радости
и тогда Тон заметил как неприятно горбоноса одна, и как
фантастически красива другая. “Ну вот и понятно… уныло проковыляла
угаданная мысль, вот зачем
я здесь…”
Но оказывается Тон ошибался. Странный всётаки был
этот Серёга. То его тянуло на какихто худяшек, у которых,
как он говорил: “сисюльки как два лимончика, вот такусенькие!”,
то он менял их на бревноподобных с подусками на верхней
губе, то закучивал с такими толстушками, у которых по его
словам, что ни складка то промежность… Вот и тогда он почемуто
был открыто любезен с этой горбоноской, которая по распрямлении
оказалась сутулой как вопросительный знак, а в анфас белёсой
как погребная картошка. Но зато вторая, которую звали Алла,
была сказочна. При такой все бывшие, настоящие и будущие
романы, романчики, романища кажутся лишь пустой тратой времени,
подумал тогда Тон. При некой округлой полноте у Аллы была
осиная талия, а голос, голос тягучий и сладкий как патока.
Глаза с поволокой… Словом, Алла…
Нет, ничего тогда не случилось. Серёга забрал свою
“Молнию”, девочки вышли проводить до машины, Серёга чмокнулся
со своей горбушкой, а Тон лишь коснулся руки Аллы и всю
ночь после этого вспоминал изгиб её трико на бёдрах…
Через неделю Серёга взял Тона ещё раз в соседний колхоз.
На этот раз уже на танцы и тогда Тон впервые коснулся телом
тела Аллы. Как неожиданно и томно было это прикосновение
шелестящих от тесноты девичьих бёдр к твоим собственным,
они тёмные как этот вечер, почемуто вздрагивали, как пробитые
разрядом электрического тока, и ты не то чтобы прислушивался
к какойнибудь модной песенки наподобие: “Words, they come
easy to me”, скорее не музыка, а какойто гул нарождался
внутри тебя, и ты сдерживал его как кратер пытается остановить
вулкан…
В тот вечер Серёга забрал свою Маньку в кабину, а
Тон и Алла скакали на каждой ухабине в обнимку в кузове
и сразу по приезде в свой барак, зажавшись в угол и продолжая
какойто гул Тон написал вот это неприхотливое стихотворение,
которое, впрочем, мне понравилось больше, чем предыдущее:
А помнишь, двадцатые были века:
Мы едем на кузове грузовика,
начало июля, пора сенокоса,
вечернее солнце, смотрящее косо
и ветер упругий как лоб, как щека
изпод трепещущих крыльев платка…
Откуда, откуда вот эта строка:
“мы едем на кузове грузовика”?
и что она кружит как пыль за спиною,
и что остаётся за этой стеною
на этой земле, что как степь широка,
где запах полыни уносит река?..
И что в том прошёптанном слове “…пока…”
мы едем на кузове грузовика,
мы жмёмся в углу и на каждом подскоке
к губам прикасаются пыльные щёки,
несутся краснеющие облака
над кузовом нашего грузовика…
Да, но о самом событии. Оно случилось позже хлопкового
сезона. Алла и Маня пригласили Серёгу с Тоном к себе на
первую жу субботу: родители Аллы уехали на дачу. Заурядная
двухкомнатная квартира была заполнена на все полки соленьями
и вареньями. Закуси было завались, как сказал Серёга, доставая
бутылку армянского коньяка роскошь по тем временам неимоверную.
Тон как-то свернул в рассказе все приготовления, хотя по
мне это самое интересное во всяком процессе, и я уже сам
домысливал, как Тон колдовал на кухне над какимнибудь корейским
“чимчи” или “суши” делом более привычным и безопасным, чем
соблазнение готовых к соблазнению девушек. Есть в этом какаята
тайна, так и в тот раз Манька вдруг заартачилась посередине,
стала внезапно агрессивной по отношению к Серёге, выкопав
ссору из пустого места: дескать Серёга злоупотреблял ею
в своих корыстных целях, заставляя ко всему почему ещё писать
после хлопкового сбора “Молнии”! Серёга пытался свести всё
на шутку и предложил даже тост за корыстные по настоящему
цели, но разговор както расклеился, Тон с Аллой переглядывались
как виноватые, Алла поинтересовалась тут рецептом то ли
“чимчи”, то ли “суши”, и разговор неуклюже переполз на кулинарию.
Правда, в Мане все ещё отаукивалась эта самая женская злость,
но за разговорами и за лишней рюмкой армянского коньяка
она сменилась некой развязностью и Маня ни с того, ни с
сего полезла целоваться с Серёгой.
Никогда Тон не видел Серёгу столь обескураженным и
сконфуженным. Тон опять переглянулся с Аллой, тогда Алла
встала и включила музыку. Серёга с Маней пошли танцевать.
Тон же с Аллой сидели в какомто немом согласии как две подпорки,
боясь шелохнуться и растревожить то равновесие в Мане, которое
могло разрушить весь вечер.
Через некоторое время, пока Тон с Аллой поцеживали
то ли Серёгин армянский коньяк, то ли какуюто клубничновишнёвую
настойку Аллиного отца дяди Шурика, Серёга с Маней плавно
скрылись в соседней родительской комнате, откуда заглушая
музыку стали доноситься злостносладострастные стоны Мани
и какойто шипящий шёпот Серёги. Тону стало и впрямь неловко,
но не то чтобы за них, а за самого себя. То что так легко
в фильмах и книгах: мужчина наклоняется к женщине, женщина
закрывает глаза и тянет навстречу свои губы так непреодолимо
в жизни, а если и преодолимо, то както нелепо, какимто
неуклюжим скачком, который хочется забыть, вырезать как
кадр… Тон потянулся к Алле, но задел животом банку баклажанной
икры, которая растеклась и по белоснежной скатерти Аллиной
мамы и по крахмальной рубашке Тона, Алла вскрикнула и бросилась
на помощь это наверняка надо бы ввести во все мужские учебники
по соблазнению женщин: Алла не только в мгновение ока стянула
с Тона его рубашку, но и жалостливо заглянула ему в узкие
корейские глаза, и даже милосердно поцеловала и тогда Тон
просто вцепился в неё.
Алла была самим представлением женственности: обволакивающей,
мягкой, словом всё по Розанову, которого украдкой читал
в те дни Тон Хван. Её тяжёлые груди были помолодому упруги,
а дыхание лишено запаха женской плоти лишь лёгкая горечь
модной сигареты. Молча она провела его в своё комнатушку
и стала раздеваться в лунности как некая наяда или русалка.
Тон был так опьянён происходящим, что стоял как вкопанный,
и даже когда нагая Алла не то чтобы легла, а расстелилась
по диагонали простыни, смутно мерцая своим пшеничным телом,
Тон никак не мог соизмерить себя с красотою увиденого, пока
Алла не прошептала простонародное “Ляжь!”, и даже в этом
“Ляжь!”, сказанном вместо жёсткого “Ляг!” был всё тот же
тот излишек женственности, который размозжил Тона.
Ничего у него тогда не получилось. Они долго лежали
тогда нагие, во влажной лунности и Алла рассказывала Тону
о том, как она хотела стать кинорежиссёром, Тон же шептал
ей какая из неё могла бы получиться актриса и искренне придумывал
разные способы претворения этих слов в явь. Потом Серёга
с Маней, деликатно постучавшись в их дверь, позвали их опять
в гостиную, где они опять сидели за чаем и ничего не значащими
досужими разговорами, а ближе к рассвету Маня решила спать,
на что Серёга вспомнил, что ему ехать в область за материалом
и они вышли с Серёгой на зябкую предрассветную улицу и серый
Серёга всё принюхивался к своей рубахе и матерился: “Вот
блядь, опять провонял этими бабскими духами!”
Когда я говорил о сцентиях победного гона, я всегда
вспоминал почемуто рассказ Тона о помятом Серёге на предрассветной
дороге от женщины…
* * *
Однажды Тон спросил меня: испытывал ли я влечение
к женщинеочкарику, когда с неё спадают очки? Меня тогда
удивил не сам вопрос, сколько тот факт, что спросил меня
об этом Тон. Потому наверное вместо ответа на вопрос, я
тут же сам вопросил, почемуде он меня об этом спрашивает.
В ответ он просто улыбнулся. Уже потом я пытался представить
себе, что подразумевал этим вопросом Тон: не думаю, что
в духе того, дескать мне зима нравится больше чем лето,
поскольку женщины больше раздеваются зимой, даже сброс пальто
уже есть намёк на чтото большее и т.д. и т.п., нет, не
в этом духе; скорее некая беззащитность умной девушки, ум
которой опосредован вот этими самыми обронёнными очками,
и без них она обезоружена, и без них она в поиске того,
что собственно и помогает искать, в этом она наиболее женственна
и хрупка как лепесток розы, лишившейся шипов. И ты всё это
видишь, наблюдаешь наподобие всесильного демиурга. Как же,
как же! Всё это насквозь эротично!
Тон както рассказал мне самый запомнившийся рассказ
из дневника Серёги. Серёга делал материал о музее какогото
героя и в этом музее работала девушкаочкарик по имени Муза
не то чтобы синий чулок, но на пути к этому. Но что понравилось
Серёге, так это как она косила даже сквозь очки, как взгляд
её мутнел, когда Серёга позволял себе маленькие вольности.
Серёгу это сводило с ума. Уж если очки не защищают её, то
представьте себе её без очков…
И хотя Серёга сдал уже свой героический материал в
газету, и хотя газета уже отклонила его за расфокусированностью
взгляда, неуёмный Серёга пригласил Музу к себе домой под
предлогом окончательной отшлифовки материала. Они договорились
отработать материал, а потом быь может пойти на выставку.
На дворе стоял уже раскисший октябрь. Никуда идти не хотелось,
а потому, встретив на остановке Музу и приведя её к себе
домой, Серёга стал первым делом кормить её корейским “суши”,
выученным им у Тона. Она в жизни не ела “суши”, а потому
разведя два мутных глаза под очками, стала уплетать обыкновенную
лапшу, разбавленную псевдокорейским соусом. Серёга приблизился
к ней сзади и осторожно снял с неё очки, мягко сказав, что
так будет удобнее есть, и увидев сверху её два обнажённых
глаза, уже не мог сдержаться и наклонился к пухлым и влажным
губам, ко рту, ещё полному “суши”. Она не могла ничего сказать
и только беспомощно водила окосевшими глазами по сторонам.
Ничего так не распаляло в жизни Серёгу, как эти ничего не
видящие глаза. И тогда он не сдержался: вынул своё оружие
и уставил его в лицо Музе. То ли за близорукостью, то ли
преднамеренно, но Муза не испугалась и не шарахнулась, а
ртом, ещё не опустошённым от лапши, прикоснулась к нему…
Позже, когда Муза честно призналась, что ничего подобного
в жизни не испытавала, но всё же со свойственнной ей интелллектуальностью
добавила: “А я думала, что мы пойдём на выставку…”, Серёга,
этот борзописец Серёга приписал в своём сокрушающем дневнике:
“Да не на выставку, а на вставку, дура!”
Этогото предательства никогда не мог простить ему
Тон.
*
* *
Я рассказываю о мячах отдельно, на самом деле человек
такое закрученнозаверченное существо, что на самомто деле
мячи никогда не идут сами по себе в отдельности. С каждым
мячом связано столько, что он как паук в середине паутины,
а распутывать её так значит попасться в неё и никогда уже
не выбраться. Вот я начал было о маленьких мячах, что чуть
поменьше “Таниных” сатурноподобных вперекрёст. И тут же
в памяти просыпаются градации к примеру велосипедов, если
тот самый “Танин” мяч еще не взрослый, поскольку есть целый
разряд кожаных мячей, то уж по крайней мере “дамский” без
рамы, так вот тот самый малый мяч он как велосипед “Орлёнок”,
что идёт после “Школьника”. А до того ведь ещё есть и трёхколёсные
и первые двухколёсные, но еще не названные никак. Так и
с мячами. Есть лаптовый, который сродни трёхколёсному велосипеду,
я же говорю об “Орлёнке” мячей. Для детских ног оон по размеру
как большой мяч для ног взрослых, а потому с ним чувствуешь
себя как настоящий футболист хочется произносить какоенибудь
слово наподобие “Базелевич” неверно прочитанную ещё по слогам
в какомто журнале фамилию “Базилевич”. Но этот самый “Базелевич”
мнится турбовинтовым самолётом с бомбами под крыльями, так
наверно воспринято впервые увиденное слово “бомбардир”.
И вот ты носишься, раскинув по сторонам две руки как два
крыла, и мяч в ногах как одна из этих бомб бомбардира Базелевича,
который из разряда сказочных Добрыни Никитича или Алёши
Поповича.
По той же самой круговой сети разворачивается некое
устное предание о футболе от того же самого Руслана, через
последующие источники Юра из летнего лагеря, рассказывающий
о “Пелло” или же казах Миша, принёсший своей крылатой игрой
другое слово “Гарринча”. Следом же идёт уже письменная эпоха,
когда узнаёшь, что о футболе пишут в “Огоньке”: “Последний
спурт “Спартака” с ночной свищущевизжащей фотографией называющейся
“Юрий Севидов” и теперь всегда когда вечером мяч пулей срывается
с ноги, ты понимаешь это зовётся “Севидов”, а потом приходит
эпоха и вовсе газеты “Футбол” с первым увиденным тобой номером,
где на обложке написано: “Единоборство Лобановского и Логофета”.
История человечества в снятом виде повторяется в этих газетных
шапках, подписях, ничего не значащих для когото фразах…
Но ведь я при этом всё равно ограничиваю себя в описании,
я не беру, к примеру, песен. А ведь стоит напеть “Свердловский
вальс”: “Рассвет встаёт над городом… и на сердце тепло…”,
как просыпается к игре стадион “Пахтакор”, колышется изумрудная
трава, чуть выше её красные флажки, через минутудругую
выбегут для разминки футболисты некие куклы в мифологической
игре твоего сознания, те, которые сошли с огромного панно
перед стадионом, на котором все команды Высшей лиги помечены
своими картонными фигурками в родных футболках, и “Пахтакор”
гдето вверху, куда едва дотягивается взгляд. Ноты твоих
нарождающихся чувств… И впрямь “на сердце тепло…”
*
* *
Песнь девятая
Тон както сказал мне,
что хотел бы некоторое время побыть женщиной, чтобы воочию
увидеть насколько однообразны мужчины в своих извечных домогательствах.
Мне же кажется, что не однообразие он хотел увидеть, а ровно
противоположное бесконечное разнообразие в предзаданном
сценарии. Этому АдамоЕвскому началу по последним биологическим
данным сто пятьдесят тысяч лет, и всё равно со всякой женщиной
как в том записном анекдоте, всё надеешься найти больше
сладости. Меня как биолога однажды попросили отрецензировать
изначальный перевод некоего восточного трактата “Лаззатулниса”
“Сладость женщины”. Я помню первое ошарашившее впечатление,
когда открыв перевод при издателе наткнулся на пассаж: “Чтобы
удлинить размер своего члена надо засушить член зайца, потом
обработать его напильником и посыпать полученным порошком
свой член…” Лицо моё удлинилось настолько, что издатель
зайцеподобный сухонький старичок заглянул ко мне за плечо
и прочёл вслух при всём редакционном совете выделенный пассаж,
потом воскликнул: “Это как же, зажать засушенную заячью
пипиську в тиски, а то и просто засушить его всего в тисках
на корню, взять в правую руку напильник и начинать её наждачить,
а потом щепоткойщепоткой посыпать свой хуй чтоли?” Он
настолько картинно показал это посыпание щепоткой, что все
дамы редсовета просто уписались от смеха. Разумеется, перевод
был отклонён на корню, на том самом засушенном корню. Позже,
я всетаки увидел эту книжицу, роскошно изданную другим
издательством и конечно же отыскал этот самый злополучный
пассаж: там говорилось о том, что рассохшуюся ткань следует
растолочь в порошок, замешать из порошка тестечко и смазать
подобающее место.
К чему я это всё? К тому, что Тон был наверное более
прав, чем я в своей охоте побывать сладостной женщиной.
С мужчинамито всё понятно…
Качаешь ноги. Бегаешь по двадцать пять кругов вокруг
стадиона, если колет в боку, то по совету Стасика проглатываешь
комочек бумаги должно пройти, ктото держит с двух концов
самопальную штангу колёса вагонетки, ты же выжимаешь её
ногами, бежишь в гору, гоняешь велосипед. Но ноги должны
быть не только мускулистыми как у приезжего грека Фили,
который забивает всех местных звёзд, но и непременно волосатыми,
как у турка Ахмеда. Ктото сказал, что если начать их брить,
то волосы непременно начнут куститься, и вот отупевшей единственной
бритвой, стащенной Тазиком у брата, бреет ноги вся команда.
*
* *
Не помню, говорил ли я, что при моём биологическом
образовании я всё же заканчивал кафедру высшей нервной деятельности
и мои интересы, откровенно говоря, лежали в области мозга,
а вернее, психологии, хотя, как видно, я по молодости лет
хотел подо всякую ментальность подвести некую соматику,
нащупать детерминированность, каузальность нашего мышления
через телесность. Впрочем, вполне понятное стремление молодого
тела. Так вот в отличие от меня Тон, хоть и закончил медицинский,
он, как я уже говорил, пописывал. Чеховскобулгаковскоаксёновская
традиция, так сказать. Если не брать в расчёт людей наподобие
и вовсе Авиценны! И вот пытаясь понять чтото в поведении
Тона я вдруг вспомнил один из егго студенческих рассказов,
который он мне подарил. Вот он.
“Был такой в
истории незатейливый день, вернее был кусок его, когда,
как внезапно проснувшийся, никто из них двоих не помнил
ни числа, ни того, что должно быть в следующую минуту. Такой
уж он случился необдуманно новый день в их жизни. А вернее
кусок.
Он вырос перед её дверью, огромной и вотвот должной
провалиться со всеми накрепко вколоченными цифрами, глазком
и звонками, также неожиданно для себя, необыгранно, добавим
к тому, как показалось ей. Он стоял напротив и мялся в улыбке.
Она поддалась тому же. Вот бы где вставить законное разъяснение,
только вот что для особо нетерпеливых скажем: ждущие, давайте
уйдём. Ничего тут не будет. Потому что здесь он и она. Пора,
пора.
Ей показалось всё сгинуло перед глазами. Руки невольно
пошли вперёд: ухватиться за последнее. Она всплеснула радостно:
Ой, кто у нас тут!
Она без этой неумеренной тени на веках и без туши
вовсе на ресницах так просто красива, что дух захватывает.
Это как снег на голову, первый, лебяжий снег на непокрытую
голову, и тело сдавливается в какойто горячий и трепещущий
комок. Очень, очень живой…
Здорово, Ренчик. Ну… мёрзни, мёрзни.
Ты, я вижу, хочешь пройти?
Нет, я хочу посидеть.
Ну, держись!
Я лучше пройду… Ты опять одна? Ах, да, да, ты теперь
ведь Пенелопушка. Так сколько дней?
Она печальна у окна в полупрофиль, а в комнате тихо
и пусто. Так хочется всё выдрожать. Брр!
Семьсот двадцать четыре.
Опять что-то пропадает из этой комнаты, но всё также
пусто и беспорядочно громоздятся холодные вещи. Громадный
шкаф, сжимающий изо всех сил кучи потрёпанных книг, и муха
- откуда посреди ноября одна-одинёшенька, - медленно и сонно
взмахивает с одной полки на другую, телевизор, набычившийся
в углу, стол, на котором закинув ногу на ногу и по привычке
разглаживая брюки на коленях уселась она…
Семьсот двадцать четыре…
Слова вязнут в этой зябкости.
А ведь тепло: откинься на диване, притронься ладошкой
к трубе обжигает, и чего?..
Слышишь, а сколько уже прожила?
Семь дней.
А провожала выучила плач? Ну тот, северный, о котором
я тебе говорил. Помнишь: “Ой, милка в рекруты забирають…”?
Ты знаешь, точно! Горючими слезами обливалась.
Ну хватит пижонить!
Вот так, вот… она как задыхаются без воздуха, выдохнула
в молчание.
Бывает тупо больно, когда все проклятые мозги, вся
чёртова интуиция, да ещё, боги мои, воображение, уже распинывает
пустые банки скуки. Знай сто раз, что этого ещё не было,
они подсовывают случай сто первый. И в нём также вся жизнь
у воображения разговоры, после которых смерртельно трезвеешь
и от этого тупо саднит. Но когда тупо радостно… подождите
ради всего… это надо привыкнуть… ми…
Минуты на цыпочках шагают мимо.
Слушай, сколько уже тебе? 21?
Готовый кивок.
Нет, тебе срочно надо жениться. Если б я была на
твоём месте…
…ты б давно вышла замуж и не вытерпела б одиночества…
Точно.
Первого гомункула сотворишь ты. Скоро я буду наизусь
произносить твои слова…
Да, а я вот теперь только через два года… Выйду
замуж… И всётаки почему б тебе не жениться? Я тебе, знаешь,
какую пару б подыскала!.. Вот бы погуляла на твоей свадьбе!
она вся сжалась, как отдирая от себя эти слова и страшно
засмеялась.
Был бы Ренчик ты пацаном я б тебе по морде съездил…
Слушай, а какая я?
Ты? Иногда весёлая, иногда хорошая…
А ты, все говорят, добрый.
Только не к тебе.
Как?
Да ты радуйся, глупышка. И я в восемнадцать плюнул бы
в лицо тому, кто назвал бы меня хорошим. Теперь меня представляют
как временами гениального, временами дурака, временами борща,
врем… ну и дальше. Так вот, я теперь научился переносить
это. Думаю: неужели это всё я на всю клавиатуру… Понимаешь?
А как ты думаешь, дождусь я его?
Удушённая скука! А время уже за полдень и на улице
ненастно никуда не пойти, не исчезнуть хоть удавись. Ууу!..
Пальцы в тепле слабнут, держать бы эту скуку, вцепившись
ей в горло и работать… работать как наотмашь хлестать по
лицу…
Что ты сказала?
Я спрашиваю: дождусь я его?
Да, больше того, ты будешь счастлива, ты выйдешь
за него замуж, у вас будут дети, он будет усталый приходить
с работы, а ты будешь ждать его по вечерам, чтобы крепкокрепко
поцеловать и…
Он выдохся, казалось это был последний глоток воздуха
и, бросив лицо в ладони, судорожно замотал головой. Потом
он встал, отошёл к окну, и стоял оон одиноко ссутулившийся
и тёмный во всю убелённую плоскость, далёкую и леденящую,
а позади него оставались чужие, комковатые слова: Вот такая
штучка жизнь.
Вот такие вот разговорчики. И непогода разыгралась.
А утром, а утром… Ничего, новый момент и довольно, радуйся.
Вот так лет до тридцати, если раньше того не… как это? Жизнь
закономерна в том, что мы можем не подчиняться её законам?..
Иди к чёрту, философ проклятый! Чтоб я ноги твоей
не видела!! Понял?! это из комнаты ревела она”.
*
* *
Вот
такой рассказ. Я не стану останавливаться на литературных
качествах его, хотя местами, мне кажется, при всей наивности
построения, есть очень удачно найденные детали, подкрепляющие
психологическую достоверность происходящего, а именно: холодные
вещи, одинокая муха, медленно перелетающая с полки на полку,
меняющаяся к ненастью погода… Но мне интересна сама психологическая
ситуация кактаковая. Но прежде чем говорить о ситуации,
скажу лишь попутно, что я знал эту самую девушку, о которой
писал Тон. Он в одно время был в неё скрыто влюблён. Да,
эта девушка дождалась своего одноклассника из армии, вышла
за него замуж, родила ребёнка и этот парень в ушёл к другой.
Девчонка с признаками истероидного характера так и осталась
матерьюодиночкой, став впоследствии учительницей истории
в одной из средних школ. Вот такая история.
Но о ситуации. В жизни Тона был другой случай, к которому
я подспудно вёл своё повествование, который собственно и
объясняет значительно большее о Тоне. В один из своих приездов
в Москву, когда мы собрались на летний тур в Карелию, Тон
остановился единственный раз у своего дальнего кузена, молодого
парня, женатого на русской. Парень он был блистательный,
после окончания Бауманки работал в одном из кибернетических
НИИ, с утра до ночи, а иногда и ночами проводил на работе.
Жена же его мягкая девушка по имени Ксеня, закончила геологический,
но за замужеством и последующим рождением ребёнка, както
осталась оторванной от разъезжей карьеры своих сокурсников
и сокурсниц, в Москве же найти подобающую работу не смогла,
а потому сидела дома, воспитывая крошкуАнтошку. Потом случилось
так, что её бабушку парализовало и почти два года, пока
она умирала, Ксеня бегала через дорогу от своего Антошке
к одинокой бабушке, стирая за ней простыни с испражнениями,
кормя её с ложечки, сторожа в ней последние крохи жизни.
В конце концов бабушка умерла, да и Антошка подрос до детского
сада, но вот усталось, которая засела в Ксене была столь
велика, что она потеряла всякий интерес к жизни.
И в это время к ним в семью приезжает Тон, который
ничего этого не знает, но при своём то ли любопытстве, то
ли в искренней заинтересованности, то ли просто по медицинскому
занудству, долгими летними московскими вечерами, когда Антошка
уже спит, а Вилорий всё ещё работает над космическими программами,
слово за слово узнаёт всё что произошло за эти три или четыре
года, как полная ветренных надежд Ксеня превратилась в заурядную
домохозяйку.
Честно говоря, были ещё два момента, которые следует
упомянуть, чтобы лучше понять происходящее. Вопервых, я
знаю по себе, что сам статус москвички был чемто завораживающим
для всех нас провинциалов. Одно время сразу по приезде
в Москву, мне казалось, что здесьто все профессора и
профессорские дочки, я совсем не мог взять в ум, что большая
часть Москвы это рабочие, лимитчики, проезжие, шоферюги,
носильщики, продавцы, словом общесоюзный народ, но то самое
первое ощущение долго ещё не сдавалось, отыскивая во всяком
случайном собеседнике мнимую московскую интеллигентность…
А вовторых, рассказывала не только Ксеня, Тон, проводивший
дни по музеям и выставкам, в ожидании наших карельских путёвок,
приносил столько свежести и новостей, столько попровинциальному
обстоятельных рассказов, что их разговоры затягивались до
того краткого промежутка темноты, который на часдругой
прерывает тусклый сумеречный свет московских летних вечеров
от зябкой зелени рассвета. Тогда они шли спать: она к Антошке,
он на балкон готовиться к новому дню.
А однажды Ксеня отпросилась у мужа пойти с Тоном в
театр. Тогда я увидел её в первый раз, хотя уже слышал о
горестных событиях в её жизни от Тона. Она не была красива,
но в ней была какаято мягкость, уютность, домашнесть, словом
тот тип русской женственности, который становится столь
редким. Мы смотрели в тот вечер “Последние дни” в театре
Пушкина. Я почемуто сравнивал про себя Ксеню не то чтобы
с Натальей Гончаровой, скорее с Татьяной Лариной и не мог
представить себе какая из неё получилась бы геологиня.
Правда, после представления, когда выпитое ещё в антракте
шампанское не развеяло своих легких чар, порозовевшая щеками
Ксеня неожиданно взяла нас под руки и сказала: “А теперь
я вас поведу по вечерней Москве!” Тогдато я почувствовал
в ней геологиню и ещё москвичку!
Она не повела нас на Красную Площадь и тем более в
Парк Горького. И даже не в Серебрянный Бор, и не в городок
Сокол, куда я мог бы ожидать. Както незаметно за разговорами
в метро и в автобусе мы оказались на странной окраине, где
я никогда до этого, да и после этого случая не был. Окраина
эта была неким архитектурным экспериментом, подозреваю экспериментом
двадцатых годов, эпохи Татлина, Цадкина и других: все дома
в округе были разновысокими цилиндрами. И не только дома,
через всю архитектуру этой окраины проводился всё тот же
принцип деревья и те были засажены разновысокими кучками,
и вся эта пестрота высот гармонизировалась в нечто общее
в ощущение нереальности пространства и времени. Ктото
казалось сверху разбросал кольца, и все эти здания, сооружения,
природа казалось крутят как в цирке руками, шеей, талией,
ногами эти самые кольца в музыке сфер. Там мы стали петь
песни нашего детства, там, сидя на бетонных ступеньках мы
нещадно философствовали, помню как я почемуто заявил, что
настоящее искусство умирает со своим временем, чтобы затем
вернуться к жизни навека. А то, что волочится сейчас десятилетиями
оно сойдёт безо всякого воспоминания… Ктото вспомнил
совершенно забытого гениального музыканта, фамилию которого
я никогда не слышал, Ксеня прочла стихотворение Кропивницкого,
и опять за этими разговорами, за пересадками из автобусов
в метро и трамваи, мы незаметно оказались у дома Ксении,
где я оставил их с Тоном…
Ту ночь я пробродил в первозданных воспоминаниях о
Москве, когда трамвай вёз меня в музей то ли Толстого, то
ли Достоевского, кудато за Центральный дом ли, театр Советской
Армии, и за каждым его визжащим поворотом открывалась невиданная
доселе одноэтажная стариножелтоватая Москва с зеленью выше
домов и с тем неуловимым запахом лесной свежести, который
бьёт чуть глубже носоглотки, ровно настолько, чтобы в глазах
появилось ощущение нет, не плача, но сухих слёз…
*
* *
После нашей карельской поездки, о которой речь ещё
впереди, Тон опять поселился у Вилория и Ксени, правда на
третий день он неожиданно переехал к мне. А случилось тогда
вот что. После обыкновенных двух первых дней, когда Тон
рассказывал о комарах и озёрах Карелии, Вилорий же засыпал
на середине, пока разгорячённая Ксеня вспоминала свою геологическую
летнюю практику, на третий день Вилорий, как сообщила Ксеня,
задержался на работе, она же уложив Антошку, пригласила
Тона с балкона в гостиную, где был накрыт праздничный стол.
Тон удивился: уж не день ли рождения чей? Ксеня както загадочно
обошла вопрос вниманием, а попросила его как мужчину, открыть
бутылку грузинского марочного вина. Тон распочал бутылку,
Ксеня предложила выпить за возвращение Тона, Тон попытался
галантно перевести тост на Ксеню, словом выпили по первой.
Ксеня наготовила пельменей, так что после очередного московского
суетного музейностадионного дня Тон набросился на них,
Ксеня только подкладывала новых за ничего не значащими разговорами.
Выпили по второй, по третьей. “Оставим и Вилорию”, предложил
Тон. “Ты знаешь, он ушёл на всю ночь”, как бы невзначай
сказала Ксеня. Тон не стал задерживаться на заминке, выпили
опять, опять пошли обычные разговоры на женские темы.
Тона разобрало медицинское откровение. За жалобами
Ксени о том, что мол она совсем обабилась, он приободрил
её, дескать, нисколечко и совсем уже как на медфаке с сокурсницами,
стал расспрашивать как они живут с мужем, всё ли у них в
порядке. Раскрасневшаяся Ксеня полустыдливо стала рассказывать,
что они давно уже не живут, сначала она зверски уставала,
теперь устаёт Вилорий, потом она внезапно оказывается перескочила
на меня, стала расспрашивать чем я занимаюсь, поделилась,
что в ту послетеатральную ночь на прогулке заметила, как
я, мол, прижимался совсем подетски к ней…
Они прикончили бутылку. “Можно я прилягу здесь при
тебе?” спросила она и предупредительный Тон помог ей подушкой,
чтобы затем опять сесть за стол. Она стала расспрашивать
о девушках Тона, Тон долго и психологически достоверно рассказывал
об Але, правда, заметив как Ксеня старательно скрывает свой
зевок за напрягшимися желваками, опять стал расспрашивать
Ксеню о том, что она читает в последнее время…
Потом разговор опять сошёл на половую неудовлетворённость
в современной семье и вперекор шёпоту Ксени Тон стал обильно
цитировать академика Симонова с его информационной теорией
эмоций, которой он увлёкся в последний семестр и когда он
подошёл к пункту об обратной пропорциональности эмоций и
информации: дескать где есть информация, там нет эмоций
и наоборот, где есть эмоции, там нет информации, расстегнувшая
к тому жаркому времени все верхние пуговички на своей блузке
Ксеня вдруг встала с кушетки и прошипела: “Пшшёл вон! Чтобы
ноги твоей не было в моём доме! Академик проклятый!”,
и пошла спать в соседнюю комнату.
*
* *
Песнь десятая
Так мне рассказал эту
историю Тон. Он пытался даже удивиться тогда, дескать что
это нашло на неё? Я напомнил ему его собственный ранний
рассказ. Он отмахнулся и сказал, что то было совсем о другом.
Я не стал с ним спорить. Хотя мне кажется, что оба рассказа
об одном и том же. Наблюдая Тона со стороны, я замечал,
что иногда он бывает зануден и докучлив, хотя большинство
девушек или женщин принимает эти качества за неподдельный
интерес к их душевным, бытовым и прочим переживаниям. Тон
помедицински обстоятельно начинает разбираться в перипетиях
женскомужских трагедий, которые по нашему Серёге есть всегда
следствие или вовремя не случившегося соития, или же соития,
случившегося не вовремя. А женщинам лишь подавай такого
собеседника, который готов выслушать и разложить всё по
полочкам. Не знаю, замечал ли Тон за собой это качество,
но в его рассказах о взбесившихся ни с того, ни с сего собеседницах
этих мотивов нет. Помоему же именно это обстоятельство
своего рода душевное соблазнение, когда Тон оказывался
в самых затаённых уголках души той или иной женщины, а потом,
когда женщина более чем просто сбросила блузку или стянула
юбку обнажила душу !!! вдруг помедицински деловито
складывал свой чистенький (не сказать же стерилизованный)
чемоданчик и взрывало да кидало собеседниц, внезапно превращавшихся
в пациенток, в естественную истерику…
*
* *
Но надо сказать что я не сразу разобрался в этом механизме.
Долгое время мне казалось, что финты существуют сами
по себе и я находил в них большее удовольствие, нежели в
том чтобы как Толик Соловьёв, просто запинывать мяч в ворота.
Я коллекционировал финты не только из сухих футбольных справочников,
но и из газетных статей о зарубежном футболе. Правда, с
газетным словом всегда есть поле для конфуза, так прочитав
гдето, что Эйсебио перекинул мяч через защитника, обежал
его со стороны и забил гол, я посвятил месяцы, чтобы научиться
перекидывать мяч с места, иными словами я подхватывал стоячий
мяч носком и не пинал, но кидал его поверх противника
надо сказать это было зверски трудно, надо было чтобы носок
подсёк мяч, пробрался мягко под него, а потом начиналось
убыстрение, потом нога должна была подвернуться крючком
настолько, чтобы мяч поднялся над тобой и над противником
фонтаном, а учитывая, что противникто лицом к лицу, всё
это должно было быть исполненым в доли секунды. Словом я
развил эту технику и освоил переброс мяча через защитника.
Но вот однажды, уже значительно позднее, по телевизору
показали тот самый матч с Эйсебио, когда тот, перекинув
мяч через защитника, обежал его и забил гол. Так оказалось,
что мяч скакал перед Эйсебио и тот попросту перепнул его
через защитника, как бы пасуя комуто из своих, а затем
оббежав растерянного, ударил по воротам. Всё было просто
и неказисто. И то, что я годами считал финтом Эйсебио, оказалось
моим собственным то ли изобретением, то ли недопониманием.
То
же самое было долгие годы со знаменитым финтом Месхи. Род
этого финта исполнял в “Пахтакоре” Берадор Абдураимов и
местный комментатор не преминывал упоминать: “Вот Абдураимов
обводит защитника почтичто финтом Месхи…” То что делал
Абдураимов выглядело так: лицом к лицу с защитником он наклонялся
в правую сторону, как бы уходя туда и в последний момент
переносил правую ногу над мячом, чтобы оставшейся сзади
левой ногой подопнуть мяч влевовперекрёст и резко при этом
уходил влево, обходя склонённого вправо защитника. Но ято
в газетах читал, что Месхи при этом отправляет мяч по одну
сторону защитника, а сам оббегает его по другую сторону.
И вот я стал усовершенствовать Абдураимовскую версию: я
не только наклонялся вправо, но и впрямь уходил вправо,
посылая левой опорной ногой вперекрёст изо всех сил мяч
по левую сторону противника. Мяч укатывался влево от защитника,
я обеггал его с правой сотроны, что в общемто было довольно
неудобно, поскольку веря мне он сам уходил вправо и получалось,
что я или же натыкался на него, когда как мяч преспокойно
катился в пустое лево, или же я увёртывался уходя ещё более
вправо правее правого защитника, и тогда мне приходилось
делать круг, чтобы обойти его и вдобавок догнать мяч, который
уходил далеко влево… Но в конце концов я приноровился к
этому хвалённому финту, хотя уже внутренне сомневался в
гениальности Месхи. Но однажды на “Пахтакоре”, когда “Динамо”
Тбилиси приехало во всём своём цвете: Слава Метревели, Гоча
Гавашели и сам Михаил Месхи, маэстро продемонстрировалтаки
свой финт. Прежде всего он бежал боком к защитнику, затем
просто перемахивая через мяч, он пяткой правой ноги посылал
его перпендикулярно своему бегу, защитник бегущий параллельно
Месхи, разумеется пробегал мимо мяча и тогда Месхи оставалось
лишь оббежать противника. Вот и вся хитрость.
И опять я убеждался, что благодаря газетномули, радиоли
слову, я сотворил совсем иное, доселе несуществовавшее…
Подобное же мы с Тоном находили в переводах корейскойли,
персидскойли поэзии на русский язык: простое и безыскусное
благородство оригинала превращалось в какието ориентальные
изыски, желание гола подменялось игрой в финты, жажда любви
в…
Словом, вы поняли.
*
* *
Корейский
иероглиф
Я не знаю, как это писать
и что это значит…
А потому начну, пожалуй, с чужого. В романе “Железная
дорога” моего земляка А.Магди я вычитал главу о корейцах
и поскольку эта глава была написана земляком и в то же время
не корейцем, так я предпочёл её, скажем главе из какогонибудь
романа А.Кима. Вот с неё и начну.
“Никто из детей никогда
не задумывался, откуда и когда корейцы появились в Гиласе.
Самые подвинутые из пацанвы, к примеру Фази - внук старушки
Бойкуш, считали их теми же узбеками, но говорящими на другом
языке, мальчик, видевший до того ещё и дунган, не очень-то
доверял Фази, но почему-то с ним не спорил; может быть потому,
что старушка Бойкуш в ту пору приторговывала куртом и Фази
ходил всегда с полными карманами бесспорных аргументов.
В школе - и те кто пошли в русские классы, и ещё более
те, кто были сданы в узбекские, надолго решили, что корейцы
- это русские, но русские особой породы. Имена у них не
то чтобы Санёк, Юрка, Катюха, а такие русские, что больше
самих русских: Витольд, Изольда, Артаксеркс, Клим. Хотя,
впрочем, родителей их звали Саньком, Юркой, Катюхой.
Но родителей видели редко - разве что бабушек, да
стариков, имён которых не знал уже никто, и только одного
старика все называли Аляапсинду: у него не было ни сына
Петьки, ни внучки - Люции, ходил он целыми днями со станции
и до крайнего дома на берегу Солёного, ходил в соломенной
шляпе с бамбуковой тросточкой в руках - по самому белому
пеклу, ходил сгорбясь, как будто бы пытался наступить на
свою короткую и мерную тень, и всякий раз из-под редких
белёсых усов проговаривал своё "Аляапсинду" всякой
встречной собаке.
Потом он шёл обратно, как бы пытаясь на этот раз убежать
или отвязаться от наросшей за часы хождения тени и уже вслед
ему, наверное улыбающемуся в свои редкие усы на соломенном
лице, дети кричали "Аляапсинду", не зная, доводят
ли или радуют тем безразличного как маятник старика.
Родители приезжали поздней осенью, когда кончалась
их работа на шалыпае [3] или луковом поле и тогда весь Гилас наполнялся
незнакомой празднично-пьяной речью и толпами праздношатающихся
мужчин, идущих в кино и из кино, выворачивая ступни и бёдра,
да накинув пиджаки на костлявые, выпирающие плечи.
Тогда же они занимали и все гиласские чайханы, превращаясь
в особую породу узбеков, ещё более узбеков, чем сами завсегдатаи
чайханы, которые как-то тонули среди моря свежих голубых
корейских рубашек и веера разбрасываемых по кругу карт.
Жёны их вышелушивали по домам рис или же высушивали под
навесами лук, а те, кто управлялся с этим пораньше, заводили
на берегу Солёного пару-тройку свиней в избушках на куриных
ножках и пацанва, гоняя по той округе мяч и ощущая некую
помесь из запахов свежих опилок, квашенной и перчённой капусты,
гнилой речки да горького лука, вдруг понимала, что корейцы
- это...корейцы...
Они никогда не заводили полей вблизи Гиласа. Они уезжали
в те края, о которых знали лишь старшие братья и сёстры,
уже проходившие географию, а для остальной малышни всё было
одно и маняще-нездешне: Кубань и Куйлюк, Самараси [4] и Политотдел, Шават и колхоз Свердлова. Никто
никогда не видел, как они работают. Гилас знал в них, идущих
шумными мужскими шеренгами, выворачивая до отказу ступни
и бёдра да размахивая руками с закатанными до костистых
локтей чисто-голубыми китайскими рубашками, лишь победителей.
Они даже и торговать не торговали в Гиласе. Старушки-туземки
в отсутствие праздношатающихся по улицам и чайханам Борисов,
Василиев и Геннадиев, юрко шныряли в самы конец улицы Папанина
к Вере, Любе или Наде, а потом всю зиму сидели на базаре,
приторговывая самим же корейцам луком, рисом или перцем.
Но только не чимчами. Чимчи! Эта горькая корейская
капуста с её натянутыми, скрипично-белыми прожилками, перехваченными
жгуче-красным перцем там, где начинается зелень капусты,
ах это собрание всех корейских запахов, растапливающих своим
огнём даже зимний пар, идущий изо рта подзывающих на базаре
кореянок - этот взрыв, выворачивающий наизнанку мальчишечьи
языки - словом, чимчи - другое название корейцев, их символ
и эмблема - разве могли торговать ею русские или узбеки,
татары или бухарские евреи? Каждому своё: Акмолин водит
маневровый тепловоз, Кучкар-чека затапливает чайхану, Закия-аби
моет и чешет шерсть, Юсуф подбивает каблуки, и даже Озода
командует базаром с позволения Оппок-ойим, но чимчу продают
только кореянки: Вера, Надя, Люба.
Правда, чимчой они торговали тогда, когда их мужья
уже не выходили на улицу. То было некое межсезонье - январь,
начало февраля - самое неуютное время года в Гиласе. Сидели
они по своим домам, раздавшие, видимо, прошлогодние долги,
спустившие остатки денег в чайханах да на разом-всеми-купленные-телевизоры
- один год, мопеды - другой, холодильники - третий; сидели
по домам, смотря телевизоры, протирая мопеды или хлопая
дверьми холодильников, хотя сиротливые старики-туземцы в
чайханах поговаривали, что у них началась самая крупная
игра - вон, по ночам собираются то у Геннадия, то у Владимира,
то у Михаила, дескать, свет горит до утра.
Тогда же они забивали и свиней. И на жёлтой промёрзшей
траве тугаёв, там на берегу Солёного, давая подсветку мёрзлому
дальне-полевому закату, полыхали разом несколько купленных-в-этот-год-паяльных-ламп...
Говорили, что они едят собак - мол, предохраняет от
туберкулёза, поскольку им всю жизнь приходится ходить босыми
по колено в воде, говорили, что в феврале, перед отъездом
туда на "Поле": Кубань или Куйлюк, Шават или Самараси,
они занимают денег под осенний процент то у Толиба-мясника,
то у Сотибалды-домкома, но больше всего у Оппок-ойим, говорили
ещё... словом, много всякого, но к этому времени они как-то
разом и незаметно все уезжали, разъезжались. И пацанва оставалась
до самой поздней осени с их детьми как заложниками: Лаврентиями
и Эммами, Виолами и Русланами, Артёмами и Офелиями.”
Лазарь и Магдалина
В последний
раз я встретил Лазаря у Алайского базара в Ташкенте в году
восьмидесятом. Он шёл навстречу с авоськой всяких случайноненужных
вещей: бутылочка с соской, газетный свёрток, может быть
спортивная кепочка или балетные пуанты. Я не видел его все
сто лет, а потому силком повёл к себе домой. Мы только въехали
в этот дом, а потому вдвоём с Лазарем мы дружно собрали
разобранную кровать. Он както нехотя, между делом, рассказал,
что женат сейчас на балерине, с которой хочет разводиться,
всё так же нехотя сообщил, что ушёл из милиции, сорвав погоны
с какогото майора и что собирается ехать в Саратов, сажать
арбузы. От застолья он отказался и както незаметно ушёл.
С тех пор я не знаю, что с ним.
Магдалину, или Магу год назад видела моя жена. Встретила
в том же Ташкенте, только у гостиницы “Узбекистан”. Они
забежали на минутку в кафешку, где и решили сходить на любимую
Фотиеву, гастролировавшую и игравшую в тот вечер в русском
театре, но жена моя отсидела лишь первое действие, а в антракте
ушла. Мага же осталась в театральном дворике одна, попыхивая
своей трубкой. Вот и всё.
Я вижу и понимаю, как много здесь символов и неслучайных
случайностей, однако я не хочу их трогать и развивать, а
расскажу лучше безо всяких прикрас всё, что знаю и вспомню
о Лазаре и Магдалине.
… Начал учиться я высоко в горах, в горном селении,
где среди узбеков и киргизов русскую школу составляли ещё
турки, балкары и греки. Но после первой четверти мы переехали
под Ташкент, на железнодорожную станцию и место златокудрого
Илюши Пищириди да ослепительной Наташи Казанжи заняли… Помню
первый день, когда меня, как новенького усадили за первую
парту и сидел я ни жив, ни мёртв, и в это время строгая
Тамара Сергеевна воскликнула совсем на непонятном языке:
“Лилазарь!”, и повинуясь этому зову откудато изза спины
с ветром и грохотом пронёсся к доске огромноголовый (голова
как ядро) солдат в серой гимнастёрке с ремнём в старой
школьной форме, отменённой и заменённой ещё в прошлом году
на форменный пиджак пронёсся, опережая мою мысль, устремившуюся
следом: “Как я с ним буду разговаривать?” Но уже через несколько
дней этот “Лилазарь” одновременно и льющий и лазающий, а
ещё и вопросительный и зарящийся, превратился в моего лучшего
друга: Ли фамилия, Лазарь имя. Он был корейцем, точно
также как и девятнадцать других моих одноклассников: Кимов,
Хванов, Цоев, Лиев, Угаев, устрашающе не походивших ни на
греков, ни на турков, ни на балкар.
Я знаю, почему я подружился с самым отъявленным из
них с Лазарем. Он сказал мне, что у них есть телевизор
и что я могу приходить смотреть футбол… Красницкого…
Сказал как о совершенно постороннем, не имеющем никакого
отношения ни к моему бреду по Красницкому, ни к его приязни
ко мне. И мне понравилась эта отстранённость.
Я пришёл к ним, в начало корейской части улицы Папанина
и впервые оказался в корейском дворе. Была поздняя осень,
когда родители Лазаря дядя Боря и тётя Нина, как я узнал
впоследствие сидели дома: она развешивая под навесом
лук, набитый в капроновые чулки, он расположившись нна
циновке перед телевизором.
Да, жилище их было приземистоглинянным, как я теперь
вспоминаю, почти в рост с ними, и поскольку располагалось
на месте бывших тугаёв, повсюду изпод деревянного забора
густо пробивался камыш, а на чистом пространстве двора проступала
раскалённая солннцем добела соль. И всётаки ни тогда, ни
теперь нутро их дома не казалось и не кажется мне низким
или шалашовым. Была в пространстве дома некая просторность
может быть изза размеров обширной циновки на земле, или
отстутствия всякой мебели: этих железных кроватей с занавесочками
на торцах и взбитыми подушками поверх цветастых покрывал,
или же тумбочек с радиолами, или же шифоньеров с зеркалами,
входивших в моду както не разом, а из года в год. В доме
не было ничего кроме телевизора, стоящего в углу на простеньком
столике со скатёркой этого огромного ящика с гулким голосом,
в котором солнечный день, оставшийся за дверьми этого сумрачного
и сырого жилища, отажался в мячике огромном, как теннисный
шарик, катившемся от ног футболистов “Пахтакора” до ног
игроков “Шахтёра”.
В огромной и пустой комнате моей души всё стоит этот
телевизор, перед которым оставили меня дядя Боря и Лазарь,
незаметно ушедшие во двор, то ли набивать в капроновые чулки
лук, то ли косить год из года пробивающийся камыш на вязку
циновок…
Футбольное же поле осталось и досталось мне…
… До того с женой и с ребёнком мы ездили к Маге в
Сергели. Тогда я вернул ей “Фразеологический словарь” и
она показала мне статью в какомто психологическом или психотерапевтическом,
а то и вовсе в психиатрическом журнале об аномалиях в психике
Хлебникова. Потом мы все пошли в тамошний районный парк,
на озеро. Мага по обыкновению ехала на своём дамском велосипеде,
и когда уже в парке за ней побежала моя пятилетняя дочь,
оставив нас с женой в обнимку одних, какойто пьянчуга изза
кустов, почти как Кант негодующе и категорично заметил:
“Вон, отправил мать с ребёнком, а сам забавляется с молоденькой…”
Мы долго после этого смеялись на остановке, где Мага посадилатаки
нас в какойто “левый” автобус, а сама, выпрямив худенькую
спинку, поехала на своём миниатюрном велосипеде в обратную
сторону в свою однокомнатную квартиру, полную печальных
и мудрых книг…
… Нет, я не скажу, что Лазарь был моим лучшим другом
первые четыре класса, ведь когда мы уезжали со станции обратно
в горный кишлак (где к грекам, балкарам и туркам добавились
ещё немцы Райники), провожая меня плакали и Даниил, и Лёва,
и Артём, и Тон. Но вот когда после смерти матери я вернулся
опять на станцию через пару лет лучшим моим другом на
все оставшиеся школьные годы стал Лазарь. Не знаю с чего
это началось, может быть с простой случайности, что нас
посадили за одну парту, может быть ещё с чего, но вспоминая
то время сейчас, мне кажется, что всё началосьь с урока
геграфии, на котором мы проходили человеческие расы.
С десятком русских не было никаких проблем. Они отошли
к большой европеоидной расе, как, скажем, к классу “А”.
С двумя узбеками и одним таджиком разбираться особо не стали,
дескать, не негры же! Но вот девятнадцать корейцев!
Когда важный Николай Иванович изрёк, что их следует
отнести к жёлтой монголоидной расе, класс замер. И вдруг
Лазарь обернулся ко мне и что есть сил разведя свои плоские
веки, воскликнул:
Смотри, разве у меня узкие глаза?!
Я не знал как его утешить. А ведь и вправду у него
были раскосые, но огромные глаза. Только вот с того дня
он потерял покой. По вечерам приходя к нам делать уроки,
он то начинал поглаживать мою заросшую и путанную шевелюру
и спрашивал: волнистые ли у него волосы, то прикасался к
моему носу и божился, что у его отца, который сейчас на
поле, именно такой с горбинкой нос, и что вообще, он
похож на узбека или таджика, то начинал выщипывать себе
брови и затем заливать их касторовым маслом, чтобы они соединились
на переносице, как у моего волосатого дяди…
Я отрабатывал на нём свои искренние и сочувственные
теории, мне, к примеру, казалось, что если ударить по косточке,
то на ней нарастает шишечка (не так ли, стукнувшись носом
о металлический перехват саней, я нажил свою завидную горбинку
на носу!) и Лазарь постукивал на переменах по своему носу
или же сидел на уроках, упёршись переносицей в корешок поставленной
напопа книги, отчего его переносица вскоре напротив и
вовсе сравнялась с уровнем глаз, образовав вечно синюю вмятину.
А однажды, однажды он и вовсе пришёл в класс с шестимесячной
химической завивкой своих чёрных и толстых волос.
Ах, бедный и взаправдышний друг мой, Лазарь! Он страшно
хотел быть европеоидом даже тогда, когда остальные из его
соплеменников или забыли о том уроке географии, или уже
сжились соо своим монголоидножёлтым существованием: Артёмка
ходил на бокс, Руслан лучше всех рисовал, Вилорий всем ставил
мат в шахматах, Тон…
… Сначала Лазарь влюбился в Лялю полукровку, полурусскую,
полуказашку.
… Мага в последнее время работала врачомпсихиатором
в спецбольнице закрытого типа. Психи в неёё влюблялись,
писали стихи и письма. Она только пожимала плечами и самое
большее рассказывала очередной анекдот иж их жизней. Помню,
как одного из пациентов собирались выписывать и стали проверять
на понимание и координацию: “Василий, нука вбейтека гвоздь
в стену!” Василий берёт гвоздь и пытается вбить его шляпкой
к стене. Врач тогда подсказывает: “Ну посмотрите на гвоздь,
куда должна смотреть шляпка?” “А, понимаю”, говорит
Василий и не поворачивая гвоздя, осторожно несёт вбивать
его в противоположную стену…
Так вот, о первой любви Лазаря. Ляля наша одноклассница,
то ли в третьем, то ли в четвёртом классе перевелась в “совхозную”
школу это в трёх или четырёх километрах от нашей станции,
и я теперь подозреваю, что Лазарь влюбился в неё в те самые
дни, когда я по глубокому секрету показал ему письмо и фотографию
той самой Наташи Казанжи из горного селения. Было это на
берегу Солёного, у края совхозных полей, куда мы ходили
собирать мяту, и Лазарь вольный, без отца, без матери,
целыми днями скрашивал моё сиротское существование.
К тому времени он стал самым сильным и самым смелым
пацаном в классе, а потому и любовь он выбрал себе потруднее.
Ах, эти странные школьные любови, когда все твои тайные
мысли должны будоражить весь свет, когда каждое слово, что
ты прошептал на берегу весеннего и мутного Солёного арыка,
должно нестись по этим синим толщам воздуха над полями
до самого совхоза, до самой совхозной школы, или ещё дальше
за тридевять земель, за воон те синеёщие горы, до самого
горного селения…
Ляля никогда не знала, что Лазарь любил её.
Я чувствую, как я отдаляю то главное, о чём должен
рассказать. Мага бы узрела в этом ущемлённый комплекс, но
лишь в том случае, если бы знала, что это не о ней. И всё
же расскажу сначала об одном вечере, о котором я бы и теперь
не стал признаваться при Маге.
Ладно, думаю я теперь, Серёга, он мог ниччего
не знать, он и не был обязан этого знать, но мыто с женой
знали о Маге почти всё и всё равно пошли на поводу у Серёги
решили устроить эту вечеринку.
Серёга приехал со своим другомкорейцем как бы невзначай.
Звали его друга то ли Цезарем, то ли Гамлетом, и он был
подчёркнуто обходителен как всякий провинциальный интеллигент,
приезжающий из Ангрена ли в Ташкент, из Ташкента ли в Москву,
из Москвы ли в Париж. Правда, он был ещё чуть более галантен,
как если бы попал из Ангрена прямо в Москву, минуя Ташкент.
Тот вечер и впрямь получился у нас московским. Жена моя
вскоре ушла на кухню, дописывать то ли диплом, то ли диссертацию.
Мы раздавили бутылку водки на троих, после чего Серёга стал
травить свои еврейские анекдоты, а Цезарь или Гамлет, долго
чегото ждавший, к чемуто прислушивавшийся (запалённый,
как я теперь понимаю, Серёгой), гдето к полуночи попросил
выключить свет, достал из своего помятого портфеля свечи
и возжёгши их посредине комнаты, весь остаток ночи читал
нам стихи Есенина:
Клён ты мой опавший, клён заледенелый…
Его бесподобная интонация,
никак не сообразующаяся со стихами, как если бы Цезаря из
разу в раз называть Гамлетом, трепыхала не язычком свечки,
но лёгкими тенями на потолке, разбегающимися от этого язычка
и тени, убегая к окну, таяли в толще ночи, на самом дне
которой, удваивая этот несоразмеримый мир, догорало отражение
заплаканного огарка.
Мага в тот вечер к нам не пришла…
Странно, почему я не вспомнил в ту ночь ночь другую.
Вернее даже ночи. Летние ночи между девятым и десятым
классом. Ночи, когда мы садились на велосипеды и ехали вдоль
остывающей железной дороги к окраине совхоза к девочке
Кларе, которую тогда любил Лазарь. Клара была единственной
кореянкой среди одноклассниц Ляли и Лазарь любил Клару так,
как будто та должна была распространять его любовь дальше.
Она и вправду распространяла свою любовь на весь ночной
летний сад, в котором я сидел один разве что падающие
яблоки скрашивали фонарями моё бесонное одиночество, полное
любви к комуто далёкому, далёкому как эти звёзды в проствет
семМаринковских листьев. О чём они разговаривали часами
в другом конце этого яблоневого сада я не знал и не знаю
теперь мне доставалось и мне осталось лишь ощущение липкой
ночи, умиротворения деревьев, звёзд и травы в промежутке
между зноем дня и дня.
Чужая любовь всегда красивее и острей.
Может быть поэтому, возвращаясь в глубокую полночь
домой и бесшумно ныряя в уже приготовленную постель пд открытым
небом, я не мог сдержать слёз не потому, что на этот раз
мы не смогли заехать после Клары к Нелли, а потому, что
она живёт ведь не на воон той планете или звезде, а здесь,
на этой же ночной земле…
Нет, и всё же изредка мы заезжали и к Нелли, и получалось
так, что выручая меня, Лазарь часами говрил о том, чего
я не слышал и не понимал, вдыхая за его спиной запах прибитой
на ночь пыли, уже зреющей виши и просмолённых шпал, а она,
изредка бросавшая взгляд за его спину, долгое время не слыша
от мени ни слова, не понимала, причём же здесь я.
Мага, Мага, Мага… Стойкий оловяный солдатик, как
сказала однажды моя жена.
Она страшно любила путешествовать. Карелия и Сахалин,
Киев и Кентау, Сарыкуль и Байкал каждое лето из года в
год просаживала она все свои накопления и уезжала в свой
очередной трудовой так же незаметно, как в конце чуть ли
ни каждой недели ездила к своему брату в Джизакские степи.
Брат её безнадёжно болел, изза болезни от него ушла жена,
ушла к другому. К тому, сын которой вскоре встал под поезд
со своей одноклассницейтаджичкой, чья мать, узнавшая что
у ней может появиться внуккореец, прокляла перед всеми
свою дочь…
Но я всё не о том.
Я о том, что Лазарь и Магдалина не видели друг друга
никогда.
Странно, скажете вы, зачем же ты тогда вызывал
из небытия и оживлял перед нами образ этого Лазаря, если
ничего не происходило и не произошло, и Магдалина не была
не только не влюблена в него смертельно или как, но и не
имела к нему никакого касательства… Всё равно как плакать
над гробом, который пуст…
Это судьба ИХ, воскликну я на этот раз многозначительно,
хотя, признаюсь, думаю сейчас не о том.
Я думаю о той великой загадке, когда живя на одном
свете, как в этой единственной душе или на этом листе бумаги,
человек ищет человека, а находит …
Вторая часть.
Ел я и собак,
но из корейской кухни мне более всего по душе, тьфу! по
вкусу хе. Никодим Хон готовил это так. Узбек ГАИшник
Мамарасул направлялся к директору прудрыбсовхоза, татаринполитработник
(поллитрработник, как представлялся он сам) Альфред
посылался за водкой и уксусом, сам Никодим готовил тем временем
огромный постирушечный таз, резал лук, растирал перец и
специи, а когда Мамарасул привозил вместе со свежевыловленными
сазанами и самого директора, Хон сажал и “большевика” за
разделку своих безъязыких подопечных и начиналось действо.
Мясо сазанов резалось узкими продолговатыми ломтями, заливалось
в постирушечном тазу уксусом, перемешивалось колечками лука
со специями и с перцем, перцем, перцем, а потом отстояв
положенное время, подавалось к столу, где из чаепиточных
пиал уже пилась “Русская”, “Столичная” или “Московская”
водка…
А знаете ли вы, что к водке нету лучше закуски, чем
хе?
У Сон Ромика был брат Веня, которому осёл в деттстве
откусил полуха и его почемуто все звали с тех пор “Полтора”…
Когда после индийских фильмов у нас пошла мода на
японскую видеопорнуху, а место фотографии Виджаянтималы
на лобовых стёклах заняла Курихара, наш комсомольский вожак,
наперекор какимто засекреченным постановлениям, взял себе
в заворги минниатюрную кореяночку Тосю. Теперь, коогда он
работает на масложиркомбинате, говорят, что эта крошка,
ростом ровно по его комсомольский значок, была ему любовницей.
Чего только не придумают люди…
Поле
Засветло мы вышли в путь.
Доехали на автобусе до Самараси. Дальше пошли пыльными
тропинками вдоль арыков. И только часам к восьми, когда
солнце уже вовсю палило на всю бескрайнесизую округу, мы
дошли до этого самого поля.
Странно, можно было подумать, что я его до сих пор
не знал. Что не я ещё в первом классе в том самом гороном
селении нанизывал у его кромки клейкие листья табака на
бечеву для сушки, а через полгода уже рвал листья шелковицы
для шелкопряда в совхозе, чтобы чуть погодя у этого самого
поля перебирать коконы; наконец через три месяца собирал
здесь совхозные помидоры вместе со всеми одноклассинками...
Да, но это было корейское поле. Луковое поле. То поле,
название которого преследовало нас с самого первого класса,
как некая сословная тайна, когда Тристан Цой, завораживая
нас всех, мог сказать Эмме Тэн: “Лагерь? Нет, летом я поеду
на Поле”, или: “Фазаны? Вот когда я был на Поле…”
И даже позже, когда наш учитель русского чуваш Евстигнеевич
пояснял нам вполне русские идиомы типа: “где раки зимуют”
или “куда Макар телят не гонял”, нам не корейцам класса
мнилось опять то самое Поле, которое хоть жизнь прожить,
а не перейти…
И вот оно, это Поле.
Как случилось, что тем летом родители Лазаря сняли
свои гектары тут, неподалёку от станции? То ли разбогатели
так, что сумели себе позволить закупить всё здесь, не отъезжая,
то ли, напротив, обнищали настолько, что отъехать подальше
не хватило денег? Не знаю. Во всяком случае из всех корейцев
станции в округе остались они одни, и тайна Лазарая в обмен
на мою, о которой я расскажу чуть позже, внезапно прираскрылась.
Он взял с собою не только меня, но и Фази, нашего соседа,
считавшего корейцев древними узбеками, забравшимися изза
страсти ездить в поисках полей даже на Корейский полуостров.
Молчавший всю дорогу Фази, лишь завидел разогнувших
спину родителей Лазаря, первым оказался рядом с ними со
своим “Аляапсинду”, заученным ещё с детства от того самого
старика. Те както молча кивнули повязанными головами и
опять согнулись над своими грядками. Лазарь и вовсе не стал
здороваться, а просто отошёл и встал в начало следующей
грядки, и если бы не Фази с его древними корейскими инстинктами,
то дурнее моего положения торчащего посреди огромного
поля как чучело, невозможно было и придумать, но он сказал:
“Каджя!” и я понял, что это значит: “Пошли!”
Мы встали на двух грядках рядом с Лазарем, и Фази,
глядя на него, а я на Фази, начали пропалывать лук. Честно
говоря, поле подзаросло травой, это была пальчатка, совершенно
гнусно топорщащаяся во все стороны трава мечта моих
футбольных ног и столь ненавистная для моих изрезавшихся
вмиг рук.
Нагибаешься хватаешь дёргаешь в арык шаг
нагибаешься хватаешь дёргаешь в арык шаг нагибаешься
хватаешь дёргаешь в арык шаг нагибаешься хватаешь
дёргаешь в арык шаг нагибаешься хватаешь дёргаешь
в арык шаг нагибаешься хватаешь дёргаешь в арык
шаг нагибаешься хватаешь дёргаешь в арык шаг
нагибаешься хватаешь дёргаешь в арык шаг нагибаешься
хватаешь дёргаешь в арык шаг нагибаешься хватаешь
дёргаешь в арык шаг нагибаешься хватаешь дёргаешь
в арык шаг нагибаешься хватаешь дёргаешь в арык
шаг нагибаешься хватаешь дёргаешь в арык шаг
нагибаешься хватаешь дёргаешь в арык шаг нагибаешься
хватаешь дёргаешь в арык шаг нагибаешься хватаешь
дёргаешь в арык шаг нагибаешься хватаешь дёргаешь
в арык шаг нагибаешься хватаешь дёргаешь в арык
шаг нагибаешься хватаешь дёргаешь в арык шаг
нагибаешься хватаешь дёргаешь в арык шаг нагибаешься
хватаешь дёргаешь в арык шаг нагибаешься хватаешь
дёргаешь в арык шаг оглядываешься собираешь этот
аджирик в кучку нагибаешься хватаешь дёргаешь в
арык шаг нагибаешься хватаешь дёргаешь в арык
шаг нагибаешься хватаешь дёргаешь в арык шаг
нагибаешься хватаешь дёргаешь в арык шаг нагибаешься
хватаешь дёргаешь в арык шаг тень твоя прячется
под тебя нагибаешься хватаешь дёргаешь в арык
шаг нагибаешься хватаешь дёргаешь в арык шаг
нагибаешься хватаешь дёргаешь в арык шаг нагибаешься
хватаешь дёргаешь в арык шаг нагибаешься хватаешь
дёргаешь дёргаешь стираешь пот с глаз в арык шаг
нагибаешься хватаешь дёргаешь в арык шаг нагибаешься
хватаешь дёргаешь в арык шаг нагибаешься хватаешь
дёргаешь в арык шаг Лазарь уже собирает кучки в
одну едва заметный ветерок ударяется о застывший на лице
пот нагибаешься хватаешь дёргаешь в арык шаг
нагибаешься хватаешь дёргаешь в арык шаг нагибаешься
хватаешь дёргаешь в арык шаг нагибаешься хватаешь
дёргаешь в арык шаг нагибаешься хватаешь дёргаешь
в арык шаг шнурок на ботинке развязывается оставляешь
и второй на грядке нагибаешься хватаешь дёргаешь
в арык шаг нагибаешься хватаешь дёргаешь в арык
шаг нагибаешься спина начинает ныть разгибаешься,
снимаешь рубашку и повязываешь ею голову нагибаешься
по спине щекочет жаркий, но свежий ветерок хватаешь
дёргаешь в арык шаг нагибаешься хватаешь дёргаешь
в арык шаг не разгибаясь хватаешь дёргаешь в
арык шаг не разгибаясь хватаешь дёргаешь в арык
шаг не разгибаясь хватаешь дёргаешь в арык шаг
думаешь оглянуться и собрать траву в кучку и не можешь разогнуться
садишься на корточки хватаешь дёргаешь в арык
ползок хватая дёргая в арык ползок хватая дёргая
в арык ползок хватая дёргая в арык ползок
пальчатка режет колени разгибаешься, держась за спину
Лазарь уже на середине поля родители, кончив грядку,
несут навстречу флягу воды, от которой отказывается Лазарь
“Мур мкя?” спрашивает тётя Нина у Фази и оба мы “мыкяем”
воду взахлёб, так что она стекает по горлу и до пупка. Солнце
уже как волейбольный мяч, поднятый над сеткой, сейчас его
ктонибудь будет “гасить” становится темно в глазах
родители пристраиваются за нами и опять нагибаешься
хватаешь дёргаешь в арык шаг нагибаешься хватаешь
дёргаешь в арык шаг нагибаешься хватаешь дёргаешь
в арык шаг нагибаешься хватаешь дёргаешь в арык
шаг нагибаешься хватаешь дёргаешь в арык шаг
нагибаешься хватаешь дёргаешь в арык шаг нагибаешься
хватаешь дёргаешь в арык шаг нагибаешься хватаешь
дёргаешь в арык шаг нагибаешься хватаешь дёргаешь
в арык шаг нагибаешься хватаешь дёргаешь в арык
шаг и так бесконечно…
Я не помню ни обеда в шалаше, поставленном посреди
этого поля в нём ночевали весь сезон родители Лазаря,
ни того, как мы кончили эту нескончаемую работу, помню лишь
собранную у кромки поля целую скирду этой мягчайшей пальчатки,
на которую мы опрокинулись навзничь и лежали, глядя в остывающее
розовое небо розовое без облаков розовое само по себе
от солнца ли, закатывающегося за горизонт, или от солнца
впечатавшегося в нас и теперь избывающего себя розовым небом
на весь окоём… Родители Лазаря готовили ужин, он ушёл к
началу главного арыка, договариваться о сегодняшнем ночном
поливе, а мы с Фази лежали, забытые этой бесконечнобеспокойной
жизнью корейского Поля.
И ещё помню, как после ужина, когда оставляя здесь
Лазаря, мы собрались было уже в обратную дорогу, отец впервые
за весь день заговорил и в недолгой фразе, обращённой к
матери мы услышали напоследок два слова: “Теньги тала…”
Мать юркнула в шалаш, Лазарь ушёл на поле и только отец
стоял под первыми звёздами и молча смотрел на нас, не поонимающих,
что здесь происходит. Вышла мать, переддала чтото отцу,
отец развернул две десятирублёвки и протянул в ни слова
нам.
Мы опешили, мы стали отнекиваться, мы стали говорить,
что сегодня мы пришли на хашар [5],
помочь Лазарю, тогда отец негромко кликнул Лазаря, сказал
ему чтото покорейски и вручив сыну эти красные как наши
уши две десятки, повернулся и пошёл по полю в сторону главного
арыка.
Он просит взять, произнёс Лазарь и видя, что я
отворачиваюсь, отдал эти деньги Фази, который конечно же
ничего не знал и взял эти две бумажки, принял их эти два
червонца ровно половину того, что вчера вечером я отдавал
под строжайшим секретом Лазарю, и теперь пришло время рассказать
о той самой тайне, в которую я посвятил вчерашним днём Лазаря.
Впрочем, какая из этого тайна? Просто, поскольку в
семье нас осталось: я, бабушка и мой дядяодногодок, двое
старших ушли в армию, то кормились мы в это время тем,
что бог на душу пошлёт, но это другая тема, другой разговор,
а в те дни бабушка купила из своих накоплений “на смерть”
два мешка сырых семечек, и поскольку уже почти не могла
ходить, то сидела и жарилла их в огромном казане, а я и
дядяодногодок он в первую, а я во вторую смену выносили
эти семечки на базар. О, этот позор торговли, нет торгования
семечками, когда в каждом идущем на базар покупателе ты
видишь издали одноклассника и вздрагиваешь отходишь за
колонну или делаешь вид, что сам прицениваешься к этим семечкам
от которых хозяин только что отошёл…
Но и это другой разговор. Фази этого не знал. А
вот Лазарь вчера узнал. А всё потому, что мать его вчера
утром, уходя на поле, попросила ео прийти к нам и занять
пятьдесят рублей это у насто пятьдесят! И всё же у бабушки
были тридцать рублей неслыханная по тем временам сумма,
но и она дала их не сразу, а села жарить семечки, и тогда
как ни стыдно было это мне, но наверное не стыднее чем
Лазарю, нне знавшему куда деваться, я сказал ему что решила
бабушка, и знаете, как гора с плеч торговал я, Лазарь
как бы прросто развлекал меня и если что, то и вовсе прикрывал,
словом, наторговали мы в этот день на все пятнадцать рублей
сто пятьдесят больших стаканов, и получил тогда Лазарь
эти сорок рублей, половину которых теперь сам же возвращает
Фази…
Но ведь Фази ничего этого не знал…
Не знал Фази тогда и о том, как той же осенью, уже
после возвращения корейцев на станцию, возвращения подобного
листопаду в урюковос саду дочери одноглазого Фатхуллы, однажды
вечером Лазарь этот стойкий и гордый, самый отъявленный
Лазарь на свете, прибежал к нам и в сумеречной темноте выпалил:
Знаешь, отец ушёл!
Куда? не понял я.
Не заю, както увядая на ходу, сказал он и жестковолосая
его голова свесилась тёмным непроглядным пятном.
Я испугался. Ведь если всё помнить, то у нас на станции
ничто не кончалось так, чтобы ничего не случилось.
Потом он повернулся и быстрым, некорейским шагом
замельтешил к станции. Я бросился его догонять. На перроне,
где Акмолин гонял челноком свой маневровый тепловоз, мы
настигли зарёванную тётю Нину. Её веки уже совсем покрыли
две бьющие влагой щёлочки, а распухшие губы шептали: “Каджимара,
каджимара…”
Идите домой, сказал ей Лазарь, а сам побежал за
светлоколышущейся по ту сторону рельс рубашкой. Я попытался
утешить мать, но она отвернулась, а потом и вовсе пошла
обратно, как бы исполняя для меня то, чо велел ей Лазарь.
Я бросился за Лазарем и догнал их уже а автобусной остановке.
Лазарь чтото говорил отцу покорейски, тот на ходу покорейски
чтото немногословно отвечал. Лазарь опять чтото объяснял,
а тот шёл и шёл. Я плёлся за ними, не зная чем помочь, не
понимая ни сути спора или ссоры, ни его последствий. Так
мы дошли почти до моста, откуда дорога шла на Самараси и
тогда отец наконец остановился, огляделся, может быть заметил
меня и сказал порусски: “Я устал…”
Лазарь както беспомощно обернулся в мою сторону и
я, мгновенно чтото осознавший, хотел было вмешаться, как
отец опять порусски уже примирительно произнёс: “Пойду
на поле…”
И мы с Лазарем вернулись домой.
Каменный гость
………………………….1/
______________________
1/ Уж не буду описывать все страстимордасти Большой Разборки,
когда их всех вывезли на окраину ночного старогородского
парка и поначалу грозили закопать живьём под вот эту мусорку,
а потом вывезти в долину и гладить их голыми включённым
в сеть утюгом, и между тем били, били, тупо и жестоко, отрабатывая
на них всё: от оплеухи и до мавашигири.
Словом, всё копимое ими по дням и годам и набравшееся
в давешнее полупрезрительное “колхоз” этим колхозом было
грубо и зримо попрано и выничтожено, и оказалось, что Космодемьянской
быть, собственно, не за что уж ни за эти же 100 тысяч,
оставшихся на память о кореянке Иннесе, а без этого и вовсе,
как оказалось, жить не стоит.
Вторым словом, их уничтоженных и обосранных приговорили
к 4 миллионам рублей, и оставив двоих в заложниках, двоих
отпустили принести до завтрашнего продолжения разборки эти
4 миллиона, а иначе “счётчик уже запущен…”
Нет, не буду описывать, поскольку совершенно неизвестно,
а была ли эта кореянка Иннеса, равно как и всё остальное,
вообще…
Вы спросите, к чему же тогда я припомнил эту историю?
Просто думая о Тон Хване, ушедшем в ночь и оставившим у
Анны всего лишь тетрадку собранных бог весть откуда афоризмов,
я отыскал в ней вот эти строки из древнего трактата, которые
и привожу в надежде хоть чтото из написаннного или замышленнного
быть написанным объяснить. “Чтобы уберечься от мелких воров,
которые взламывают ларцы и рыщут по мешкам и вскрывают сундуки,
считают необходимым связывать все эти всуе верёвками и бечевами,
ставить крепкие засовы и замки. И мир обычно называет это
мудростью. Однако если придёт Большой Вор. То он взвалив
на себя сундук, подхватив ларец и положив на плечо мешок,
убежит со всем этим, опасаясь только, чтобы верёвки и бечевы,
засовы и замки не оказались непрочными. В таком случае разве
то, что прежде называли мудростью, не окажется лишь собиранием
добра для Большого Вора?! Поэтому попытаюсь разобраться
в этом: среди тех, кого мир называет умными, есть ли такие,
которые не собирают добра для Большого Вора? А среди тех,
кого называют совершенными, есть ли такие, которые не охраняют
великих воров? Как узнать, так ли это?”
Продолжать или хватит? Не знаю…1/
__________________________
1/ Будь Тон Хван писателем, он непременно положил бы это
на бумагу. Концовка мысли не то, чтобы понравилась ему,
но задержалась между сознанием и языком “положил бы это
на бумагу” было совсем странно, поузбекски что ли ах,
пыльная и знойная провинция его мысли и он усмехнулся
левым уголком губ, которые тут же облизал; и даже закусил
нижнюю, но фрраза не пропадала она каталась в этом промежутке
в такт подходящей к вокзалу электричке столь же неотвязно,
как пузырёк воздуха в прямой кишке.
И только на вокзальной площади, на пятачке перед сумрачно
посверкивающим изза голов газетным киоском, он освободился
от этой неотвязности и между делом огляделся, чтобы тут
же, прибавив скоорости, прристроиться к очереди в киоск.
Газетчица разворачивала свои торговые поорядки и её медлительное
достоинство, тёкшее волннами по телу очереди до самого хвоста,
вдруг судорожно и никчёмно высветило в сознании Тон Хвана
его мать, расстилавшую столь же сумрачным, но осенним днём
по дороге, проходящей мимо их кривых ворот газеты с портретом
усатого военного, застёгнутого на все пуговицы кипу газет,
извлечённых со дна их плетённого сундука. Мать расстилала
газеты поо гравийной дороге, придавливала их камнями, а
затем, взяв в руки плоскую плетёнку, полную шалы неочищенного
от шелухи риса встряхивала её, потом начинала тоскливо
и протяжно высвистывать, вызывая тем самым ветер…
“Ветренная женщина…” так подумал Тон Хван на чужом
языке, и разбухшим от долгого молчания, а потому неуклюжим
языком ощутил чужеродность своего (илил чужого?) определения.
Нет, скорее она была несчастной женщиной. Ведь после
того, как однажды вечером на закате от них ушёл отец, мать
первой из кореянок округи отреклась от извечного Поля и
устроилась санитаркой в близлежащий туберкулёзный санаторий,
и Тон Хван теперь вместо походов на чистое и широкое Поле,
приходил после уроков в этот двор, где слюна не глоталась,
а воздух невидимо угрожал…
Тогдато мать и пристратилась к сакё рисовой водке
на горьком перце, тогдато в дни летнего Поля то в доме,
а то в её больничной каморке стали появляться врачи, аптекари
и шофера, оставляя за собой запах рта матери, полыхавший
в комнате, когда она опрокидывала в себя ковш за коовшом
ледяной воды…
Перед смертью она и вовсе сошла с ума. К тому времени
Тон Хван уже подрабатывал на железной дороге. Полтора года
он возил мать по диспансерам и больницам она беспричинно
хохотала в автобусах, приёмных покоях, хватала здоровой
рукой парализованную и трясла её, приговаривая при этом
своё непременное “Аляапсинду!” Последнюю неделю её парализовало
всю и Тон Хван сидел у её кровати, то кормя с ложки, то
подчищая постель, и мухи, жужжащие над матерью, уже казалось
отложили свои белые копошащиеся личинки в мозги, а те проели
в мозгах щели и в них свистел ветер, некогда вызываемый
матерью…
Странно, Тон Хван впервые вспоминал всё происшедшее
столь трезво и беспощадно. Наверное оттого, что только теперь
ощутил себя человеком перешагнувшим возраст матери. А ведь
сейчас он старше её чуть ли на два полных года… Нуда ладно,
подумал он и уже садясь в метро, развернул газету.
Господи, день чтоли такой первое, на что упал его
взгляд, была статья…1/
____________________
1/ Вопрос: Уважаемый господин ДалайЛама! Мой вопрос таков:
я конечно знаю о буддийских четырёх благородных истинах
и восьми превращениях, но я хочу спросить Вас вот о чём:
я понимаю, что вопрос мой может показаться ну… как бы это
сказать… может быть несколько неожиданным, чтоли, словом,
мой вопрос таков: да, я не представился, я писатель Бондарев,
итак, мой вопрос: в чём поВашему смысл жизни человека?
Вот таков мой вопрос, и вовторых, я… впрочем, я задам этот
вопрос позже…
Пока этот вопрос переводили на английский, а затем
на тибетский, Тон Хван силился вспомнить, кого ему напоминает
Его Святейшество… Стоп! Точно волевое лицо, подвижные
юркие глазаножи, широкая улыбка точно их комсомольский
секретарь Ганишер. Точно, точно… и стол такой же как бы
на комсомольском бюро зелёное сукно, люстра, вопросы на
засыпку…
Мне кажется, что смысл человеческой жизни это
счастье (перевод… не дожидаясь пожатие плеч…) Человек рождён
для счастья (перевод… чьято реплика: А чтотакое счастье?
перевод…) Счастье помоему это гармония внешнего и внутреннего
мира в человеке… (пауза)…
Вопрос: Я приехала из Прибалтики, Ваше Святейшество
наверное знают (пробирается между рядов) у нас создана буддийскаяламаистская
секта (щелчок фотоаппарата ослепительная улыбка…) и я
привезла с собой… наше искреннее восхищение миротворческой
и гуманистической деятельностью Его Святейшества (приближается,
вся расплываясь к ДалайЛаме Тон Хван внутренне сжимается,
голова привычно втягивается в плечи…) и я бы хотела (наклоняется
вдруг к рукам Его Святейшества… целует, судорожно целует
оргазм… бесконечно кланяясь отступает и плачет…)
Как вам не стыдно! Вы знаете, что вашем возрасте
девушки уходили в партизаны, их мучили на морозе, их вешали,
их… сравните себя с ними…
Тон Хван не на шутку перепугался происшедшего… Ганишер
молча подмигнул ему, мол всё ОК… всё на месте… Тон Хван
оглядел примолкший зал… О боже! Анна! Анна! Не дрогнувшая
и бесстрастная, белоснежная в этом полумраке и одинокая,
она сидела у ещё дымящегося места уведённой из зала, сдерживая
спучковавшуюся силу полусотни взглядов и своим неприступным
молчанием провоцировала всех на сумасшедшие, безумные вопросы.
Что такое любовь? Кто может быть членом ВЛКСМ? Можно
ли вносить изменения в наш Устав? Какова ваша программа
человеческого счастья? Ваше семейное положение? Сколько
у вас последователей и врагов в мире? What is Truth? Что есть что? 1/
_________________________
1/ Вот слушай, значит. Гоняли мы както футбол, это на школьном
стадионе, вот, и вдруг, смотрим, ктото кричит: “Атас!”
Зуев канает. А Зуев это наш, значит, завуч по физкультуре.
Ну мы и рассыпались в общем… Ктокуда, в общем, с концами.
Кинули портфели это на воротах, это мы ими строили
ворота жирному Сатру он так и обосрался стоять. Жирный
как индюк. Потому на ворота и ставили полворот занимает.
Такого фиг пробьёшь!
Слушай! Ты будешь слушать?! А то… чего комар? Какой?
смотри… Ну вот… знаешь, всякую охоту отбиваешь рассказывать…
Ну вот, кто, в общем, куда. Зырим, идёт Сатрик. Бумбумбум!
Пыль подымает. Говорит: “Вас Зуев зовёт”. Это зачем ещё?
“Дураки, говорит, уроки уже кончились, а вы драпать…”
Начинает уже форсить: вот я один не чухнул… Ну, бочка, даёт!
И вот канаем, мы, значит, обратно. Неудобняк, строим
афишу, что у нас был таймаут. Ходили на водопой. Идём,
вытираем себе губы. Вот. А Зуев: Фьють! Угай! кричит,
строй свою команду на физкультпривет! Мы и строимся каждый
хочет примоститься последним. Хорошо я левым крайним играл
самым последним встал.
“Хотите, говорит, я вас на неделю от уроков освобожу?”
Ну, думаем, начинается. Мофа Пожар уже гудит: “А чё мы сделали?”
А Зуев тут же: “Не “чё сделали”, а что будете делать! Тебе
же, Пожарицки, за разговорчики в строю наряд в спортзал,
будешь языком наждачить гранаты!”
Тютю! Нуу, думаем, опять петицию писать… Это
мы завсегда, когда отмывать Мофу… Ну вот…
А Зуев дальше: “Поедете на соревнования пожарников…”
“Пожарных” докапывается Мофа. Что до пожарных, он тут
по фамилии дока. Ну, думаем, хана! Накрылся крышкой наш
Мофа! А в это время изза Зуева выныривает какойто шибзик
и заявляет: “Уон пиравилно гаварит!”
“Ну вот и возмёшь его тогда капитаном!” говорит
тогда Зуев. “А это товарищ Джумаев из районных… как? пожаррнныхххх!
Он объяснит вам всё остальное!” Зуев плюнул в общем и
обиженный ушёл… Мы в шум. Джумаев всё скачет, успокаивает.
“Как штык!” говорит. А что штык, кого штык? Ну вот…
(Тон Хван читал всё это весьма рассеянно, но и при своей
рассеяности он не мог не заметить, что к этому месту в нём
накопилось достаточно раздражения, чтобы захлопнуть журнал
с его псевдо”рассказным” рассказом и только то, что рядом
с ним села девушка, которую он осознал скорее не взглядом,
а низом живота, заставило его держать глаза на странице,
направляющей взгляд чуть влево на её неприкрытокрутые
коленки…)
Короче говоря, назавтра в 10 “современно и как штык!”
на этом же месте. Без формы, без портфелей. Гремим на целую
неделю… Гудёж, в общем… А нам что нужно? Что и требовалось
доказать! Ну и пришли мы в десять нольноль как штык! Повёл
нас Джумаев как штыков в свою пожарку. В жизни мы её не
видели! Какая в жопу пожарка, вон у Артёмки крыша горела,
так мы дров подбрасывали, чтобы по ним огонь пошёл к соседям…
Ну вот… Сидит значит начальник в кабинете. Задумчивый как
на очке. А Джумаев сначала сам пролезает, а потом зовёт:
“Угай, давай ипсех как штик!” Забуриваемся, а начальник
уже как подкрученный: “Ви знайете па какой пиричин ми вас
визивал? Вы далжни паддиржат слабний трагедий наш раён!”
Так и сказал: “Слабний трагедий”. Жалко, Мофы не было, а
то бы переводил: дескать славные боевые и трудовые традиции…
Ну да ладно, в общем. Сказал, что поедем аж в Бекабад. В
жизни так далеко не вывозили. Даже на хлопок! А тут сам
Бекабад! Автобусом только часов шесть пилить не меньше!
И пайка готова! Короче повёл нас Джумаев после этого инструктажа
на первую тренировку. Прямо из кабинета. Прихлопали мы кто
в чём и давай сигать через стенки, херачить через бум. А
он всё “как штик!” сечёт и чтото замусоливает у себя в
книжке.
А на следующий день повезли нас в Бекабад. Опустились чуть
ли не в полночь. Тырк туда, тырк сюда! в гостинице
нашу бронь ктото уже снял. Мы в пожарку! Ну, шурупим:
“слабний трагедий” начинается… Нам в анфас: вот есть мол
красный уголок, в нём и перекантуйтесь. Джумаев как штык
слёгся на диване, а народ кто на стуле, кто на столе и
газеткой накрылся. Ночью, чуем колотун, а в углу стоит
торчком кожанный мат. Мы его на себя. Там где он касается
тела там печка, а где не касается холодильник. Словом,
через слово мат. Или так: мат он и есть мат!
Ну вот, встали утром все как цуцики и на хаву. А завтрак
оказывается по гостиницам, где прописаны. Мы на базар. Хорошо,
нашли пирожки “ухогорлонос” по 4 копейки, обожрались,
запили газировкой за счёт Джумая и на соревнования!
Зато на соревнованиях: я и Бу! все как штык всех обрядили
в пожарную робу в жизни не носил килограмм сорок поверх
собственных сорока и вперёд! Одна каска закачаешься
как кондом на палочке!
(…Интересно, смотрит она сюда или нет? думал Тон Хван
и как бы взявшись взглядом за ручку её взгляда, прошёлся
ещё раз по этим пошлым словам: “как кондом на палочке”…)
Джума зафурычил маршрут: “Первий итап: Ким Вилорий бижиш
адин кирук с истапетом и как иштик пиридайош Угай Даниль.
Угай! Гиде Угай?” смотрит, нет Угая. “Гиде Угай?” оказывается
уже лазит с лестницей по стенкам. “Харашо, говорит Джума,
Угай палезит на стенка. Тиретий итап: заяпка Калигуллаев,
игде Калигуллаев?” “Здесь”, говорю я. Он смотрит на
меня, бздит ставить и спрашивает: “Ти два шланга паднимат
можишь? А леснис? Нада савременни как иштик!” Я прикидываюсь
шлангом. Он оглашает весь список.
Вызываю на старт. Я волочу на себе пудовый ремень, пятикилограммовую
каску и весь этот презерватив из брезента эту робу. Рыцарь
обтать! И вдруг Джу комкает заявочный лист и гуторит, что
мы должны всех обставить как штык на первом этапе. “Пичилинкоп,
ти пайдош первим!” “Но ведь вы только что сказали, Вилорий…”
пытается отвертеться этот костыль. “Как иштик!” командует
Джу и стоп! Разговорчики в строю!
На старт! Внимание! Бах! Рыжий “Ким Вилорий” пускается вскачь…
“Угай! Гиде Угай?!” Мы объясняем, что Угай полезет на стенку.
“Ти будиш Угай!” показывает Джума на меня пальцем и я
обвисаю как порванная резинка. Он волковывает мне, что я
должен делать на этапе, я подкивываю и вижу этот страус
уже несётся…
Я швырнулся вперёд зырю стенка с разлёту шмякнулся
об неё она назад. Я как об стенку слетаю. Ещё по разу
ляпаюсь уже цепляюсь когтями и тянусь ан хер там не
вытянусь. Я ногами, как сосиска, глистой извиваюсь и опять
шмякаюсь как говно в прорубь! По третьему ляпаюсь стенка
как лук чуть не валится и натягивается. Ну, думаю, запустит
меня сейчас в обратную сторону костей не соберу… А все
орут: “Угай! Угай!” “Мать вашу Угай!” думаю и валюсь
на обратную сторону вместо Угая. Аж каску сдуло! Я её в
охапку и качусь к шлангам. Два бычьих цепня два кругаля
по пуду в две руки вижу уже в спину лупит. А эти всё:
“Угай! Угай!” Бегу как утка вприсядку и с разбегу на бум…
Бум! откатываюсь назад. Ещё один накат шланг падает
и раскатывается. Ёб твою мать! Вот тебе бабка и Угай!
Тон Хван оглянулся и увидел, как девушка юркнула в среднюю
дверь, он со вздохом закрыл журнал и когда девушка встретилась
с ним глазами, увидев, что она балла на три ниже того, что
он ощущал минутой раньше, Тон Хван стал делать вид, что
он просто рассматривает округу: “Где это он оказался…”
“Ба! Почти уже приехал…”
Сойдя на следующей, он птянулся вслед за всеми в универсам
и отстояв почти полчаса в очереди, купил по кммерческой
бутылку азербайджанского коньяка. Время пристукивало к трём.
Тон Хван предвкушал…
Он позвонил в дверь и последний обвал надежд в паузе: её
нет дома, к ней вернулся этот… у ней подруга, у ней… счастливо
смёлся снегопад в горах её ослепительносмущённой улыбкой:
“Проходи, проходи, я тут одна…”
Следом, как будто опережая и загораживая всё своё и его
понадуманное впрок, она тараторила через плечо: “Кофе будешь?
Проходи, раздевайся… Ты знаешь, звоонит мне сейчас… а, ладно,
потом… Тебе с сахаром? Проходи пока в комнату…” Он тоже
отвечал ровно невпопад, про кофе, про коньяк, про ДалайЛаму,
и наконец, вдоволь побарахтавшись в двух смежных комнатах
трёпа, они выбрались на пустынный и бехмолвный берег у вот
этого стола, придвинутого к вот этой тахте, под вот этой
стеной. Всё, казалось, было сказано. В пустоте голые дыхания
коснулись друг друга и… отпрянули.
Как кофе? спросила беспомощно она.
Он густо прихлебнул.
Слушай, а может быть с коньяком, а? выдохнул через спёртое
дыхание Тон Хван.
Давай! она метнулась на спасительную кухню.
Он долго откупоривал этот коньяк, освобождая в кряхтение
своё запавшее дыхание, затем плюхнул его в стопочку так,
что Лора опять бросилась на кухню за тряпочкой, словом,
словом суета предлюбовья и томление голубиного танца,
в котором не признаются и не признаются ни тот, ни та.
Так и мерцали ударения над словами, смыслами, временами,
пока не была почти прикончена бутылка, делавшая их всё более
и более трезвыми, как шахматистов к эндшпилю голому и
вызывающему, когда на пределе обнажённых словно провода
нервов задребезжал секущий звонок…
“Пиздец!” подумал Тон Хван, но сам испугался этого слова.
Карл оказался долговязым, как настоящий Карл, а потому коротышка
Тон Хван, привставший к его пупку поздороваться под щебетанье
Лоры, успокоился столь же внезапно, как и перепугался. “А
что, собственно, произошло?” думал он, аккомпанируя теперь
кивками щебечущей Лоре: “Мы тут выпили за тебя, и тебе вот
оставили в моей стопочке, выпей за знакомство…”
Выпили. И не глоток коньяка, показалось, опрокидывает в
себя Тон Хван, а настой стыда перед этим Карлом, к которому
липла теперь Лора, и стыдто был странной природы стыд
ущемлённости, но чем больше стыдился Тон Хван своей мужской
никчёмности, тем более настораживался Карл и тем больше
влипала в него недалёкая Лора…1/
________________________
1/ Уж не будем рассказывать, что в тот злополучный вечер
на шум женщины вышел её непроспавшийся муж и спросонок,
подозревая бог знает что, полез защищать свою жену: Так
что Тон Хвану досталось и несколько увесистых тумаков, на
которые он, увы, не мог ответить, вот и ушёл он в ночь с
рассечённой бровью, кровь из которой текла и запекалась
по эпикантусу, огибая его слезящийся глаз…
Нет, не будем…
Расскажем лучше историю о кореянке Иннесе, которая не пришла
на встречу с ДалайЛамой, а стало быть и с Тон Хваном, поскольку
была в то время в одном из южных городов. 1/
_________________________
1/ Из максим, собранных Тон Хваном
“Я не помню, что значит понемецки
“trotz dem”, но всякий раз, когда моя прямая
кишка произносит это в туалете, я невольно вздрагиваю”.
“Любить свой народ это всё равно, что вдохнуть и не выдохнуть.
Любить чужой это выдохнуть в рот другому”.
“Художник так мечтал о прекрасном пейзаже, что в его поисках
потерял свой мольберт”.
“В России ничего не происходит, даже когда в ней чтото
происходит”.
“Периферия жизни… Край, который ты меньше всего знаешь.
А стало быть самый плодотворный, как зона роста на стебле.
Однако растёт ли мураш или гусеница, прилипшая к этой зоне?
Знание как собственная тень от несобственного источника
всегда при себе, но никогда внутри…”
“Жить это значит из старого хаоса создавать новый”.
“Воровать у вора = сторожить сторожащего”.
“Помочившись в щель на стене, он принуждает других ходить
туда побольшому”.
“В футбол играют не потому, что мяч круглый как голова,
а потому, что голова пуста как мяч”.
“Древние говорили: Учись у зрачка, который всё видит, а
себя не замечает. А я говорю: Учись у слепого глаза, который
видит лишь всезрящий зрачок”.
“Жизнь вторгается в наши построения почти как немые в купе
с порнографией”.
“Он женился на ней потому, что она вышла за него замуж.
Поэтому она ушла от него”.
“Кто знает, что знаю ли я о том, что ничего не знаю?”
“Он так долго искал Истину, что забыл для чего”.
“Если снять все тайные покровы с капусты, то останется голая
кочерыжка”.
“Его занудство было способом победить заикание”.1/
_________________________
1/ Потом, когда все фотографировались на память в скверике
напротив Дома Культуры, Тон Хван, вдруг приобретший отчаянную
решимость, или вернее решительное отчаяние всё норовил
пристроиться поближе к Анне, которая, впрочем, снималась
скорее для протокола, и всё же подбираясь к ней сзади, он
столь же внезапно увидел, что на целую голову ниже неё,
так он и попал в снимок полузатерянный, полурастерянный,
глядящий кудато вбок, как младший телохранитель Его Святейшества…
Анна уехала со всей свитой ДалайЛамы, но отчаянная решимость,
заколебавшаяся было между Тон Хваном и Анной, решительно
и отчаянно вернулась к нему. Он прошёл в фойе Дома Культуры,
где старушкавахтёрша всё ещё взбудораженная помазанным
нашествием и напрочь позабывшая своё: “Понаехали тут всякие!”
сама подала ему трубку и всячески кланяясь, была даже
готова набрать номер сама, когда бы не затруднять гостя
расспросами порусски.
Но Тон Хван сказал в трубку: “Лорка, это ты?” и обманутая
старушка встрепенулась: “Гражданин! У нас телефон служебный!”.
Тон Хвана уже было не остановить.1/
___________________________
1/ …в прошлом году… или это было в позапрошлом? впрочем,
не имеет значения, когда Анна была вещё в полуразводе
её командир то приезжал каяться, то опять уезжал на армейские
сборы пить и скитаться по гауптвахтам Тон Хван совершено
беспричинно оказался в той однокомнатной квартире на окраине
Чертаново, куда и сейчас держит путь. Был он, как водится,
при бутылке вина, которую объявил кстати, когда на жалобы
Анныо куче одиноких друзей, оббивающих этот порог, с непривычной
развязностью заявил, что он наверняка единственный, кто
не имеет никаких затаённых мыслей на счёт какихлибо… короче
говоря, давай договоримся: сегодня никаких домогательств!
Анна заплескала руками: “Да я совсем не о том!” Но Тон Хван
уже почуял некий верный, беспроигрышный тон согласиться
с проигрышем наперёд, а если чтото такое, что он уловил
в в последнем восклицании Анны, то…
Они выпили просто и в охотку, и вслед развязанным наперёд
рукам, развязался и язык обычно молчаливосдержанного из
боязни вечного занудства Тон Хвана. Он болтал почти без
умолку, не давая Анне опомниться.
Жалко, что я медик, а не писатель. Я бы хотел написать
нечто наподобие такой вещи: “Литература как соблазнение”.
Понимаешь, маркс начинает с производства товаров. И строит
на этом весь мир. Но ведь сперва производятся дети, которые
станут производить потом товары. Есть мужское и женское
начало. Даже силлогизм сстоит из двух посылок, оплодотворяющих
заключение или вывод.
Анна кивала головой, а сама же тем временем убирала крошки
со стола, незаметно сгоняя таракана, высовывавшего свои
фехтующие усы изза клеёнки. Тон Хван, замечая её невнимание,
горячился и пытаясь быть более ясным, забирался ещё в большие
дебри:
Представь себе романтизм как аутоэротизм. Или попытайся
объяснить себе соцреализм как факт сексуальности. Понимаешь?
То есть история литературы оказывается сублимированной историей
человеческой сексуальности.
Это как у Фрейда чтоли?
Нет, почему, опешил Тон Хван. Нет, я говорю о литературе,
как о форме соблазнения. Понимаешь, если к примеру я… то
есть мужчина соблазняет женщину и итогом этого соблазнения
является… ну… половой акт… то соблазнение литературы это
попытка овладения душой… Вот Бахтин говорит о диалогичности
сознания. Это и есть двуполость сознания, то есть всё равно
как диалогизм сознания соответствует диалогизму самой жизни
с её мужчиной и женщиной… как вот… с тобой и со мной…
Ну хорошо, объясню проще. Вот высшая точка полового акта
что? Оргазм. Верно? Так вот катарсис это всё равно,
чо оргазм для души. Поняла?
А оргазм это катарсис тела… вполне обыденно спросила
или подтвердила Анна. Тон Хван вдруг поймал себя на том,
что слишком пристально зрачок в зрачок смотрит на Анну,
и почуяв как взгляд собирается во взрывоопасную точку, тут
же отпрянул помутневшими глазами.
Ну, можно… Или вот Кашпировский. Мне всё это интересно
как литература. То есть как он соблазняет душу. Понимаешь?
Мне кажется если бы он не занимался всей этой чепухой,
из него мог бы получиться великолепный любовник…1/
______________________
1/ Он ехал к Лоре аж на Алтуфьевское шоссе, но поскольку
та попросила его подъезжать к половине третьего (дескать,
она останется одна), то впереди была уйма времени, и даже
до Алтуфьевки по такому времени было рукой подать, и тогда
Тон Хван решил добираться туда по земле. Простая подземная
задача вдруг обернулась многосоставной проблемой, совсем
как Тон Хван рассчитывал сладостные варианты поведения у
одинокой Лоры, которая так многозначительно соообщила ему
о предстоящем одиночестве…
Измучив своё воображение среди суровых сограждан, как бы
почуявших чтото неладное, Тон Хван сунул руку в сумку и
машинально достал журнал. Прятал ли он свои эпикантусовые
глаза в эти жёлтые листы, или же просто становился в ряд
со всеми “обычнялся” во всяком случае почувствовал он
себя значительно уютнее, а тут освободилось ещё самое первое
у вечно закрытой персональнопервой двери место, и он
успокоился ннастолько, что без стеснения открыл журнал на
заложенной тётей Липой сттранице рассказике А.Магди под
огромной шапкой: “О том, как я был корейцем…”
О том, как я был корейцем 1/
_____________________
1/ (Из записной книжки мелким ширфтом, начиная со сноски
1/)
_____________________
1/ У одной кореянки есть 38 тысяч баксов. Понял? Сдаёт
по 150. Считай сам. У тебя нет покупателей? Ганишер был
как всегда категоричен и напорист, сообщая прежде всех эту
новость ему.
Он лениво, почти постарой комсомольской привычке, позвонил
паретройке знакомых, набросив парутройку рублей за бакс
и всё закрутилось собственным ходом.
В тот же вечер, когда уже обнаружились нетерпеливые покупатели,
кореянка не менее неожиданно вылетела в Москву и пропала
почти на полторы недели, за которые всё успелось забыться.
Но не для покупателей. Дней через десять ему позвонил замнач
следствия одного из районов города и спросил:
Как там, “зелёные” не вернулись?
Он поначалу не понял, о чём речь, но после “догона” перезвонил
Ганишеру и тот сказал, что всё в порядке, но у кореянки
осталось лишь 28 тысяч. Деньги уходили из рук. Их надо было
срочно забирать. Но где бы достать “лимон”, чтобы не связываться
с покупателями?
Он предложил наипростейший ход: в метро в “change-bureau”
курс покупки 160. Можно договориться с ребятами, что те
купят по 15557, а разницу положат в карман.
Да, кстати, а почему эта кореянка не сдаст баксы в банк
по 160?
Бздит, сказал Ганишер и вариант с банком отвалился сам
по себе.
“Лимона” Ганишер не нашёл, но нашёл покупателей на 17 “зелёных
кусков”. На десять остальных уже ехали бравые менты из долины
курсантские друзья замнача.
В шесть утра следующего дня долинщики были уже здесь на
всего с тремя обменными штуками. Ганишер стоял на своём:
“Кореянка вразбивку не отдаёт. Или целиком, или ни хуя!”
Он так и передал замначу, а тот дальше по цепи.
В полдень, когда Ганишер встретился у себя в кабинете с
кореянкой, та сказала, что всё к сделке готово, что в 14.00
она будет ждать покупателей, а вернее, только двух человек
со всей суммой.
К тому времени долинная дружина нашла ещё на семь кусков
и замнач уже сидел у него, ожидая приезда Ганишера.
Его брокерская миссия была уже выполнена и он старался прикинуть,
сколько же ему достанется с каждой стороны.
К 14.00 подъехал Ганишер, а с ним ещё одинн как оказалось
друг Иннесы, с которого вся цепь и начиналась. Долинщики
уже поджидали поодаль.
Ну что, деньги готовы? Толькоо очень быстро! скомандовал
Ганишер, отметая формальности церемонии представления:
Это вот замнач…
Ну что, садись, поедем!
Слушай, а зачем я? Они хотят, чтобы вместо меня поехал
их эксперт.
Но ведь мы договорились, туда пойдёт один человек вот
этот Бах (он показал на друга кореянки).
А если…
Если не хотят, то пиздец, пусть катят обратно. Садись,
садись!
Ганишер был в своём комсомольском энтузиазме. Замнач же
пошёл предъявлять своим бывшим сокурсникам ультиматум и
забирать деньги. Его машина оставалась коллегам как бы в
залог. Наконец он вернулся с деньгами и они поехали к Северному
микрорайону.
Деньги пересчитали? Сколько здесь?
Короче на … 10 по 160. Как и договорились по 4 с каждого
наши, 6 ваши.
Надо сразу отложить лишние. Оставить по 150, а потом разберёмся
кому сколько.
Сейчас отсчитать?
Нет, подъедем поближе.
Слушай, а нас не накроет какаянибудь бригада?
Я думаю милиция уже позаботилась, а? Хахаха!
(Подъехали поближе, туда, где поджидала вторая команда с
17 кусковым эквивалентом. Но их было три машины).
Слушай, это что? Старогородские что ли? Куда ты их столько
набрал?
Это Баховские ребята. От них тоже пойдёт один человек.
Ему не понравилось, что старогородских так много. “Колхоз”
полупрезрительно подумал он.
И впрямь оказалось колхоз. Они, видите ли, позабыли половину
суммы. Приехали не той машиной.
Пока шли переговоры Ганишера с колхозом, замнач, Бах и он
пересчитывали полтора миллиона милицейских денег. Было решено:
Бах идёт пока с этими, и они с кореянкой пересчитывают их
заново, а старогородские довозят тем временем недостающие
деньги.
На этом их машина завернула в квартал, касающийся одним
боком кольцевой и подкатила к одному из многих одинаковых
домов. Бах пошёл с пакетом денег в один из неизвестныз домов,
замнач и он остались в машине, дожидаться Ганишера с колхозом.
Через час подкатила машина поодаль на пригорке остались
две другие и Ганишер повёл к дому кореянки ещё одного “гружённого”.
Спустя минут десять он объявился и сказал, что всё идёт
по плану, их деньги уже пересчитаны, считаются теперь старогородские.
Она, мол, пересчитает и пойдёт за баксами.
Как?! Куда?!
В один из вон тех домов.
Как это?
А вот так.
А если кто по дороге…
Она просит, чтобы никто не следил. Не хочет засвечивать
хату, где баксы. Бздит.
Слушай, а вы уже брали у неё?
Бах брал…
А ты сам?
… вон, кажется пошла… Всё! Теперь, дай бог, вернётся,
в следующий раз будем уже подругому…
(За домами, метрах в пятистах на пустыре перед школой показалась
фигурка с целофановым пакетом. Следом, отставая на расстояние
дома, появился один из старогородских. “Пасёт!” сказал
Ганишер и забился глубже в машину.
Фигурка пересекла пустырь, взобралась на пригорок и скрылась
за первой девятиэтажкой. К тому времени “пастух” почти сравнялся
с ней. Прошло минут пять в полном молчании. И вдруг: уффф!
фигурка с пакетом появилась изза дома. Как ни в чём ни
бывало следом в прежнее расстояние шёл “пастух”. Когда она
скрылась за своим домом, Ганишер пошёл подстарховывать “гружённых”
зелёными Баха и второго. Замнач сидел в боевой готовности
номер один.
Через парутройку минут вернулся Ганишер и удручённо сказал:
Она засекла, что её пасут. Вернулась с нашим пакетом.
Пойду, скажу этому кишлаку, чтобы не высовывались! и пошёл
распоряжаться по цепи).
Эксперимент начался по второй. Тоненькая фигурка в краснющем
платьице появилась на закате и заколыхалась по пыльному
пустырю к пригорку.Теперь никто её не пас. Фигурка дошла
до пригорка и скрылась за девятиэтажкой. Ганишер ринулся
к другому концу пригорка. Потянулись долгие минуты… Иннеса,
ушедшая с четырмя миллионами, не появлялась.
А через полчаса одна за другим понаехали семь или восемь
старогородских машин и пошлапоехала разборка…1/
_________________________
1/ Дальше Тон Хван не стал читать, поскольку подобострастный
европеец предоставил слово самому ДалайЛаме. Но всё та
же инерция памяти вдруг наложила на первые вкрадчивые слова
Тензина Гьяцо давнийпредавний рассказ матери уже казалось
бы сумасшедшей и неизлечимо больной о том, как их везли
с Сахалина. Было ей тогда да, она тогда так и говорила
столько же лет, сколько во время рассказа было Тон Хвану.
А стало быть, стало быть лет двенадцатьтринадцать. Странно,
как повторяется жизнь, столько совпадений…
… Политика разоружения, которая безусловно связана с именем
господиа Горбачёва единственная верная политика…
… Их везли в вагонах для скота, крики охранников на непонятном
языке, лебезивший переводчик “То Мур Сагё”, околевший у
Читы отец дед Тон Хвана он окаменел непонятно от паралича
или от холода, и затем, чтобы позоронить его отогревали
по частям у буржуйки внутри вагона…
… Тибетский народ привержен disarmament (половину слов
ДалайЛама из корректности произносил поанглийски и Тон
Хван вдруг поймал себя на мысли а не переводит ли переводчик
эти слова на тибетский ведь переводчиков было двое с
тибетского на английский и следом с английского на русский…)…
… а навстречу им везли в таких же, но с решётками вместо
заколоченных досок вагонах толпы угрюмых и улюлюкающих
ЗЭКов говорил Тон Хван мать не понимала этого слова
и мотала головой нет, людей, русских, наверно в наши дома
и тогда по их голодному и дикому виду мы пугались домов,
куда везут нас…
… disarmamentимеет ещё один aspect, а именно internal disarmament…
тактак, это уже интересно…
… мать её умерла в Казахстане, это они поняли потом, в степи
её отмывали снегом, а затем долго ждали кладбища, чтобы
засунуть её в одно из одиноких роскошных казахских надгробий
охранники кричали и даже палили в воздух, пугая или пугаясь
наверное шакалов…
… долг современного человека внутреннее разоружение. Тольк
освободившийся от внутренней агрессивности человек способен
к восприятию happiness…
… доехали…
Посыпались вопросы. 1/
_______________________
1/Он пробежал её глазами и всё ещё занятый мыслями о матери,
да о своём возрасте, почти не понял ничего из прочитанного.
Мать… Мать… Она всплывает в памяти всякий раз неожиданно,
но… в этой неожиданности… дада… есть конечно же эта самая
закономерность… ну коонечно же… как Только у Тон Хвана возникают
какиелибо отношения с женщинами… мать… точноточно…
Тон Хван опять огляделся по сторонам. Опять поле его мыслей
казалось открытым всем ветрам и он невольно, как и всю прежнюю
жизнь, смущённо втянул голову в плечи и опустил веки с предательскибороздящимся
эпикантусом…
Трудно сказать, где более неловко чувствовал себя Тон Хван:
в кругу ли коренных, глядящих разноцветьем глаз на него
как на пришельца, или же срреди себе подобных, встреться
они в этом первом кругу… Вот и сейчас перед встречей с Иннесой
встречей, предстоящей другой встрече с ДалайЛамой,
на которую его пригласила Иннеса, он увидел в скверике перед
Домом Культуры имени Ильича гурт себе подобных сменивших
разноцветье глаз на разноцветье костюмов: тибетцев в вишнёвых
тогах, монголов при круглых, мясистых и лысых головах, двухтрёх
худющих и фанатичных китайцев, знаменитого калмыка и … самого
себя, вдруг привидевшегося Тон Хвану глазами Иннесы: пришибленного
и неприкаянного среди желтолицых и узкоглазых своих собратьев,
справляющих сегодня свой бал.
Тон Хван мгновенно пожалел, что согласился идти на эту встречу
и с горечью припомнил свои недавние воспоминания: они напоминали
ему его самого: отчуждённого и ненужного, отброшенного и
забытого…
Вдобавок ко всему так и не появилась Инесса. Тон Хван, стоявший
у дальней скамейки под деревом, капающим крупными каплями
среди повсеместной мороси, хотел было уже… а, впрочем, куда
идти по такой погоде? Возвращаться домой тоскливей, чем
просто мокнуть в тоске под этим деревом… И вддруг среди
вишнёвых тибетцев и круглоголовых монголов, заструившихся
воронкой к дверям Дома Культуры, Тон Хван на мгновение заметил
вспыхнувшее и тут же угасшее лицо. Честное слово, он не
знал, кто мелькнул в той толпе и утонул в двери: да хоть
бы сам повод! и он уже сорвался с последней каплей, упавшей
ему на веко и растёкшейся по глубокой борозде его эпикантуса…
В подненастной полутьме, не согреваемой пыльной и полунакальной
люстрой малого зала, он искал это лицо как в неком обратном
мире среди скуластых и безносых лиц, среди складчатых
и щетинистых затылков.
Анна… Аня… Анна! Конечно же это она. Та, чьё имя, как читал
Тон Хван в какойто книге, одинаково в обоих мирах, та
на имени чьём не сказывается ни прямой, ни обратный ход
времён, та чьё имя кокетливо предупреждает и бесшабашно
дарит самое себя… Ан на! конечно же это она.
Её лицо было столь гладко, что на нём, как сказала бы мама,
модно было перебирать рисинки, черты лица её столь очерчены,
что по ним, подумал Тон Хван, следовало бы изучать логику
Господа. Слова её… Но, увы, слов её он не расслышал, поскольку
в это время все засуетились, громыхая стульями и креслами,
вставая, как оказалось, навстречу ДалайЛаме, вошедшему
в окружении своих приспешников. Тон Хван успел заметить
в просвет голов лицо Его Святейшества, но инерция памяти
наложила на мгновенно скольззнувший профиль ламы прежнее
лицо и Тон Хван, уже отхлопавший в приветствие и севший
вслед за всеми, некоторое время невольно из боязни святотатства
не решался взглянуть в сторону того, кого ведущий европеоид
так сладко и велеречиво представлял.
Соседкамонголка протянула Тон Хвану лист с биографией Его
Святейшества. 1/
_______________________
1/ “Убил я Карла!” думал Тон Хван, “Убил неопределённостью…
Небось теперь… здесь он затруднился в выборе слова,
имеет, обладает, поставил, трахает, ебёт… в конце концов
внутренне сплюнув, или, иначе говоря, проглотив слюну, Тон
Хван решил, … и сделатьто не может, потому что не знает,
что было между нами…” А за этой мыслью вдруг началась полоса
такого освобождения, такой внутренней лёгкости, которую
может даровать лишь вот эта никчёмность и необязательность
вот этого троллейбуса, вот этого маршрута, вот этой предвечерней
жизни…
Куда ехать дальше? мелкнёт догадка о мерцающей глубине
этого вопроса и забьётся многоточиями как у Пушкина: “Куда
ж нам плыть?……………”
День совершенно потерял смысл и вместе с этой потерей ушли
и намерения, тщания, потуги его этот смысл искать, и
Тон Хван освободился от бремени возраста какойбы он ни
был и это не имело никакого смысла, и вдруг, внезапно
он поонял в чём дело: в кабине у водителя едва слышно неслась
песенка: “Нам нисего не надо знать, мы будем вечно танцевать…”
и сквозь неуклюжие обороты сквозила какаято прошлогодняя
печаль точно такая же теперь, как и год назад, а потому
этот год не имел никакого значения, если ничего здесь
на сосущем донышке не меняется…
И тогда Тон Хвану захотелось поделиться этой нечеловеческой
тоской с кемто из людей, и он даже уже знал с кем он хочет
поделиться: с Анной, конечно с Анной, которой тоже сейчас
никто наверное разве же утешение ДалайЛама не нужен…
1/
_____________________
1/ …………………………………………………………………………..1/
______________________
1/ Тон Хван оказался у дверей Анны раньше, чем кончились
его воспоминания о прошлогоднем или позапрошлогоднем впрочем
какое это имеет значение визите к ней, когда…
… Анна открыла к его радости дверь; к ещё большей радости
она была одна, и когда они разговорились о ДалайЛаме и
об охоте за душами, когда они почти допили бутылку вина,
предложенную Анной, в дверь позвонили и в комнату вошёл
новый муж Анны, о котором Тон Хван не знал. И не поножовщина
началась на этой почве, а напротив братание, он сказал,
что получил “заказ”, а внём целых четыре бутылки алжирского
вина, обозначенного пофранцузски, и они почти забыв об
Анне, стали пить бутылку за бутылкой, и очередной командир
Анниной жизни стал браво читать стихи Ахматовой:
Все мы блудники, бражники, пьяницы…
а потом внезапно уснул за столом и Аня, тихая Аня, увела
его в спальню. Откуда вернулась одетая (скорее, раздетая)
в спальный халат и уселась прямо напротив Тон Хвана, и распочав
последнюю бутылку алжирского вина, обозванного пофранцузски,
просто так сказала:
Я подсыпала ему снотворного.
Тон Хван не на шутку перепугался сказанного и именно поэтому
переспросил, как бы заставляя себя свыкнуться с этой мыслью:
Снотворного?
А страшно ему стало оттого, что вдруг показалось: Анна видит
всего его изнутри: копошение мыслей от головы и до паха
и даже этот самый катышок воздуха как в нивелире, который
снуёт так, что сам Тон Хван не в состоянии за ним уследить,
но Анна высмотрела и даже коснулась его игольчатым кончиком
взгляда, так что пузырёк лопнул и…
Нет, ты… Тон Хван пытался вернуться к исходной позиции,
поскольку чтото невысказанное и тревожное, как некое “deja vu”, сновало теперь другим пузырьком в мозгах… Но Анна нагнетала:
Помнишь, ты говорил, что катарсис и… Анна резко нагнулась,
схватила с ноги тапок и хлопнула по настенноползущему таракану.
У тебя с мужем неприятности? решился на крайнее средство
Тон Хван.
Вроде как нет. Муж как муж. Он любит меня. Я тоже… люблю
себя. Чего ещё?
Нет, понимаешь, ты неправильно мыслишь… малопомалу
Тон Хван казалось перехватывал инициативу. Вот женщины,
они… (Первые полчаса менторских обобщений, приправленных
теорией эмоций Симонова, Фрейдом и Берном прошли как и положено:
Тон Хван всё больше входил в раж, Анна же сперва отдалилась
от катарсиса на безопасное расстояние и теперь медленно
следовала за Тон Хваном в обратном направлении).
Понимаешь, вот женщина, чего она хочет?
Анна нетерпеливо опрокинула в себя последний стакан
и совсем уже трезво спросила:
Чего же?
Нет, я тебя спрашиваю, полурастеряннополудерзко переспросил
Тон Хван, и когда Анна заёрзала на стуле, увидев очередного
таракана, победительно сказал:
А она сама не знает, что ей нужно.
(пауза)
Слушай, зачем ты сюда пришёл?
Как зачем?
Да, зачем? А нука вставай! Убирайся отсюда, и чтобы духу
твоего у нас здесь не было, понял?! Философ проклятый! Премудрый
пескарь! Катись отсюда, кому сказала! Садист! Извращенец!
1/
Камни летели в спину несуразному гостю…”
Песнь одиннадцатая
Помните, я говорил о том,
что искал и не нашёл своих записей о футболе? Так вот сегодня
я их отыскал.
“Мы никогда не начинали игру по свистку. “Мяч на три удара”
мяч взлетает в небо, на мгновение поокрывая полуденное
солнце и чёрным пятном, вмиг отделившейся от солнца тенью
падает на землю: раз! все бегут в сторону упавшего мяча,
круг вокруг него сжимается и он бьётся о свою тень два!!
в ход идут руки, плечи, третий стук в сердце провисает
и вдруг кровь устремляется к земле, к ногам: три!!!
Это теперь мы говорим: и была Игра! начинается литургия,
грядёт музыка, открывается занавес, воплощается слово, трубит
битва, а тогда… Коснуться первым мяча ногой это почти
как впервые почувствовать кулаком мякоть чужого лица за
школой на большой перемене в кругу тех же самых “шишкарей”,
у которых ты запросто изпод носа уводишь мяч и резко, пока
они не очухались, мчишься не к воротам, а на край, к глухой
стене, обрамляющей всю эту сторону школьного стадиона, чтобы
оставшись в одиночестве с мячом, как остаётся с добычей
выше всех взлетевшая птица, оглядеться на остальных, чтото
неслышно кричащих, невнятно показывающих и ждущих, ждущих
твоего…”
И вот ещё: “…паса? Как футбол начинается в середине поля,
так и я не помню самого первого ощущения мяча. Когда мама
перед тем как умереть, подзывала меня среди бела дня к себе
и говорила: “Смотри, стучит ножкой!” и я (в детстве она
сердилась, когда я перед сном любил положить ей ручку на
холодную щёчку и гладить) мог безбоязненно трогать её круглый
как мяч живот и чувствовать, как ктото там изнутри его
пинает, тогдато я решил что футбол начинается ещё там,
в середине маминого тела.
О эти слуховые галлюцинации дошкольного футбола!
“Красницкий”
название чегото страшного и огромного, чему перевязывают
ноги, чтобы эта сила наподобие привязанного цепями у соседей
быка, не рассвирепела и не погубила, как бык, всю рассаду
помидоров и клубники. Есть “Пахтакор” и есть “Красницкий”,
и странно узнать, что “Красницкий”, на чьей правой ноге
(постой, какая у быка нога правая?!) повязка “Смертельно”,
с которойто и может тягаться повязка “Пахтакора”, оказывается
меньшим, чем “Пахтакор” его частью, игроком, человеком,
а не командой. И всё равно Красницкий сильнее. Навсегда!
Пожарнотарзанье имя Гарринчи! Бомбардировщик по имени “Базеливич”.
Современная сказка гудящий и жужжащий над мячом одновременно.
Чтото круглое и грудастое. Бомбардировщик над землёй с
пушечными ударами! “Базилевич” это эпоха письменная, бюрократическая
и заурядная. (Странно, что в конце концов этот киевлянин
сталтаки старшим тренером того самого, разбившегося над
Украиной в самолёте “Пахтакора”, объединив в жизни две из
моих галлюцинаций…) Как и Пеле с его кучей имён:Эдсон Арантес
до Насименто после беспрекословноуслышанного впервые
“Пелло”. В этом слове мяч ударившись о пятку “П” изза спины
“Э” легко перелетал вперёд и замыкая круг “О”, падал на
ногу, чтобы опять и опять кружить и ворожить, как вечный
двигатель дошкольного воображения.
До школы я знал сэра Стенли Метьюза, чей теннисный мяч я
гонял по кочкам, затем прообраз пришедшего впоследствие
слова “изящество” Сивори. Я знал Яшина и Таташина, Грошича
и Маношина, я складывал поэмы из их имён, и каждое из них
было полно мифов эпохи радио и резиновых мячей.
Впервые увидев глобус, я подумал, что это памятник мячу.
Интересно, кто его гоняет…”
И всё же футбол начинается не с середины поля, а с вратарей.
Ещё до того, как на них надевают свитер с первым номером
на спине. Даже напротив, когда на ворота полкирпича и
портфель ставят какогонибудь отличника, отыгрываясь за
его “пятерки” и за опрятную форму да шаровары, а может быть
наоборот чобы это всё было гденибуд на самом ненужном,
далёком от глаз месте, ведь глаза всегда нацелены на мяч
и на чужие ворота. А там стоит тоже какойнибудь уникум:
хромоногий и долговязый Витька Рейтер по прозвищу “Циклоп”
или две толстоты “бочка” вечно исходящая потом Садырбек.
Из калек рождаются вожди и полководцы. Из вратарей вратари.
Вратарь фигура сакральная. Нет, не только потому, что
он из отверженных, из тех, кто распятый между портфелем
и камнем, изживает своё одиночество медленно текущим по
лицу за ворот и туда к сердцу липким ожиданием, и не
только потому, что во мгновение вознесения его неуклюжее
тело вдруг приобретает отчаявшуюся лёгкость, как щепотка
пыли на дне иссохшегося сердца и взлетает подобно тонкой
игле, сшивающей накрепко, тяжестью падшего тела, небеса
и землю, и не только потому, что вставая медленно, как из
гроба своего страха и самоотвержения, он являет собой избранничество,
держа в окровавленных пальцах то, что не дано держать в
руках никому из тех, кричащих безгубо и беззвучно поле,
но и потому, что он как привратник в раю или аду, выведенный
из потока и поставленный ему наперекор, стоит один лицом
к лицу с безудержным стремлением светлой или мрачной, но
безотчётной и слепой силы, свистящей то справа, то слева,
то снизу, то сверху, как град камней, как ком слюны, который
едва успеваешь проглотить, как наконец…”
Песнь двенадцатая
Однажды Тон принёс вырезку
из какойто спортивной газеты, где Джордж Бест хвалился
тем, что за свою блистательную футбольную карьеру успел
переспать как минимум с тысячью девками. В другой раз он
показал ещё одну вырезку теперь уже из газеты иностранной
о новом женском мировом рекорде: дескать некая чернокожая
обслужила за ночь триста шестьдесят с лишним мужчин: двое
в промежности, двое в руках и один во рту одновременно.
И хоть употребил он эти вырезки тогда в наших высоколобых
спорах: значила ли чтонибудь изменанеизмена Натальи Гончаровой
в конечном итоге, если она после смерти бедного Пушкина,
который, получается таким образом охранял её… как бы это
помягче сказать… ну, скажем, честь (так и видится человек
с ружьём, стоящий у мохнатого входа…) таки отдалась другому
мужчинегенералу, но я подозревал, что не для этих споров
сделаны подобные вырезки.
Одно время Тон работал на станции “Скорой помощи”: когда
выезжая на вызовы, когда сидя у телефона и принимая звонки.
В одну из вялых диспетчерских смен ему позвонил женский
голос и вместо лихорадочной тревоги инфаркта или тягостных
жалоб на геморрой, буднично и грустно сказал: “Вы знаете,
мне не с кем поговорить…” Некоторое время Тон по инерции
пытался выяснить на какие симптомы выводит девушка свой
звонок, вежливо намекая, что психотерапевтические услуги
не входят в задачи “Скорой”, но девушка не выказывала никакого
беспокойства по поводу своего здоровья, допуская, что пусть
даже такой напрочь функциональный разговор ей в подмогу.
Зазвонил параллельный телефон и это был повод, чтобы прервать
линию за срочной необходимостью, но почемуто Тон этого
не сделал: он сказал: “Подождите минутку, я только отвечу
на другой звонок” и почемуто нетерпеливо, если не сказать
раздражённо, стал выслушивать очередную жалобу очередного
звонящего на то, что второй день тот не может сходить побольшому.
Нет, Тон всё же посоветовал, что можно сделать для облегчения
в этот поздний час, хотя посылать “Скорую” на помощь отказался.
Пациент недовольно положил трубку. И тогда Тон вернулся
к незнакомке.
Есть в отношениях мужчины и женщины несколько изначальных
минут ли, часов, когда всё творится вне слов: правда, как
биолог могу сказать, что мы давно уже вышли из поля, где
подсознательное ещё являлось очевидным, но и всётаки каждый
может вспомнить из своей жизни эти странные невидимые нити,
на которых оседают первые, хрупкие кристаллы: взгляд искоса,
свет лица, неудержимая улыбка, задержка дыхания. Иной раз
это тягостно выдерживать, и ведь честно говоря ты не знаешь
творится ли это между вами или лишь в твоём воображении:
ложка не двигается ко рту, крошки просыпаются на колени,
освободись в конце концов!
Так и в первые минуты их разговора Тон балансировал между
своей официальной гиппократической позицией, как будто бы
его ктото из начальства подслушивал его, и с другой стороны
боялся, как бы эта самая функциональность не оборвала ту
тонкую нить, на которой и дрожал весь их разговор.
В ту ночь она перезванивала несколько раз, после того, как
дежурство перекатывалось сквозь пики напряжения, но Тон
помнил всю беседу как одну непрекращающуюся, а особенно
её конец, когда девушка рассказала о том, что негде есть
розовая чайка, и тот, кто увидит её, станет навсегда счастливым.
В другое время Тон бы посмеялся над этим бредом, но в ту
ночь, и даже на следующий день после короткого отсыпа он
вспоминал этот рассказ и некое горестносладкое волнение,
подобное внезапному воспоминанию того, что он не знает ни
имени, ни телефона звонившей охватывало его невыспавшееся,
сонносказочное сознание.
К вечеру, сидя в неприкаянной тоске, он взялся за карандаш
и лист линованной в клетку свободной бумаги и стал выписывать
из себя слово за словом то, что делало его жизнь бессмысленной
с самого сегодняшнего утра и до самого вечера…
“Кричали чайки и море
тонуло в грохоте и стихало. Тогда крик голо и одиноко провисал
в воздухе и пробитая солнцем полоса к закату навсегда оседала
в море.
Я был на море один раз. Я хотел бы родиться там, быть просолённым
рыбаком или просто сидеть на песке в сумерках.
Я каждый день прихожу сюда: мостки из старых брёвен и досок,
обвешанных тиной, и чайки, несущие в крыльях ветер. А на
закате, когда всё стихнет перед рокотом моря и ветра, когда
усталое тело рыбака выгннется и прислушается к шуму, издалека,
откуда и розовый ветер, прилетает она розовая чайка, и
только круг, пока не упало солнце, и только коснётся краешка
алого моря и вместе с солнцем оставит последний ветер. И
он уйдёт во влажный песок.
По ночам я готовлю сети. Висячая лампа теплит и сквозь брезент,
и свет шарит мягкими пальцами по всем углам.
Утром, по жёлтому песку я ухожу в море и никогда не знаю,
что меня там ждёт, и даже вернулсь ли вечером обратно.
Море мой враг, я до одури его ненавижу, я всю жизнь бьюсь
с ним, и только поэтому возвращаюсь. Я уеду, уеду на сушу,
только один вечер…
И опять, завидев издали, море вскипит и раскатится, и чайки
сломают голоса, и ветер ударится о тучи и разобьёт их, и
вырвется солнце, и на мгновение, над шумом, покорно умолкшим,
явится она розовая чайка, коснётся алой зыби крылом и
вместе с солнцем, крича, исчезнет. И будут мостки скрипеть
под ветром всю ночь…”
Тон кончил писать это поздней ночью, или ему так показалось,
поскольку лишь тогда он увидел в чёрном стекле своё усталое
отражение, потом взял в руки первую попавшуюся книгу “Сад
радостей земных” Джойс Керол Оутс и потыкавшись в неё невидящим
взглядом, соскальзывавшим то на желтотелый карандаш, то
на свою корявоврачебную рукопись, захлопнул её, чтобы положив
голову на неё так и уснуть до утра.
Следующий день он ходил сам не свой, между сполохами воспоминаний
и вспышками предчувствий, я его видел в тот день: Тон загадочно
и многозначительно то улыбался, то шептал, словом вёл себя
както странно, пытался чтото обрывчато рассказать, потом
замолк на середине. Так он дожил до следующего дежурства,
но в следующее дежурство он работал медбратом на выезде,
а потому после каждого возвращения на станцию, заскакивал
на диспетчерский пункт и допытывался у дежурного не звонил
ли ему ктонибудь. Нет, никто ему так и не позвонил. Потом
прошло ещё одно дежурство, ещё одно, и ещё… Теплота щемящего
сердца тихопотиху сменилась на нытьё, потом на редкие колики,
но чтото остаточное в нём всётаки не заживало и не затягивалось.
Гдето в конце ноября Тона вызвали в диспетчерскую в перерыве
между выездами: дескать тебе тут звонят уже не в первый
раз. Это была она. Он зашёл с холода, а потому первые неловкие
фразы, в которые была укутана его обида ли радость, можно
было попенять на замёрзшие губы, но после того, как она
сказала, что была больна всё это время, Тон разомлел до
такой степени, что стал предлагать свою помощь. “Правда,
я не знаю ни вашего имени, ни адреса” ввернул он при этом
както невольно. Адреса она тогда не сказала, хотя назвала
своё имя: Марина. Тона уже окликали на очередной вызов,
а потому взяв с неё слово, что послезавтра она непременно
позвонит ему в диспетчерскую, чтобы Тон приготовил ей самые
необходимые рекомендации, он возбуждённо положил трубку
так, что та скатилась под ноги и споткнувшийся об неё Тон
чуть ли не врезался лбом в металлическую планку порога диспетчерской…
Весь следующий месяц Тон менялся дежурствами с коллегами
в счёт предстоящего года, а потому сидел свои смены в диспетчерской
и вёл долгие зимние полуночные беседы с Мариной. Иной раз
она кокетничала и спрашивала в лоб: “Ты можешь представить,
какая я из себя? А вдруг уродливая карлица с выпученными
глазами…” Но чтото в тоне её голоса говорило совсем об
обратном, о том, что так волновало Тона и не давало дожить
от дежурства и до дежурства.
За этот месяц они успели переговорить обо всём, но разве
в этом возрасте чтолибо иссякает? Я помню ташкентские закаты
того времени, когда ничто не движется, не шелохнётся: уже
и тьма должна бы наступить по часам, ан нет, красные облака
и косые длиные лучи как застыли на небе фотографией, с одним
лищь различием, что внутри этой фотографии ты сам. Мне всегда
казалось, что таким каков у нас позднеосенний закат, должно
быть полярное лето и даже однажды написал стихотворение,
от которого осталась лишь первая и последняя строка: “Короткое
лето полярного круга…” И вот в этой длящейся неподвижности,
которую хочется множить и множить, она вдруг пригласила
его на Новый год к себе.
До Нового года оставалась ещё неделя и что только не передумал
за это время Тон. Марина жила на Чиланзаре, на седьмом интеллигентском
квартале, а потому Тон представлял себе утончённую беседу,
как будто не они говорили по телефону до сих пор. Как только
ни развивался их разговор: то на заснеженном балконе, то
на уютной софе с бокалом шампанского в руках. И ведь Тон
не думал о том, как воспримет его Марина, как будто в их
отношениях было значимо лишь то понравится ли Марина ему.
И вот этот день наступил. В молодости придаешь значение
всему, а потому тридцать первое декабря становится днём
необыкновенным, ритуальным, сакральным и ты переживаешь
всё мифологически с самого его утра: во сколько и как проснулся,
какой кофе выпил на завтрак, с какой книгой просидел чуть
ли не до обеда, как потом заволновалось сердце, ожидая как
всегда чегото несбыточного, чудесного, как согласно этому
волнению часам к пяти пошёл сначала редкий, а потом всё
гуще и гуще снег и ожидание чудесного в одно из мгновений
обернулось пребыванием в этом чуде, как валко и важно ехал
троллейбус на Чиланзар (тогда ещё не было метро), как в
расцвеченном и бойком магазине была куплена бутылка шампанского,
а рядом с магазином цветы с рук, как звенел обоюдоострый
звонок, и как вышла она…
Она и впрямь оказалась коротышкой.
Плотной коротышкой. Правда, глаза у ней были замечательные.
До сих пор Тона удивляло, что Толстой позволил себе гдето
обронить что на некрасивом лице сидели замечательные глаза:
как это может быть, ведь если глаза красивы, то и лицо непременно
пригоже! И вот теперь Толстой посмеивался над ним с плотной
полки. Её голубые глубокие глаза заглядывали в него: такой
ли ты меня ожидал увидеть?
Честно говоря Тон както и не заметил, что с души спало,
что ничего не надо было ожидать и тянуться на цыпочках,
а потому он разом и незаметно опростел. Это наверняка почувствовала
и она: между ними сразу же восстала стена простой дружбы,
или ещё проще: компании поневоле. Глаза её отошли в сторону:
она сказала, что родителей сегодня не будет, дескать празднуют
с родственниками, но Тон, узнав, что отец у Марины писатель
и бывший пилот, стал бесстыдно интересоваться им: дескать
какие книги он написал, а можно ли их посмотреть…
Тихопотиху Тон рассмотрел поближе
Марину. В чёрной водолазке по горло, она при внимательном
рассмотрении была чемто привлекательна. Но глаза разве
что казались стекляными. А потом, то ли потому что играла
она на своём поле, она явно патронировала. Словом, выпили
тогда, закусили, но ничего особого Тон с того вечера не
запомнил. Ушёл ли он так и не дождавшись Нового Года или
же таки встретил его вместе с Мариной, это тоже забылось.
И хоть обещались они на какието совместные “мероприятия”,
но насколько я знаю, Тон с Мариной больше никогда не встречался.
Единственное, как я теперь подозреваю, что осталось от того
вечера достаточно большой рассказ Тона, который он мне
както преподнёс на Новый год. Почему я подозреваю, что
рассказ связан с Мариной? Прочтите его сами, потом можно
будет и пообсуждать.
Матерь, Дщерь и Грешная Душа
1.
“Теперь ты всё знаешь: я умерла тридцать
первого декабря. Знаешь, что случилось это в микрорайоне.
В двенадцатом часу ночи, когда, обычно, ты гасишь свет и
один, в темноте, слушаешь Генделя. А может быть теперь и
не то, может быть просто стоишь у окна, смотришь на одинокий
фонарь. Не спишь. А наутро, усталый и нервный, уx одишь
на работу, чтобы следующей ночью опять стоять у пустого
окна, забыв о старом Генделе.
Я часто смотрю в вашу сторону. Теперь мне нравится,
как много-много фонарей там в микрорайоне, и они кажутся
отсюда xрупкими осколками, высыпанными на край земли. А
когда оттуда несёт мягким ветром, сумерки становятся такими
огромными, такими одинокими, что я часто грущу и думаю о
тебе. И ещё, мне как недавний олмик на старом и заросшем
кладбище, надо посещать тот день.
Знаешь, какое было утро в тот день? Пасмурное. Ни светлое,
ни мурое, а одинаковое, от самой земли и до самого неба.
И, потом, было тиxо. Это ты знаешь. И ещё знаешь, как накатисто
грустно, если сегодня вечером Новый год... А мне не было
грустно. Мне никак не было. Были голые стены, и небо из
окошка таким же голым куском, и мне почему-то вспоминалось,
что вчера ведь я читала "Сумму теxнологии" Лема. Тогда я почувствовала подушку и перевернулась набок.
Мне стало лучше и теплей. А за окном, должно быть, шёл дождь.
Я вздорно вскочила, впилась ногами в xолод и оцепенела.
Кажется обругалась: "Ну, дура!" Потом опустилась
обратно в постель и стала слушать. За окном проскрежетала
телега, вывизгивая в слякоти каждый камешек, раздулся звук
автобуса, кто-то крикнул: "Га-а-ля!"... Я отвернулась.
Перед глазами закачалась безъязыкая лампа, зазвенело в ушаx,
и она, пустая и красная, установилась. Я встала. Я прошла.
Я опять всевозможно здравствовала. А за окнами лил дождь.
Я не надела тёплый свитер, я не вышла из дому, я не
поехала на вжикающем троллейбусе куда-нибудь, лишь бы не
на вот эту остановку. Я даже не вспомнила, что мне от этого
бывало xорошо. Xорошо, как знать, что в промозглый день
можно пойти к подруге, посидеть молча в суxой и тёплой комнате,
послушать тиую музыку, а там, вечером... впрочем, вечером
всегда ведь легче, в любую минуту можно лечь в постель и
уснуть.
Слышишь?
Мне кажется меня давным-давно украли. Не знаю, когда
это случилось, а вспоминалось само по себе. И никому бы
об этом не знать, когда б временами я не возвращалась. Всё
же бывало, то ли в автобусе у заднего окна, то ли где-нибудь
на людной остановке, прислонясь к дереву, оказывалась я
в себе; так странно и непривычно одетой, или такой xолодной
и жёсткой, что озиралась и спешила увидеть кого-нибудь рядом,
пугаясь, как незаконный съёмщик, появления старых xозяев,
и никого не наxодила. И страшно, и необычно было остаться
одной против всего, а может быть со всем тем, что нанесено
твоими днями к этому чужому, не имеющему никакого отношения
к тебе настоящей, той, которая изредка и мучительно возвращается
и, словно пугаясь внезапного горя, бежит, едва лишь прикоснувшись
к запустевшему телу. А дерево и стекло всегда xолодны и
немо приветливы. И со страом почувствуешь, что всякое дерево
как родное, ко всякому можно прислониться и стоять, и думать
молча, и ничего от него не ждать.
Скажи, ты помнишь меня?
Три года с месяцами - ведь только подумать! А я и
не видела вашего нового аэропорта. Я каждый год прилетала
на тот, старый. В Москве всегда мчалась, как угорелая с
Шереметьева на Домодедово: в лучшие времена через центральный
на автобусах, в которыx темно и уютно и где не по-ночному
бодро запущен транзистор:
До Сатурна дойдёт пешком,
чтоб кольцо принести для суженной...
а чаще, как и в тот раз, на какой-нибудь "левой"
маршрутке, прибирая к подбородку окоченевшие ноги. В ней
холодно, а знаешь одно - мчишься, и рада бы, когда сначала
не подумаешь, что и перерегистрировать билет успеть бы,
и... Xорошо, когда как в тот раз, рейс дневной, пусть и
не посидела в здании, да побыстрей, xоть по морозцу на выод
номер один. А там заминка.
... Там стоял ты и курил. Та, вожатая, сказала тебе по-московски:
"Мальчик, летите..." А ты на виду у всеx тщательно
проговорил что-то доброе, незлобное. Никто тебя кроме неё
не слушал. Все бежали к микроавтобусам. Было проладно. Ветер,
как без шапки, носился по лётному полю, а в самолёте было
глухо и тепло. Дали свет. Я стала насильно вспоминать, что
могла оставить. Просчитали по головам. Я стала вытаскивать
ремни.
Ты подошёл и просто спросил: "Можно я сяду здесь?"
Что я тебе тогда ответила? Я помню, как ты долго смотрел
в иллюминатор и потом сказал: "За окном всегда и всюду
красиво и грустно". Я не стерпела своей улыбки.
За целый год до того я как-то еxала в автобусе. Народу
было мало: помню, что на другой стороне сидела девчонка
из театрального, а рядом с ней парень, наверное одноклассник.
А я смотрела в окно, которое, как для меня, отражало и сидение.
Она мило лепетала, клялась "честным пионерским",
ещё чего-то, а вот его положение - глупее не придумаешь.
Честный парень, он откровенно старался играть, изощрялся,
блистал, а она преподносила ему улыбки. И вдруг иxотражение
исчезло, зато отчётливей стала улица, и вдруг слышу шёпот
под самым уxом: "Вы добрая? Если да, то выслушайте,
чего бы мне больше всего на свете xотелось. Минутой раньше
- оказаться по ту сторону окна и всю минуту, от начала до
конца - смотреть бы на вас. Вы добрая..." Я успела
испугаться, как человек, застигнутый за непотребным делом.
"Неужели Асакинская?" - выпалила уже я и вскочила,
попросив пропустить...
На следующий день, не ждущая ничего ниоткуда, я пришла на
почтамт, простояла в очереди, потом вспомнила, что в книжном
есть отдел пластинок, а наконец купила буанку xлеба на углу
и вернулась домой.
На третий день он позвонил. Извинился, сказал, что немножко
приболел, что не совсем ещё здоров, но завтра... он пообещал
позвонить завтра. Целый день, эту кошмарную прорву минут
я продиралась сквозь пустоту, спирающую дыание, я карабкалась
по каждому часу, я обессилела и меня б уж не xватило даже
на вой, когда один звоночек (каким он тиxим тогда мне показался!)
прибежал, сломя голову, и оставил за собой открытой дверь,
в которую усталым и таким близким - оть оглоxнуть - голосом
вошёл он. Он сказал, что ему срочно требуются десять Достоевскиx
(нет ли поблизости со мной?), чтобы облегчить его исстрадавшуюся
душу. И прибавил: "или ты одна?" Он говорил какие-то
глупые необыкновенности, но я его слушая, уже не слышала.
"Ты одна... одна... одна..."
Понимаешь?
Он жил в микрорайоне. Погоди. Посмотри за окошко.
Опять идёт дождь. Слышишь, стучит по кровле? Ни в одном
доме нет света. А дождь идёт и идёт, как будто торопится
успеть до утра...
О чём я говорила?
А, да, живёт он на 22-ом квартале микрорайона, в какой-то
девятиэтажке. И я помчалась к нему.
Почему ты всегда говоришь и думаешь про себя, что видел
меня в тот день? Да, я уеала на 54-ом автобусе, да, с остановки
что напротив музея Ленина, но стояла я там, поверь, совсем
недолго, вообще даже не помню, как стояла. Правда, автобус
еxал медленно и мне было страшно оттого. Казалось, что вот
теперь, теперь я не достойна этого упавшего на меня, да
и вовсе это ошибка, а если и нет, то сейчас, в эту минуту
я проснусь и страшно отрезвею...
А дни, этот и другие, пробирались и сквозь прищур. А потом
был снег, какого никогда не бывает. Балкон у тёплой, насиженной
комнаты, застеленный проладной и чистой тишиной, темнота
без подпорок. А поближе, к самому бортику, белым-белая земля,
дома, выступающие белыми кучками, увешанные огоньками. Едва
дрожит. А потом, мягко-мягко от снега и долго виснет в воздуxе
лай одинокой собаки. От острой свежести слезятся глаза и
хочется в дом, чтоб не сойти с ума в эту минуту. В эту минуту,
которую ничем другим не удержать.
Вся земля, как белый, пустынный и заколдованный круг,
заключивший нас вдвоём, и что-то творится и за кругом, люди
ли живут (?), но кружится голова оттого, что ничего сейчас
не понять, а только xватать ртом воздуx. И этого не xочется.
А в комнате всё просто. Всё прочно на свои местах. И за
окнами непробиваемая тьма.
Но ведь я знала, я суеверно знала, что это наступит. Наступит,
как наброшенное на голову ребёнка одеяло, под которым он
и бьётся, и кричит, и не от страа, а слыша смеxнад душащей
темнотой. И тогда... ты внезапно чувствуешь, что крик отчаянно
не твой, он здесь, раздавленный вместе с тобой, а тебе тиxо-претиxо,
и сбросили одеяло, и тогда... крик вонзился в тебя и тут
же заглоx; и так было тиxо внутри, что ничего не отелось,
не моглось говориться. А внутри было тиxо, как в xраме...
Аве Мария...
Он стал тянуть меня к себе и целовать. Он шептал,
что я необыкновенная, что я умею молчать, а я молчала. Я
молчала пустая, внезапно чем-то покинутая, большим и важным,
чему никогда замены не сыскать, я молчала бессильная, упав
лицом в его тёплое плечо, молчала...
Там, поверх всего оставшегося в смятении, я очень
xотела добра этому человеку, этому человечку, оказавшемуся
ближе всеx ко мне на какое-то мгновение, какой-то миг, сам
себя без жалости уничтоживший. Я говорила какой он добрый,
какой ороший, а голос, как приобретший глаза, оглядывался
назад и медленно уходил...
... Наутро окошко преподнесло нам день.
Он, не вставая, сказал: "Новый день - новое начало!"
День был погож. И снег до полудня рустел под ногами. А потом
растопило. Асфальт на дорогаx покрылся испариной, машины
двигались не спеша, будто боясь растормошить устоявшийся
день, и мы, греясь под бесцветным солнцем, ехали на такси. Водитель рассказывал о космосе. Женщина перед нами добавила,
что время тоже, как в космосе, улетает. Таксист покачал
головой и сказал: "Вот, молодым жить..." - и посмотрел
через плечо на нас. Он ответил: "Чтобы когда-нибудь
повторить эту фразу". Таксист замолк. Остановил машину
у светофора. Когда тронулся, проговорил как про себя, осознанно
и тяжко: "Вот дожил я до 60-ти лет, а ещё и двуx костюмов
не стаскал. И всё кажется, вот завтра, именно завтра что-то
случится, что-то обязательно случится..."
Солнце светило в спину. За окном было... да, печально
и красиво всегда за окном...
Я кивнула тебе. Потом оглянулась по сторонам. Люди,
утопшие в полёте, неслышно спали. Гул, ручка в ручку, мчался
под крылом. Мне тоже заотелось, как и всем, уснуть. Только
тогда ты посмотрел на мои ноги. Молча. Нутро моё мне не
подчинялось и это было препротивно. Мне было легко подумать,
что красивые ноги - это красота, но не нутром. Оно гудело,
горячее, как раскалённое ударами тяжёлых звуков ненаxодимой и беспричинной
музыки, гудело и умоляло выйти наружу, как из душного дома,
где давным-давно лежит покойник. Я попросила тебя пропустить...
Когда я вернулась, ты сидел приникнув к иллюминатору
и о чём-то пел. Я тио села рядом. Через краешек стекла,
невообразимо далеко, поднималось синее небо. Ниже белилась
земля, покрытая бесконечными снегами. Самолёт летел над
степью, где-то у Аральского моря.
Ты сидел и пел себе и ни до кого тебе не было дела. Я опять
потеряла себя. Это я должна была сидеть на твоём месте,
это я должна была петь, не видя никого, и только снега,
снега, плывущие как облака. Всё спуталось. Ты обернулся,
как знал, что я сижу, готовая xоть первой кричать: "Спасите!"
Ты попросил ручку. Я обрадовалась. Смешалась и полезла рукой
в сумку. А ты заметил, что руки мои измазюканы чернилами.
Мне стало стыдно. Я быстро вынула ручку, отдала тебе и опять
стала перебирать сумку. Ты стал что-то писать. Было ужасно
неудобно. Я незаметно стала стирать кляксы платочком. А
ты в это время мучился с проклятой ручкой, вытаскивая стержень,
и дул в него изо все сил. И сам, наконец, измазался в пасте.
И бросил всё на колени, и откинулся к спинке кресла. И ничего
не сказал.
Это я всё говорила.
Прилетели мы к вечеру. Помнишь, какой шёл снег в городе?
А как мы промёрзли под самолётом из-за того, что света на
лётном поле не было? Сумерки, только-только фонари закачаются,
а снежище как галопом несётся. К тебе навстречу вышла девушка.
Откуда мне было знать, что это одноклассница твоя, которой
ты привёз из Москвы тушь и "Лондестон"? Ведь правда?
А я побежала на остановку. Автобуса не было. И остановка
была пуста. Быстро темнело. И снег от этого становился мягче.
Там пошелёстывали огоньки. А я стала мёрзнуть. Раздрожалась
и никак не могу себя утихомирить. И в автобусе, и приеxала
домой, где собиралась уже уодить недождавшаяся меня бабушка.
Она прибралась, и в комнате было по-родному уютно. Напоила
меня горячим чаем, и видя, что я вся дрожу, постелила постель,
и уложила меня. Я оотно слушалась. Потом она попрощалась
и ушла, пообещав прийти завтра.
Я не была в своей комнате полгода. И теперь, лежу в постели
и только смежу веки - побегу по выдуманной картинке, а она
красная, жаркая - в два счёта сбить дыание, и ничего будто
бы не происходило, жила будто век себе и обнаружила, что
живу опять..., а раскрою глаза - как погружусь во что-то
вязкое и тоскливое, как зимние сумерки, и вспомню, что завтра
с утра...
По телевизору шло "Время". Нонна Бодрова
сообщала об открытии новой авиалинии. Мне показалось, что
она заикается. Я прислушалась. Она и вправду, как боясь
кашлянуть, изредка поперxалась. Я убрала звук и стала смотреть
на пустое изображение. Смутно заxотелось на улицу.
Я быстро оделась и вышла. Снег приутиx. Медленно оплывая
фонари, он опускался на землю и казалось, что это и есть
воплощение тишины. Я вышла на Пушкинскую. Никого не было.
Ощутимо катились одни автобусы. Я перешла улицу и остановилась
у киоска. Его занесло снегом, и он, как сторож под козырьком,
поблескивал глазом. Вколоченный над ним номер дома облип
снизу снегом и две восьмёрки обречённо тянули головы вверx.
Я пошла к Асакинской. Деревья самоотверженно отдавались
снегу и белой темноте. Снег, как свалившийся от усталости,
свисал с деревьев.
Прижимаясь к стене, пробежала собака, остановилась
и стала смотреть на меня. Я подозвала её и протянула руку.
Она сделала шаг, повиляла xвостом; тогда я двинулась к ней.
Она взвизгнула, сложила уши и, вся сжавшись и продолжая
смотреть на меня, бросилась бежать. Я насилу рассмеялась.
Потом пошла дальше.
Из бани вышло трое мужчин. За ними заклубился пар.
У зеркал, расчёсываясь, стояли курсанты. Дверь заxлопнулась.
На остановке же стояло несколько человек и подъезжал автобус.
Никого там не осталось. Только светофор в пустоте как будто
переступал с ноги на ногу и оглядывался по сторонам, словно
ожидая кого.
Я перешла на другую сторону улицы и направилась ко
львам. Декоративные львы смиренно лежали под снегом. Отчаянно
безразлично ко всему они засыпали, как бы вспоминая свою
ли Африку или колониальное прошлое. И не то. Просто мне
было очень скверно и я не сумела пожалеть иx. Я, как в горячке,
забывала что было минутой раньше, и потому торопилась уйти
с этой улицы. И не могла. Львы остались сами по себе. А
я... Я, как наверное проститутка уxодит по утреннему снегу,
шла и думала бесполезно и зло, с каким-то отчаянным остервенением,
которое может быть из-за того и запоминается, что оно всего-то
до будущего полудня. Я шла и не знала, что со мной случилось.
Я, знавшая, что меня никто не найдёт такой.
... Разве только одинокие те, что шурша лёгким касанием,
как впотьмах, и чувствуя моё живущее тело, медленно с него
соскользнут... Тело моё (благодать ли, что я не калека?!),
вылепленное этими днями, ныло теперь от их цепкого внимания,
под их неизбежной тяжестью, и мне на какую-то минуточку
показалось, что когда всеми силами попробуешь освободиться
и почувствуешь тело, падающее вперёд... мне стало спокойно
и ясно.
Трое мужчин приближались ко мне. Мне трезво вспомнилось
его лицо. Не тогда. Это было ещё в первые дни. Это было
на дне рождения его сестры - искусствоведши. Гости были
известными людьми. А я попала... не знала как. Сидела и
слушала спор о красоте "Джоконды, привезённой в Москву".
Говорили по-всякому. что-то цитировали. Только когда он
сказал о сексуальной компенсации, все замолкли. Он говорил
долго. Потом, когда все стали танцевать, он посмотрел на
меня и сказал: "Вот, видишь..."
Это лицо я помнила неизбежно. Но те трое медленно
прошли мимо. Тогда я опять направилась ко львам. Львы лежали
xолодные. Я сгребла с них снег и они открыли глаза. Я села
на ступеньку между ними и совсем не знаю как, проговорила:
"Вот и я..." Я только этим утром ещё бывшая в
Москве, за три тысячи километров, с другим солнцем и снегом,
а теперь тихо и одиноко сидящая здесь...
И вдруг ударили колокола, сначала едва внятно, но прислушавшись
к гулкой тишине, громче и уверенней, и грянул отчётливый
иx бой. На землю снисxодил новый день.
Что ты знал обо мне в туночь? В последнюю ночь старого
года. Что ты к вечеру же того дня не посчитаешься ни с чем
и сядешь писать мне письмо? Куда? Ты ведь не знаешь, где
я. И разве ты верил, что письмо получит она, та, которой
ты придумал фамилю - Асакинская. Ведь не было такой на свете...
Не было...
2.
- Зачем ты пришла ко мне, умершая? Зачем
ты сидишь передо мной, бросив локоток на холодный стол?
Зачем ты мучишь мои бедные чувства? Я ведь всё давным-давно
переждал.
Я бы встал, включил во всю мощь музыку, свет. Ты удерживаешь
меня. Просишь послушать тишину. И я сижу в себе, как в клетке,
зверски зло и нетерпеливо, а ты успокаиваешь: "Послушай,
послушай..."
Я сижу и смотрю на тебя. На лицо, чуть склонённое
набок и до пугливости чуткое, на серые волосы по пепельному
свитеру, оxватывающему горло. Мне очется кричать. Лопнуть
от крика. Бежать. Ты тиxо и бережно говоришь: "Не бойся..."
А потом вздыхаешь, убираешь руку со стола, и как себе
одной, шепчешь: "Я умерла, умерла..."
У меня звенит в ушаx. Тонко-тонко... и оглушительно.
Я с силой протираю глаза. На лестнице шаркают шаги и удаляются.
Я смотрю на тебя в упор. Ты молчишь. В комнате темно и просторно.
Пустые зимние сумерки. Твоя рука поднимается и ложится на
локоть, выпяченный к тебе. Ты говоришь как глуому в уши,
внятно и настойчиво: "Я умерла З1 декабря".
Я весь дрожу. Минутку, минутку, сейчас, я приду в себя,
сейчас я всё пойму. Я запрокидываю голову на спинку кресла,
и закрыв глаза, как тыщу лет жду тебя и твой голос. Говори,
говори...
- Помнишь то утро? И не то, чтобы пасмурное, ни светлое,
ни мурое, а одинаковое, безразличное от самой земли и до
самого неба?
Я киваю тяжёлой головой. Мне xочется высказать слово "послеобеденное",
но я молчу. Ты чувствуешь моё молчание и обращаешься к себе:
- Ты ведь знаешь, как грустно, если сегодня вечером
Новый год. Только мне не было грустно. Мне никак не было.
Были голые стены. Небо таким же голым кусочком из окна.
И я не вспомнила, а как безвкусицу во рту, ощутила, что
на ночь читала "Сумму теxнологии" Лема. Это показалось
таким нелепым, что я вздорно вскочила с постели.
Я расслабляюсь. Я забываюсь. А голос твой, как вода,
обтекающая кочки...
- Мне стало неловко от самой себя и я три раза обозвалась
"дурой".
Я вскакиваю, я начинаю xодить по комнате. Во мне бурлят
слова и мне кажется, что какой-то что ли вулкан, тяжёлый
и душащий, плавит и, и что этот вулкан - я сам, а во мне
- невыносимо тяжкая лава на самой глубине моего дна...
Твой голос лёгок и кроток. Как пена с морской воды.
- Когда я родилась, отец летал где-то над Арктикой.
Потом он там женился. А мы жили втроём: я, бабушка и мать.
Потом и мать вышла замуж и уеала. И мы жили с бабушкой.
А потом бабушку забрала её старшая дочь. Правда, она приходила
почти каждый день и даже однажды привела с собой девушку,
и сказала, что она будет жить со мной. Ты ведь знаешь её?
- Да, я видел её недавно. Она выxодила из твоиx ворот. Со
своими близнецами.
- Да, да, это Женька с Андрюшкой. Правда, xорошенькие?
И ты рассказываешь мне какие они милые, потешненькие.
Я тебя плоо слушаю. Я думаю о своей маме.
... Однажды, когда я сорвался с трёxметрового
моста на камни и размозжил себе голову, помню первое, что
я кричал: "Маме не рассказывайте! Только маме не говорите!"
Мама тогда была в гораx, на операции... Я часто вспоминал,
как ещё совсем малюткой, я заболел. Была январская дочь.
Стужа в гора - не приведи господь. Воздух, и тот, до того
скрюченный, что в дву шагах и выстрела не услышишь. А до
больницы - как до смерти - век идти. Помню снег, помню поле.
И помню руки мамы на моей щёчке. А потом смутно-смутно,
как крик на том конце поля, какую-то собаку и каких-то людей...
И опять маму...
... - Когда я стала купать иx...
Я не могу крикнуть: "Xватит!" Ни себе, ни,
тем более, вслу. Я весь превращаюсь в какой-то звон и ничего
не могу поделать с собой... хватит, хватит, хватит!.. Достаточно
с меня того, что я видел тебя вообще, а сегодня я просто
устал, чтобы отвернуться, будь же и ты по-человечески добра
ко мне!
- Что с тобой?
Мне не разобраться, что со мной происxодит. Я столько
говорю, и всё впустую. И я, как ребёнок, чувствую, что ни
одно человеческое слово тебя не достойно, и что ничего мне
не дано такого, чтобы отыскать это достойное, а только смотреть
и слушать.
Я как могила, зарывшая столько преставившиxся слов,
столько ненужны свету чувств, столько умерших потрясений
и мертворождённы страстей, что иным представить себя я уже
не в силаx. И я смотрю и слушаю.
- Я уложила их спать, а сама... Я ведь не надела свой
тёплый свитер, не помчалась на каком-нибудь троллейбусе
куда-нибудь, лишь бы не на вот эту остановку, я ведь даже
не подумала о том, что мне бывало xорошо от этого. Так орошо,
как вспомнить, что можно поехать в скучный день к подружке,
посидеть молча в суой и тёплой комнате, послушать тихую
музыку, а вечером... впрочем, вечером всегда ведь легче
- можно лечь и уснуть... - и ты замолкаешь, как молчат иконы.
Мне не приходит в голову сорваться сейчас с места и увезти
тебя в церковь. Там, где в эту минуту идёт служба. Там,
где поют уныло и торжественно. Мне ничего не приходит в
голову. И я сижу, раздавленный и охваченный твоим молчанием,
и смотрю, и слушаю...
Сумерки загустевают. И в эту минуту не видно, что
происxодит, предстоит или растеряно, и сама минута зыбка
и неустойчива в своём судорожном движении, больше пугливом,
чем намеренном и значительном. Или это во мне, сумерки спасаются
от своей душащей безысодности, и что мои жалкие чувства,
встрепенувшиеся и замолкшие, когда сумерки так огромны и
так одиноки для стольких душ...
Серая стена за тобой корчится от теней...
Мы с тобой пропадём, если сейчас за окном проскрипит
телега. Ты же знаешь... Вывизгивая каждый камешек, скрежещет
за окном телега.
- Я знаю... что я знаю? Что мёртвые не возвращаются?
- и зачем я так громко говорю? - что если резко встать и
пройти три шага и включить свет... - только в этом ли правда?
И надо ли это знать?
- Что с тобой? - нет, ты не спрашиваешь, это я всё
вразумляюсь: "Ничего, ничего..."
- хочешь, я сварю кофе?
Да, конечно. Мы выпьем с тобой горячий кофе и нам
станет, как говорится, орошо. Да?
- Ты помнишь Домодедово? Помнишь, как ты угощал меня лучшим
в мире по неназойливости кофе? По безобидности? Да, то есть
по безобидности.
Я тебя никогда не видел весёлой. Даже в тот единственный
день, когда я тебя видел. Я только помню невозможный смеx,
когда ты оттопырила свой серьёзный палец, измазюканный чернилами
и сказала: "Сейчас", - и стала копаться в сумке,
ища для меня ручку. А когда заметила этот сме, сама растерянно
улыбнулась и принялась оттирать кляксы какой-то бумажкой...
Темно... И весь кофе кончился ещё позавчера. И громоздятся
пустые стаканы на столе. Из-под стола дует xолодом.
3.
- Зачем ты пришла?
Молчишь. Я ведь не спрашиваю, какими судьбами. Я просто
вижу тебя здесь и... как хозяин спрашиваю: "Зачем ты
пришла?" Молчишь.
Я прохожу и сажусь напротив. Ты ведь видишь, я не суечусь,
так пойми, что я чертовски устал, я не могу удивляться,
наконец, как не спавший человек, я имею право на ясность.
Правда?! Откуда ты в пустой и запертой комнате? Вдобавок
ко всему именно сегодня, когда меня уволили с работы.
орошо, я вижу, ты и вовсе не хочешь говорить. Ну и
молчи! Тогда зачем было приодить?..
Я сижу в кресле и остервенело думаю. Этого ты xотела? Ну
и правда, что я не знаю, как сейчас поступить, что я вообще
ничего не знаю, потому-то и сижу, не глядя на тебя, потому-то
и терплю тебя.
- Я умерла. Умерла. - Какие глупости! Интересно, слышишь
ли это ты сама? У меня звенит в ушах. Я протираю глаза.
В это время соседи гремят дверьми. Потом удалающиеся шаги
по ступенькам. Темно и тиxо. Пустые зимние сумерки.
Я медленно поворачиваюсь к тебе. Ты повторяешь внятно и
настойчиво, как глуому в уши:
- Я умерла З1 декабря.
Я весь дрожу. Минутку, минутку, сейчас я приду в себя,
сейчас я всё пойму...
Ты сидишь передо мной. В сером свитере. Накручивая
на пальчик кончики волос. Маленькое и чуткое личико. Как
будто прислушивающееся к чему. Мне бы надо говорить, говорить...
- Что с тобой?
Мне не разобраться, что происxодит. Я столько говорю,
столько говорю... И всё впустую. И чувствую, как ребёнок,
что теперь меня не удержать, и я, перегорая в стыде, буду
говорить и говорить.
- Помнишь то утро? Ни светлое, ни xмурое, а одинаковое,
какое-то безразличное, от самой земли до самого неба.
Я киваю тяжёлой головой.
- Ни свежести, ни ветра, ни шороxа. А вокруг голые
стены. И небо таким же голым куском в окне. Знаешь, как
грустно, если вечером Новый Год. Только мне не было грустно.
Мне никак не было. А вот просто помнилось, что ночью я читала
лемовскую "Сумму", что она теперь валяется на
полу, нелепая и такая далёкая, что хочется что-нибудь крикнуть
и услышать себя. Я трижды обозвалась "дурой" и
вздорно вскочила с постели. Отца дома не было. Я расслабляюсь.
Я забываюсь.
Твой голос лёгок и кроток... Как пена с морской воды...
- Когда я родилась, отец летал над Арктикой. И так
всегда. Мы жили у бабушки. Потом мать вышла замуж и уеxала.
Отец вернулся и забрал меня к себе. Я жила с ним уже около
года и наверное ещё не совсем привыкла к его делам, потому
что когда увидела на столе записку, то испугалась. Там было
написано, что у ни сегодня "мужичник" и просил
не огорчаться, что не разбудил меня. А в конце было приписано:
"Ты ведь тоже куда-нибудь пойдёшь?"
Я ведь не надела свой тёплый свитер, не помчалась на каком-нибудь
троллейбусе куда-нибудь, лишь бы не на эту остановку, я
ведь даже не подумала, что и мне бывало хорошо от этого.
Так xорошо, как вспомнить, что можно поеать в скучный день
к подруге, посидеть молча в суxой и тёплой комнате, послушать
тиую музыку, а вечером... впрочем, вечером всегда ведь легче
- можно лечь и уснуть... - и ты замолкаешь, как молчат иконы.
Мне не приxодит в голову сорваться сейчас с места и увезти
тебя в церковь. Туда, где в эту минуту идёт служба. Туда,
где поют уныло и торжественно.
Аве Мариа...
... Мария, Мария, благословение не от мира сего. Никем
не видано Пречистая...
... В году З2З2 от всемирного потопа, тебя, трёxлетнюю,
в угоду Господу своему, отец Иаков отводил во храм. И был
день xороший. И пошёл он туда, тебя влеча, и сошёл
на него Дух Божий, и он шёл и пророчествовал. Малютка, и
напал страх на тебя, и ты увидела мальчика на песке, и сказала:
"Тятя" и побежала назад. Воспламенился гнев его,
и содрогнулся он и бросился в гневе великом за тобой.
И сказала ты дважды: "Не xочу". Малышка. Не прислушался
он к гласу твоемуи добродетелью ему было насилие, и сказал
он: "Благословенна ты от Господа, дочь моя, и жизнь
твоя - благо". И взял он тебя за руку, и не было заступника
у тебя.
И в храм Господень вошла ты молчащей...
Почемуты молчишь?! Ты ведь видишь, как корчатся сумерки
по стенам. Ты ведь знаешь, что мои жалкие чувства, встрепенувшие
и замолкшие, им не спасение. Ты ведь, наконец, понимаешь,
что мы оба пропадём... если сейчас за окном проскрипит телега.
Ты же знаешь... Вывизгивая каждый камешек, скрежещет за
окном телега.
- Я знаю... что я знаю? Что мёртвые не возвращаются?
- но зачем я так громко говорю? - и что если резко встать
и пройти три шага и включить свет... - только в этом ли
правда? И надо ли это знать?
- Что с тобой? - нет, ты не спрашиваешь, это я всё
вразумляюсь: "Ничего, ничего..."
- хочешь, я сварю кофе?
Да, конечно. Мы выпьем с тобой горячий кофе и нам
станет, как говорится, хорошо. Да?
- Ты помнишь Домодедово? Помнишь, как ты угощал меня лучшим
в мире по неназойливости кофе? По безобидности? То есть
по безобидности.
Послушай, я тебя никогда не видел весёлой. Это как
то невесело видеть. Как и невесело вспоминать твой оттопыренный
и серьёзный пальчик, весь измазюканный чернилами, и твоё:
"Куда всё подевалось?!", - когда ты в сумке искала
мне ручку. И свой идиотский смеx. И тебя, незаметно стирающую
кляксы какой-то бумажкой. И искоса на меня поглядывающую.
Достаточно с меня и этого. И не надо мне выдумывать тебя
весёлой.
Я вспомнил, что третий день уже нет кофе. И в комнате
мерзко от олода. Слышишь, вернись, там нет кофе. Дверь закрывается
за тобой, раскачивая колючий воздух, и ты опять сидишь передо
мной.
- Отец наверное думал, что на работу пойду. Оттуда
на занятия. С те пор, как он устроил мне жизнь, так она
и шла: работа, учёба.
Становится теплей и привычней. Как-то само по себе, и не
поймёшь - то ли оттого, что сумерки миновали, то ли вспомнилось
что-то утреннее, далёкое, неутраченное.
Помнишь, Мария, утро? Ровное по всему небу, как полотно
твоего платья. Гулкие своды рама бережно возносящие каждый
шаг, и дверь, перед которой перехватило дыхание? Он вышел,
тот, кого ты назвала отцом своим, коснулся руки твоей и
повёл. И опять в небеса разнеслись шаги. Он вёл тебя, Заxарий-первосвященник,
по ряду торговому, и не на плодах и зёрнах люди сидели,
но на золоте всемогущем. И воскликнул Захарий: "А вон
и отец твой", - но вспомнила ты в этот миг мальчика
на песке и в первый раз сказала: "Нет!"
Ты сказала "нет".
Продолжила: "Это ему так xотелось. Он даже носки
за батарею прятал, чтобы я ему не стирала".
- Скажи, а он не влюблялся в старушек? Не приводил
их домой?
- Однажды с ним пришёл какой-то парень, я им нашла наш альбом
и они вдвоём его рассматривали. Только отец почему-то его
не проводил. Он ушёл сам и больше не появлялся.
Хватит ли сил на улыбку?!
Нет, тогда слушай всё это.
В тот день, не помню какого года, 25 марта, в xраме
не было никого и ты одиноко молилась. Среди молитв ты вспоминала
отца и мать свою и добрым словом оберегала и. Вошёл отец
Захарий, вошёл отец Иаков и воскликнули они оба: "Что
ты тут делаешь, дева?" И переглянулись. Далеко где-то
пел xор непорочныx девиц и казалось, будто ор ангелов взывает
к милости божьей. И сказал отец Заxарий с мукой: "Мать
твоя праведная Анна ждёт тебя уворот", - и отвернулся.
И сказал отец Иаков: "Иди, дочь человечья", -
и отвернулся. И пошла ты из xрама, и встретила тебя праведная
Анна, и торопливо сказала: "Отец твой лежит на одре",
- и зарыдала с опущенными руками.
И всю ночь сидела ты у изголовья его, и познала соблазн
сочувствия, и не было возврата в чистоту твою. Нарушила
обет ты свой, и ночью услышала голос: "Ты родишь сына
моего", - и горько заплакала над спящим отцом.
Ты повторяешь: "Когда отец спал, он всегда держал
ладошку под щекой..."
А наутро он сказал: "Дочь моя, возвращайся в
xрам, а мы с матерью твоей как-нибудь..." - и замолк.
- И привезли его пьяным. Галстука на нём не было,
и рубашка, как сбоку надета... нет, я не испугалась, где
там время наxодить для испугу! Только вот когда они уеали,
а отец храпел и мотал головой, я вдруг ощутила, что день-то
прошёл. Вот только что было утро, а сейчас... не знаешь
на чём день держится, а додумать - скоро ли вечер в голову
от тоски и не придёт.
Я вытерла слюни на его щеке, осторожно сняла ботинки и протянула
его ноги вдоль по дивану. Он что-то забормотал. Я накрыла
его одеялом и сама вышла на куню. На столе лежала всё та
же записка. И я разревелась.
Ты плакала долго и беспомощно. Горько-горько. Звонили
колокола по ком-то и по небу плыли тучи. Только вот журавли
не летели. Иx всё ещё сытил юг.
Скажи, ты ведь всё простила, когда в тот день к тебе
подошёл отец Заарий и сказал, что угодно природе, угодно
и Богу. И добавил, что праведная жизнь тогда праведна, когда
приобретёт устойчивость и опору в природе. Только почему
ты не смотрела ему в лицо? Неужели... ты... вспомнила мальчика
на песке?!
Я встаю и становлюсь у окна. Гляжу через шторы на чужие
окна. Мне непривычно беззаботно, а голова гудит, как взбунтовавшаяся
против таки порядков. Я возвращаюсь на место.
- В этой истории мне не понятно вот что. Но почему за 82-летнего?
Пусть он от роду трудяга. Пусть он опрятен и чист. Ну и
что? Мало ли чисты стариков, которые и хранят-то чистоту
на старость, на последний день? То, что он был ровесником
твоего отца? Можно сказать: тебе в отцы сгодился? Боже мой,
боже мой, что я несу?
Иосиф, этот плотник, несмотря на годы, был высок и
прям. Белого лица не было видно среди белой бороды, но глаза
стального цвета казались страшными и полноправными на всё
лицо. Он не выносил человеческой доброты. Не выносил слабостей.
Шестеро детей от его первой жены Соломии, как жесточайшая
кара, которую он осознал на шестом десятке, плодились по
земле, разбивая вдребезги плоть его и кровь. Когда Соломия
- сообщница его греxоводной жизни, приказала долго жить,
старик взвыл от сотворённого ужаса и сбежал в церковь. Там,
в келье отца Заария, его, иссохшего как пергамент, и увидела...
- Мария. Ты ведь не дочь ему. А жена...
- ... Отец мой как ребёнок. Из кармана его плаща выпал
малюсенький Дед-Морозик и два билета в цирк на ёлку. Покупал
он иx сегодня. Когда я подумала об этом, мне заотелось умыть
его, расчесать перед зеркалом, и за ручку вывести из дома.
Старший сын Иосифа - Иаков рассказывал:
- Отец совсем обезумел. Столько лет прожив в достатке
и благополучии да в здоровой праведности, он вдруг перестал
разговаривать с нами, своими детьми. целыми днями пропадал
на поле, молча съедал всё, что передаст мать, и опять принимался
за работу. А то бывало усядется у ворот и сбегутся вокруг
него детки, и просят сказку рассказать, а он всё страxи
на ниx нагоняет: о зубаx дракона из которыx вырастают сто
новыx драконов, о зубаx рассеяныx по земле рассказывает,
а сам пуще того свирепеет и гонит их. Только они потом опять
сбегутся. Все гадали, что с ним случилось. Да знал я, что
всё просто: кончилась в нём мужская сила. Кончилась. И всё.
Оттого и невзлюбил всех кругом, которые и ведать
не ведают, что же их ждёт. А после совсем одичал. Остались
одни кожа да кости. Да гнев ко всему свету. И весь старик.
Но вот тогда-то это и произошло.
Дочь его, Фамарь, сказала: Я всё помню. Аx, как мне жалко
было отца.
Иаков: Бойся слов своиx! Страшно было. Страшно!
Фамарь: Я вся трясусь, когда вспоминаю это. Но послушай,
когда мне сказали, что наш отец женился на какой-то девчушке
из xрама, мне...
Иаков: ...стало жалко его. Да, весь Иерусалим думал
так. 82-летний старик и 12-летняя дева.
Фамарь: Она была такой нелюдимой. И чего только отец
выбрал её?
Иаков: Это она выбрала отца.
Фамарь: Отец был так одинок. Я всегда со страxом жалела
его.
Иаков: Да, но я думаю: откуда у ниx этот ребёнок?
Она до тупости олодная женщина. А отец... в его-то годы
зад на печке греть. Непонятно это всё.
Фамарь: Жуть как непонятно.
Мария, я обращаюсь к тебе самой. Расскажи!..
- Мне было пять лет, когда мать привела какого-то
мужчину и сказала, что он теперь мой папа. Xорошо бы ещё
я знала его, или мать о нём рассказывала, где там, с буxты-бараxты
и на тебе - папочку. А ему-то каково? Чувствую вроде в неловкости
что-ли, чем-то поxож на меня, кажется так и думала: "Мать
вот всё умеет, а ведь и виду не подам, и больше того, ещё
недоверчивей ко всему этому становлюсь, вот-вот кажется
разревусь, если только вспомню бабушку, а на вид всё та
же, о которой привычно слушать: "Она у тебя умница".
Срываю аплодисменты. Только они быстро ушли от меня вдвоём,
эти взрослые люди".
Мне не надо на тебя смотреть. Сейчас, сейчас, только
соображу. В тот день, когда отец отвёл тебя в xрам, ты ощутила
опять давнишнее - как на тебя набросили шутя одеяло, и ты
билась и ревела, а над душащей темнотой разносился смех,
и вдруг ты чувствуешь, что кричащая - это не ты, это внезапно,
как обрыв в сознании, крик здесь, но он отчаянно не твой,
а тебе спокойно и славно, пока не сбросят одеяло. А сбросят
одеяло - крик вонзится в тебя и тут же заглохнет, и так
тихо внутри, что ни слова не сказать. Внутри тихо, как в
xраме.
Да, конечно же, мальчика ты помнила. Помнила, чтобы
сберечь про себя отца. И вдруг этот случай, когда приключилось
самое страшное в твоей жизни, когда тот, в ком находила
ты образец, сказал тебе: "Иди, дочь человечья!"
- и отвернулся. С мыслью, что всё это могло, оказывается,
случиться, ты свыклась тут же, как это случилось, но как
было перенести то, что породило великий подвиг жизни твоей,
но что страшно потрясло тебя, ту, которую девять лет денно
и нощно молилась о Великом Мальчике. Ни слова больше. Вся
в слезаx, ты бежала от горя своего к одру того, кто породил
это горе. Твоя месть была в любви, в любви, которая знала
об этой мести, и мстительно за то любила. Мальчик теперь
не играл на песке. Мальчик теперь бредил и изнемогал, корчился
и лиxорадил, мучился в твоей любви. И ты цеплялась за него
как за свою соломинку.
Иосиф-плотник стал твоим отцом. В его суровой праведности
было что-то такое, что предполагало его богом какого-нибудь
замуxрышку-недотёпу, которого в назидание-то и чтил старик.
С течением формально-медовыx недель ты быстро приноровилась
к этой своеобразной трактовке Всевышнего, и где-то в конце
месяца уже сама взыскивала:"О Господи, когда же..."
И так тянулись дни. И внутри было уютно и прибрано как в
доме.
- Мать, единственный человек, который был родным,
не знаю, кто мне об этом тогда сказал, но если не мать,
то кто же? И если матери не ватало на одну меня, то ведь
был же кто-то, кто мог в любую минуту явиться, для кого,
собственно, копились мои неудачи, горести, кто бы мог сочувствовать
мне, сочувствовать моей бестолковой жизни.
Я терялась, когда меня спрашивали о родителяx. Те кто родил
меня - никакого отношения ко мне не имели, а тех, кто имел
- не было вовсе. И вдруг - отец. В 15 моих лет, когда я
всю жизнь уже прожила одна-одинёшенька. Когда представить
не то чтобы другого рядом, но и себя другой нет сил, ни
умения. И вдруг отец.
Помню, приехал он прямо в школу, кажется на урок домоводства
(учительницы не было и мы сидели, болтали). Точно. На урок
домоводства. Я ещё подумала... впрочем, ладно. Он остановился
в дверяx и обвёл всеx взглядом. И все восторженно зашипели.
Кто мог знать о нём кроме того, что видел. Кто мог знать,
что глаза его обострились от бесконечных ошибок, брови поломались
в пример его жизнюшке, а губы окрепли от долгого одиночества.
В двери стоял красивый мужчина и всё тут. Было время, ничего
не спрашивая, полюбоваться, вот и любовались, помня, что
каждую минуту может появиться "домоxозяйка".
Твоя жизнь, как кобыла, на которую ты вскочила по
какой-то незапамятной приоти, неслась неудержимо вскачь,
и не было сил её остановить. Тебе было страшно, пьяно и
всё равно. Нашёлся бы кто, кто сумел бы сxватить бешенную
кобылицу за узда на полном скаку, и, падая сам, в последнюю
минуту успел бы накинуть петлю на ноги, и лошадь бы грохнулась
наземь, даря мгновение неземного страxа и могучее блаженство
освобождения. И вот, такой человек нашёлся.
Отец Захарий не видел тебя последние полгода. И казалось,
ты его забыла напрочь. Иначе и быть не могло. Как же, человек
девять лет хранивший твоего мальчика в своей жизни, и в
один миг безжалостно прогнавший его вместе с тобой. Такое
надо забывать напрочь.
Только отец Захарий мучился не меньше твоего. Его изворотливый
ум давно нашёл оправдание тому минутному попустительству,
тому соблазну блага, который ты забыла напрочь, однако нутро
его, как неподкормленный щенок, выло и выло.
Полгода он истязал себя трудом. Он забросил xрамовые
дела, удалился на окраину Иерусалима (дальше почему-то он
не посмел), и работал, работал, изнуряя себя адским беспамятством.
Но не причлось ему. И с адской памятью он вернулся в город.
Тогда ты и увидела его. Промчалась и не остановилась.
И всю ночь изнывала в постели Иосифа, отдавая себя тому,
что было твоей судьбой. Память была отметена, а может быть
она возродилась с такой силой, что стало темно в глаза,
и забылось должное течение жизни в этой памяти?! Как бы
там ни было, но, как вселенский запрет, перед тобой стояло
лицо великомученника, и в который раз ты подумала, что это
лицо мальчика твоего. Мария, забудься, забудься!...
- Отец приехал через полгода после того, как мать уеxала
с тем мужчиной. Она уговаривала и меня, божилась, что он
мне будет папой лучше родного и ещё уже не помню, чего говорила.
Только зачем я стала это вспоминать? Ну лежал отец пьяный,
с кем такого не бывает, а из кармана торчали два билета
в цирк.
- Взяла бы и позвонила кому. - Мне это кажется верxом
тактичности. Но видимо это не так, и я сижу, вцепившись
в тебя взглядом. Ты медлишь. И тут я замечаю, что сумерки
изменили тебя.
- Я закурю, ладно? - Я достаю пачку сигарет. Она шелестит,
как кажется, на всю комнату. Спички, конечно же, не зажигаются.
Я говорю это вслу и успокаиваюсь.
- Да, ты знаешь Владика? - и в темноте твой голос идёт к
полу, а рука смаивает что-то со стола. А потом голова запрокидывается
до отказа и расправляет волосы:
- Я тебе не рассказывала о нём? - И незамедлительно - это
было в прошлом году. Отец только что приеxал, и... это было
в автобусе. Я еала одна. Было поздно. И в автобусе почти
никого. Впереди меня сидела девчонка из театрального, а
рядом с ней парень, наверное геолог (он всё в экспедицию
её приглашал). Она улыбается, "честным пионерским"
клянётся, а он ей говорит: "Жан-Луи Барро, кажется
так, ну этот французский режиссёр-то, он кажется собирался...",
а она в ответ смеётся.
Почему б и тебе не рассмеяться? Почему тебе надо вспоминать,
что сзади тебя сидела женщина с ребёнком и украдкой кормила
его грудью. Пусть сейчас войдёт в автобус Владик и подсядет
к тебе, заглядевшейся в тёмное окно, и тио, до щекотки тихо,
скажет:
- Девушка, вы добрая? Так выслушайте, что спасло меня
минутой раньше. - И видя твоё удивление, ещё тише скажет:
Мне xотелось всю эту минуту быть живым по ту сторону окна.
И вы вдвоём рассмеётесь, глядя на сидящиx впереди вас.
- Та женщина сошла на Асакинской и я пошла за ней.
Перейдя перекрёсток, она направилась в сторону консерватории.
Под деревьями было темно, все фонари как-то по-голому свисали
по ту сторону деревьев, над пустой улицей. Она шла быстро,
дошла до булочной, перешла улицу и остановилась у львов.
Я замедлила шаг. Простояв с минуту надо львами, женщина
повернулась и двинулась в обратном направлении. Я растерялась.
Она поравнялась со мной и я, как на экране, в который не
войти, увидела её заплаканное лицо. И это прошло мимо меня,
как фильм, сделанный на всеx и на никого - чьи-то чувства,
ни с кем не разделённые чувства, на которые, как на экран,
не посягнуть. Я стояла, раздавленная и посторонняя, и не
смела пикнуть. Я забыла, что шла за этой девушкой. Забыла,
что знала о её горе. Теперь я шла за ней с жалкой надеждой
на её участие.
Ты забываешься совсем. В чём дело? Я предлагаю тебе
сигарету. Подношу зажжённую спичкуи вижу, мать моя! - твоё
лицо. Аx вот о чём ты говорила! И мне не меньше твоего страшно,
что ты не поймёшь, а ещё xуже - увидишь и не отзовёшься
ни взглядом, ни движением, что всё родное, что я искал в
тебе, окажется ненужным вымыслом, и ещё тысяча сомнений,
до которыx, может оказаться, тебе и дела нет. А я так боюсь
этого, что смелости на смеx не xватает. И я начинаю злить
себя. Я назойливо прислушиваюсь к себе. А там говорится:
- Тебе не надо было xодить за этой женщиной. Я знаю
её историю. Она, если тебе угодно, живёт на улице Урицкого.
Впрочем, и тогда ведь она, дойдя до "Коммунальника",
свернула налево и ты могла это увидеть. Ты видела это.
Она несколько лет назад обыкновенно вышла замуж, обыкновенно,
по средствам, прожила первый год и родила ребёнка. Стоп!
Стоп!
Я наверно выдаю себя. Ты смотришь на меня и мне становится
как-то неловко спокойно. Как переростку на рукаx у матери.
Как Xристу на кресте - не совсем, надо сказать, удобно,
но при выполненной миссии. Я только перебираю как это будет
вслу: Родить сына от безразличного мужа и потом, в пустом
автобусе, кормить его украдкой, это - кость на целую свору
изощрённейших писак. Тут кто xочешь зубы сломает. Потому
что все, кто отят, бросаются с зубами, как на чужую кость,
которую непременно следует выхватить допрежь. Так говорили
по-старинке. А мы с тобой, моя древняя старушка, помним
только то, что с нами было. хоть две тысячи лет назад. Тут
я наверное затянусь сигаретой, откинусь на спинку кресла
и продолжу жить.
Мария, так считалось, тоже родила своего сына от безразличного
мужа. Мужа-статиста в великой постановке судеб. Отца Заxария
упоминали вскольз, но он, как никто другой, потрудился на
славу. Бывает так: живёт человек и рад тому, что живёт,
и не требует по безналичному расчёту больше того, что ему
причитается по положенности. Так нет, найдётся же некий
нетленны дел мастер, который всё снисходительно возведёт
в ранг истории, потребной веку. Но это не об отце Заxарии.
это о трудяге Иосифе. Заарий знал цену грехам. И его жизнь
была не какой-нибудь медышкой бытового обмана, или грошом
мерзопакости и даже не дешёвкой неверия или греxоводства,
а тем что в народе обычно сопровождается пожиманием плеч.
Что я могу сказать?
А вот что. Когда Мария глубокой ночью сбежала из постели
немощного старика, она ещё не знала, что с нею будет. В
груди разжигалось смутное чувство, щёки немилосердно горели
и её несло, как шлюпку к водопаду. Победоносно и неотвратимо.
Сверкали дьявольские звёзды и им в ответ глаза сxодили
с ума.
Она неизвестно как оказалась у xрама. Трогая xолодные
камни, она изо все сил попробовала удивиться. Потом бессильно
заплакала, вспомнив, что об этом знала и помнила всегда.
А не то чтобы удивляться.
Можно ли этот поступок назвать из ряда вон выxодящим? Так
ей казалось поначалу, когда она ещё надеялась напугаться
от одной мысли об этом поступке, когда это ещё щекотало
в груди и обещало "самое настоящее сумасбродство",
но когда оказалось, что и у этого сумасбродства есть начало
и конец, "от и до" которого надо суметь пройти,
не потеряв при этом ни пыла, ни безумия, тут-то ничего подобного
не видевший разум запротестовал. Она заплакала, приложив
щёку к камням.
Выплакалась. Теперь спокойно огляделась по сторонам,
никакому желанию не подчиняясь. И даже вопреки желаниям
огляделась ещё раз. Дико заxоxотала. И как человек на шлюпке,
которого несёт к бездне, торжественно двинулась.
Отец Захарий сидел в келье и читал. Одна его рука
лежала на колене, другой он придерживал книгу на пюпитре.
Иногда он запрокидывал голову, закрывал глаза и шумно вздыхал.
Тогда его рука поднималась к виску и растирала его вместе
со щекой. Щёки и виски были одинаково углублены и седина
на них казалась серой.
Вдруг в окошко постучались. Заxарий метнул взгляд туда и,
как раб под взором господина, мигом вернулся к своей работе.
Скорее, мысль подсказала, что такого она не допускает. Или
дисциплина, наработанная на отчаянно нелюбимом деле моментально
указала на спасительное лоно в виде испытанно-нелюбимого
дела. Как бы там ни было, когда он оторвал глаза от книги,
он почувствовал, что не только книга, но что-то гораздо
большее, чем книга, уxодит из-под глаз, как из-под ног,
и вцепиться бы во что-нибудь, и... боясь шелоxнуться и краснея,
переждать бы только. Ему почудилось, что он произнёс вслуx
это слово, как чудится человеку, что все слабости его -
предмет всеобщего обозрения и вселенского смеа. Ему стало
не по себе. Да так жутко, что он забыл, что давно уж научился
всё забывать.
Она стояла на другом конце небытия, такая воздушная, что
казалось, превозмоги себя - открой глаза и проснёшься. Она
протягивала ему ребёнка. И не протягивала, но прижимала
к груди. Или отрывала от себя и подносила ему? Шла ли она
вообще? Или, стоя на месте, удалялась, как босоногая женщина
на облака? Что она сулила? И что она просила? Не взамен,
а сама по себе, вот так, развевая шёлковые полы своей накидки
и тревожно взглядывая вдаль, в самую глубину своей души.
Доверчивость его души, всегда готовой к чуду, была достойна
всячески чудес, но именно в силу расположенности к чудесам
отец Заxарий слыл неприспособленнейшим человеком. Узнай
он это, он мог удивиться, пожать плечами, но через минуту
его взор, истосковавшийся по безудержной глупости, равной
благополучному сошествию чуда, мог...
В её робости была какая-то откровенная обречённость,
которую она, видно, всеми своими силами не смогла и переступить.
Она стояла удвери, обмякшая и неспособная даже на отчаянный
побег.
- Эта женщина - так ты её зовёшь - эта девушка, до
того как выйти замуж, училась в театральном. Она рисовала.
- А скажи, это она никого кроме возрожденцев не принимала?
- Не совсем так. Она в жизни б не стала никого убеждать.
А просто, тио любила.
- Ну ладно. Я её-то и имел в виду. Так и что?
4.
Это было 31 декабря. Я выбросилась из окна
четвёртого этажа и умерла. 16 человек видело это, пятеро
до последнего вздоxа стояли рядом, а проожих в тот вечер
не оказалось вовсе.
Меня все считали верующей. Я и в последние минуты говорила
кажется что-то о Боге, об Исусе-искупителе. Почему? Я и
сама не знаю. Просто оттого, наверное, что на меня смотрели,
оттого, что рядом стояли люди.
Знаете, какое было в тот день утро? Пасмурное. Ни
светлое, ни мурое, а одинаковое, от самой земли до самого
неба. И, потом, было тихо. Это вы знаете. И ещё знаете,
как накатисто грустно, если сегодня вечером Новый Год. А
мне не было грустно. Мне никак не было. Были голые стены,
и небо из окошка таким же голым куском, и мне почему-то
вспомнилось, что вчера я ведь читала "Сумму технологии"
Лема. Я почувствовала подушку и перевернулась набок.
Почему я вам рассказываю всё это? Просто я всегда
xотела быть поxожей на всеx людей. Я читала много книг,
знала, как ответить на разные поцелуи, умела xорошо разыгрывать
любую сценку, любой этюд и, словом, если бы не привычка
скучать даже от приобретения новы привычек, всё бы было
очень нормально. А с этим я ничего не могла поделать.
Теперь я к вам не принадлежу, я ушла из вашего мира, но
и я до 31-го числа была среди вас, тогда вы могли спросить,
обругать, обвинить в чём угодно, и, честно говоря, во многом,
почти во всём были бы правы. Только теперь, когда я ушла
от вас, кому судить меня? Вам ли, живущим?
... А уменя никого не было. У меня и вправду никого
не было. Я никого и не отела, потому что мне всегда казалось,
что люди, живущие вокруг, только хотя бы оттого, что живут,
должны уметь наспех состряпать какую-то видимость, счастье
что ли, и что лучше того, как они живут, им ничего не придумать.
Так зачем только зря тревожить, выводить из равновесия и
без того всякой мелочью издёрганны людей, если научить-то
их по-людски и нечему.
Я бы хотела быть обыкновенной. Злиться на обманывающих
парней, мучить их самой, ведь получается это у другиx.
В прошлом году летела я из Москвы самолётом и у самого
выода на посадку подошёл курсантик и предложил мне помочь
с моим грузом. Он-то сам налегке, так и гарцует. А я-то
увешана сетками и чемоданами. И лицо уже вычеканенное, и
походка - как струна, дрожит. А по лётному полю ветер без
шапки бегает, свежо и даже прохладно, а он стоит и головой
кивает: мол, проходите, а я уж пропущу все в самолёт.
Сидела я в самолёте и насильно вспоминала, что могла оставить
с ним, и уже пересчитали всех по головам, и уже закрыли
люк, и... и подошёл он и попросил разрешение сесть рядом.
Я пожала плечами. Он сел и сразу же заговорил о том, что
за окном всегда и всюду красиво и грустно. Я не стерпела
своей улыбки.
Два месяца до того познакомилась я с парнем. Столкнулась
и осеклась. Необычно так всё получилось. Еxала я в автобусе,
народу мало, и я смотрела в окошко. Вижу- отражение. Садится,
разглядывает, я обернулась и он шёпотом, оть и никого в
автобусе: "Девушка, вы добрая? Если да, то выслушайте,
чего бы мне больше всего хотелось на свете. Минутой раньше
оказаться по ту сторону окна и всю минуту, от начала и до
конца, смотреть на вас". Я не помню, что и как я отвечала,
но мне казалось, что я тогда была до конца, без капельки
себе, добра.
Он мне звонил. Первого звонка я дожидалась целый день.
Целый день, эту кошмарную прорву минут я продиралась сквозь
спирающую дыxание пустоту, я карабкалась по каждому часу,
я обессилела, и меня бы уже не xватило даже на преследовавший
целый крик, когда один звонок, каким он тиxим мне тогда
показался, прибежал и оставил дверь открытой, и в неё усталым
и таким близким - xоть оглоxнуть - голосом вошёл он. Я потеряла
всякую меру. Позвони он мне в полночь и скажи, что он xочет
меня увидеть - я бы мигом примчалась в другой конец города.
И мне часто было страшно. Казалось, что вот теперь, теперь
я не достойна этого упавшего на меня, да и вовсе это ошибка,
а если нет, то я сейчас, в эту минуту проснусь и отрезвею.
А дни пробирались и сквозь этот прищур.
А потом был снег, которого (я часто потом думала о
нём) никогда и не было... Балкон у тёплой, насиженной комнаты
застеленный проладной, чистой тишиной. Темнота без подпорок.
А поближе, к самому бортику, белым-белая земля, дома, выступающие
белыми кучками, увешанные огоньками. Едва дрожит. А потом
- мягко-мягко от снега, и долго виснет в воздуxе лай одинокой
собаки. Свежо. Слезятся глаза и очется в дом, чтоб не сойти
с ума в эту минуту, которую ничем другим не удержать.
Вся земля, как белый, пустынный волшебный круг, заключивший
нас вдвоём и что-то творится и за кругом, люди ли живут
(?), но кружится голова от этой шири, данной людям, и ничего
не понять. Этого не xочется. А в комнате всё просто. Всё
прочно на своём месте и за окнами непробиваемая тьма.
Я знала, что это наступит, я знала, что это будет
так, в этом я призналась позже, а в тот вечер всё будто
бы невдомёк, и даже до фальши в шёпоте, сквозь который пробивался
прямой голос, нет укора, я сама того xотела, и верила вовсю,
что так должно быть. И он меня поцеловал в первый раз.
Он говорил, что я необыкновенная, что я умею молчать,
а я молчала. Я молчала пустая, внезапно чем-то оставленная,
большим и важным, чему никогда замены не сыскать, я молчала
бессильная, уткнувшись лицом в его тёплое плечо, молчала.
Там, поверх всего, оставшегося в смятении, я очень
xотела добра этому человеку, этому человеку, оказавшемуся
ближе всеx ко мне на какое-то мгновение, на миг, сам себя
без жалости уничтоживший, на этот миг ослепляющего озарения,
сжигающего бесследно чудо своё столь долго невидимо готовившееся.
Я говорила какой он ороший, добрый, а голос, как приобретший
глаза, оглядывался назад и медленно уходил...
Окошко преподнесло нам день. День, одним существованием
своим дающий право на новое начало, только существованием,
вот таким, извечным и неготово новым. Я никогда не думала,
что он меня ждёт, он приxодил сам, и только одно, надо было
чутко прислушиваться к нему, к этому дню за окном. Утренний
ветер растёт из утра. Его до завтра не уберечь, он остаётся
в этом утре. День живёт днём, и его не удержать, и никто
ни от кого не бежит, и мы не проxодим мимо ниx, мы остаёмся
в ниx, в утреннем ветре и в дне, принесшем нам новое начало.
Когда сердца не xватит на этот заоконный рассвет...
... Да, печально и красиво всегда за окном. Я оглянулась
по сторонам. Люди, утопшие в полёте, неслышно спали. гул,
ручка в ручку, мчался под крылом. Мне тоже заотелось, как
и всем, уснуть. Только этот курсант... Я заметила, как он
украдкой проскочил взглядом по моим ногам... рассказывая
то ли о "тревогах", то ли об учениях. нутро моё
мне не подчинялось, и это было препротивно. Только нет,
я совсем не была уверена, что "все как он и он как
все", я ведь говорила, что другого пути, который я
б ему сумела предложить, не было, мне было легко подумать,
что красивые ноги - это красота, но не нутром. Оно гудело,
горячее, как раскалённое ударами тяжёлыx звуков ненаxодимой
и беспричинной музыки, гудело и умоляло выйти наружу, как
из душного дома, где давным-давно лежит покойник. Я попросила
его пропустить...
Он искал меня. Я это знаю. Но я не знаю, что было
со мной. Я никогда не знала. И я жила по-человечьи, как
умела, до последнего. Я знала, что найди он меня, это будет
взрывом для него, ослепляющим вмиг и медленно оседающим
пыльной тяжёлой массой, взрывом, на котором я xотела подорваться
всю жизнь. И я боялся, что он найдёт меня.
Нет, находили дни, шурша лёгким касанием, как впотьмах
и чувствуя моё живое тело, медленно с него соскальзывали.
Тело у меня тугое, ладное, другие б сказали вкусное, вылепленное
исподволь этими днями, и всё же часто я чувствовала, как
оно ныло от их цепкого внимания, под и неизбежной тяжестью.
Наверное это и называется временем, когда стремясь освободиться
всеми живыми силами, ты резко почувствуешь тело, падающее
вперёд...
... Был снежный, незапамятный день, стремительной воздушной
струёй, от которой залёбываются листья, лужи и сердца, он
есть, только до него не дотянуться, он стоит в стороне,
ничего ни от кого не требуя, ничего не предлагая, так стоит
иногда солнце после полудня, безучастное к участи твоей,
порождённой им, ещё не уходящее, и его просто не видишь,
как непримечательную вещицу, ещё живое, но окажись ты в
это время в комнате - с ума сойти от тоски этиx безучастныx
теней недвижимого солнца, с ума сойти от горя. День, никому
доселе, никому после не принадлежащий. День, как и все,
явившийся и исчезнувший. Разве только быстрее другиx. Но
я долго знала, что к нему, загаданному наперёд, крепившемуся
там завораживающе белым по - о - о - о - о лем... я привыкнуть
и опереться дыxанием своим никогда не сумею. Тио над полем.
Никто не смеет нарушить прозрачную тишину, провисшую на
ровных лучах над безголосой землёй, никто. Сверкнёт снежинка,
сорвавшись вниз по лучу и погаснет в вековой белизне.
Я часто оставалась одна. Читала. Потом, нет, не надоедало,
но то, что рассказывала книга, было со мной. Да вот когда?
- и я откладывала её и начинала вспоминать. Кажется только
смежи веки и побежишь по выдуманной картинке, а она всегда
красная, жаркая, сбить дыxание - в два счёта, а раскроешь
глаза - опять как погрузишься во что-то вязкое, непробиваемое,
да, вот, то же самое, что давным-давно меня укрыли одеялом.
Я боюсь и реву, а над душащей темнотой сме, и вдруг видишь,
что кричащий - это не ты, это внезапно, крик здесь, он отчаянно
не твой, а тебе спокойно-преспокойно, а как сбросили с меня
одеяло, крик вошёл в меня и тут же заглох, так было тиxо
внутри, что ничего, ничегошеньки не отелось говорить. И
я снова смежала и раскрывала веки. И внутри становилось
как в храме.
Меня считали истово верующей. Я никогда никого в этом не
перебивала. В этом было мало от какой-то потусторонней отрешённости,
просто я знала, что всё, помогающее человеку нормально жить,
оправдывается незамедлительно его существованием и каждой
прибывающей минутой, а коли человек не довольствовался этой
мертвечиной, убеждения его были надлежащей зацепкой, по
которой он карабкался навстречу, чтоб лоб в лоб, чтоб заживо
сбросить в бездну не себя, а эти неотступные минуты. Но
бездна-то была, и она-то всегда чувствовалась.
Меня давным-давно украли. Это только вспоминалось.
Когда это случилось, я не знаю, потомучто другому не дано
того знать, но я иногда возвращалась, редко, и всё же это
бывало, и тогда я в автобусе ли у заднего окна, где-нибудь
на остановке ли, прислонившись к дереву, оказывалась в себе,
так странно и непривычно одетой, озираясь, надеясь увидеть
чужиx людей, и никого не наодила. Необычно остаться одной,
против всего нанесённого к твоим дням этим чужим, которому
плевать на тебя настоящую, изредка возвращающуюся в родное
и мучительно отчуждающееся тело, а дерево и стекло xолодны
и немо приветливы, как и всё вечное в умирающем каждую минуту
судорожном взгляде. Тогда я опять содила с ума.
Я не искала себя. Я была всегда на виду - сама себе чужая.
Я знала, что я отела до последнего. Но я не знала, что последнее
так близко и веско.
Я знала многодетную мать, которой я болезненно восторгалась.
Она любила мужа, детей и всех на свете. Я часто видела это.
Сумела бы я так? Думала, что как и все - да, но ведь этого
не случилось, а то, что умела я в себе подозревать - не
самое ли дорогое, что было во мне, что оправдывало эту неправдашнюю
в моей действительности жизнь? А совсем бы чуточку и ребёнок,
мать, чудо, совсем, если бы во мне не оказалось мужества
отказаться от всего, что изображало непосредственную ленность
покоя. К покою я шла, но шла судорожно, и каждую минуту
отрекаясь от ждущего там, на конце пути. О какиx концаx
речь?! Знала ли я, что всё случится так, как случилось?
Никогда. И в то же время я с этим родилась. Это я знала
чуточку больше других, оттого и металась, оттого и не сумела
уподобиться тому, что было и казалось таким лёгким, естественным
и всюду вокруг запросто существующим. Боже упаси, когда
я думала об оригинальничании. Мне, раньше читавшей столько,
потом увидевшей, как то, прочитанное может быть пущено в
оборот и на проценты с которого можно прожить даже слывя
интеллектуалкой, мне б тошно стало от фиглярства, хотя
бы ради этого же самого "раньше".
Был серый проклятый день. Мне надо было стать верующей.
В этот день это стало особенно понятным. Я ничего не ждала
ниоткуда, я была спокойна, проклято спокойна, как и заxвативший
меня день. Под окнами вязли голоса детей. Детей, ждавших
и верившиx в сбыточность всего надуманного, и даже без того
живущих просто-запросто этим ожиданием и в этом надуманном.
Стены нашего дома обшарпаны, исписаны, и даже самое частое,
самое злящее весь дом - круглые рожицы Оль и Юр, которые
с плюсиком посередине выцарапывают любовь, дай-то бог, без
стеснения и да сбудется вся стена, до самыx дверей. Я открыла
дверь. Меня разбомбил ветер. Тонкой-тонкой пылью. Шёл дождь,
блестящий от белизны небес и слепо отсвечивающи окон. До
Бога было два шага и один вздох. А может быть и ближе. Я
вскочила в стоявшее у подъезда такси. Дождь обxаживал вокруг
и, кособочась, заглядывал внутрь, прилипая к стёклам. В
пустой и тёмной машине остались щёки, одни, нетерпеливые,
или всё вынесшие, и этот дождь, едва коснувшийся и оставшийся
там, по ту сторону.
Водитель угостил меня яблоком. Оно паxло. Водитель
начал разговор. Яблоко стремилось в рот. Я не любила людей,
мне надо было жить. А сегодня было 31-ое декабря. Свет накрывал
сверху улицу, окна светили участливо. Водитель мой остался
без Нового Года. Он кусал яблоко. Я закружила голову от
невозможности сказать и упала в запах яблока. Улица раскрывалась,
раскраивалась. Дома расxодились по своим углам, к своим
освещённым радостям. Руки под дождь вставали лесами, машина
мчалась, очертя голову, и тьма навстречу опустила снег.
Где-то томился второй час ночи, водитель мчался к нему.
Я любила его будущий сон. Сон в новом году. Жена его разбилась
на кусочки в каждом окошке, мягкая как снег и зазывная как
последняя остановка. Заговорили смятые ночи, пальцы с глазами
крикнули в обломок яблока, и я, я, крепкая и ладная, дала
рубль и xлопнула дверью.
Снег ни на капельку не изменился. Постарел. И я его
не узнала. Он был чужой, на чужой земле, по чужому воздуxу,
упругому, как всякое новое, вытащенное и явленное взамен,
снег весёлый и чистый, веселящий, очищающий. Небо развевало
долгие и далёкие голоса. У мира был новый год... Новые мои
годы...”
Песнь тринадцатая
Рассказ этот назывался “Матерь, Дщерь и Грешная Душа”,
хотя сразу же в сноске Тон оповещал, что взял название взаймы
у некого ташкентского поэта по фамилии то ли Исламов, то
ли Исмайлов. Вы спросите, почему я считал его описанием
того самого 31 декабря, когда Тон бы у Марины? Дело в том,
что так или иначе, Тон прямо или косвенно рассказывал мне
о своих увлечениях, но в тот раз всё было поиному. И я
при редких встречах с ним, чувствовал, что в нём чтото
происходит, но по самой степени сокрытости, вдруг выказывающейся
в случайных обмолвках, а затем вдруг ниоткуда появившемся
рассказе, который он дал мне почитать долго мявшись и не
решаясь, а потом несколько раз дёгался, прося его обратно
дескать для доработки, но за какимито неразличимыми теперь
обстоятельствами рассказ всё же остался у меня, я заключаю,
что Марина, сама того не зная, затронула может быть самое
глубинное в Тоне, чему я сам ищу названия. Разумеется, теперьто
я вижу, как местами этот рассказ вычурен, как местами помолодому
напыщен, чего стоит одна история обращения Марины в Марию,
и всё же именно в этой чрезмерности я находил в своё время
подтверждение своим догадкам о том, что происходило тогда
в душе у Тона. Именно тогда мы дружно сходились на тарковской
формуле: всё случается там, где ничего не случается.
Надо сказать, что и наши отношения с Тоном к тому
времени утончились настолько, что я бы не посмел спросить
его откровенно: о чём или вернее о ком этот четырёхчастный
рассказ, или как он говорил передавая мне его “композиция”.
Но могу ли я сам по прошествии стольких лет понять и объяснить
случившееся тогда с Тоном и заставившее его может быть единственный
раз в жизни обернуться женской ипостасью?
Девушка умирает в самом же первом предложении, но
умирает в последний день года. Наверное довольно одного
этого оксюморона, чтобы обозначить полюса поставленного
опыта. О том, что ранняя смерть матери сказалась на всей
последующей жизни Тона я уже говорил и вдобавок к тому могу
подвердить и своими днями на земле. В моей жизни тоже случилась
эта изначальная пустота, которую захоти можно было бы
назвать равнодушием, а поройся можно было бы обнаружить
за ней многоредутную боязнь всколыхнуть незаживающую рану.
Сидело в нём исподволь недоверие к женскому началу, недоверие,
замешанное на неутолённой вдоволь любви, и вот эта мешанина
завораживала ничего не понимающих подруг Тона. Так, я подозреваю,
случилось и с Мариной. Причём в значительно большей степени,
нежели у других. Та душевная близость, которую они разыграли
за два месяца своих телефонных разговоров, за которые в
конце концов Тона уволили из “Скорой помощи”, наткнувшись
31 декабря на утлое корыто хотя бы антропометрии, как я
теперь понимаю, не могло не породить в душе Тона бури метафизики,
которой он пытался совладать в несколько приёмов. Посмотрите,
сколько раз он меняет в этой композиции точку авторского
зрения, превращая в самоубийство то, что он убивает сам.
Мне кажется тогда он убил в себе в известном смысле
душу ту самую розовую чайку, которой он разумеется никогда
в своей жизни не видел. Но и душа на то и душа, что обнаруживается
наверняка лишь посмертно или же по потере: скажем на листе
бумаги или переданная на поруки от одного к другому. Не
потому ли я собственно и пишу, не потому ли вспоминаю все
эти мимолётные полузабытые отношения, что в них и пытаюсь
отыскать это самое потерянное, вот и в коротком романе или
даже повестушке, если не сказать новелле, между Тоном и
Мариной я нахожу ни много ни мало медицинскую попытку
локализовать боль и вырезать её самый очаг. Так он боролся
со своей душой…
*
* *
У обыкновенной жизни по крайней мере той, которую
живу, скажем, я есть свойство, когда случай складывается
на случай, на эти оба третий, четвёртый. Всё кажется,
что завтра ты разберёшься со всем отложенным на завтра,
но у каждого завтра есть своё завтра и так наверное до
смерти. Так и здесь. Каждую главу я думаю, ну вот теперь
я выскажу всё до конца, объясню всё разом, но событие цепляется
за событие, за ним идёт третье, четвёртое, а ясности не
прибавляется. Хотя как сказать. Ведь что есть помимо этих
событий как таковых? Наши выдуманные натяжки? Теории? Выводы?
Которые разбиваются ровно о следующее событие? Думая о
последнем случае с Тоном я почемуто вспомнил совсем другое
как я сразу же после университета устроился на работу
в Институт Физиологии, в котором на второй или же третий
день познакомился с девушкой, которая была старше меня лет
на пятьшесть (разница ужасная в том возрасте!) и уже была
замужем за нашим завлабом. Женаты они были всего несколько
месяцев, но мне в её поведении чудилась какаято тайна.
Была она похожа на работу кисти Ботичелли и никакого отношения
к нашей физиологии не имела она кончила архитектурный,
хотя работала у нас в методическом кабинете (какой только
чепухой не был полон наш институт! (я имею в виду все эти
кабинеты передового опыта и ленинские углы…)). Сошлись мы
с ней именно на Ботичелли, когда после работы возвращались
вместе на семнадцатый квартал Чиланзара, где они жили в
квартире от института, а я снимал неподалёку комнату.
Поскольку муж её засиживался в институте допоздна,
совместные возвращения домой превратились вскоре в неизбежный
ритуал: в то время ещё не было метро и мы добирались сначала
трамваем до центра города, потом троллейбусом до Фархадской,
а затем уже пересаживались на автобус. Так что у нас было
предостаточно времени наговориться обо всём. Хотя я пошёл
уже на поводу самих слов. Вспомнить поточнее так на самом
деле всё было значительно сложнее и запутаней, как это бывает,
когда тебе всего двадцать два, а ей уже под тридцать (даже
сейчас, произнеся эти слова сорокасемилетним я ощутил предательскую
разницу, уносящую её в некую чёрную дыру, куда ты тянешь
руку и чувствуешь, как засасываешься сам, и даже не то
эти тридцать лет, в которые ты глядишь с той двадцатидвухлетней
стороны кажутся и впрямь чемто уже неудержимо стареющим
и эта девочка, как сказал бы я теперь, кажется тебе существом
столь серьёзноумудрённым, что ты боишься своей незрелой
нелепости, а потому сидишь и пыжишься в поисках чегото
достойного, чегото вековечного, что способно уравнять вас
в возрасте, и всякое сказанное в этих потугах слово оказывается
обречённо нелепым и необходимо незрелым…
Помню, как она улыбалась при этом и наверное же рассказывала
обо всём мужу самодовольному и покровительственному как
и всякие мужья, а потом опять и опять ехала со мной на Чиланзар
в пыльном автобусе или же полупустом трамвае. Как же умело
она поддерживала эту игру или, вернее, эту жизнь, когда
сама смущалась и замолкала надолго или же хранила тяжёлое
молчание, предлагая его часть тебе и опять огрызок незначительномногозначительного
разговора на самые окончательные темы: зачем мы живём на
этом свете или же что такое человеческое счастье. Я ли тупо
дразнил её, она ли изматывала меня этими метафизическими
реками, но даже когда она забеременела своим первенцем,
я никак не хотел сдаваться этой изначальной обречённости,
которая существовала между нами и которая, собственно, и
питала наши высказываемоневысказанные отношения.
Теперь я понимаю, что говорили мы обо всём на свете,
только не о наших с ней отношениях. Это было за пределом
слов, это осталось за пределом слов и то, что я пытаюсь
теперь оживить в тех же словах нелепая, незрелая тень
великого бессловья, которое в самые счастливые мгновения
жизни разом связывает и разъединяет мужчину и женщину…
*
* *
Бывают минуты в жизни, когда
тебя переполняет прошлое и сидя над листом ли бумаги, или
как теперь перед компютерным экраном, ты не в состоянии
произнести ни слова так велико это мгновение. И тогда
сознание пускается на обман захватывая чтото с заведомой
периферии как астрономическая чёрная дыра оно постепенно
частица за частицей затягивает в себя казалось бы нечто
боковое, ненужное это как полузащитник возится гдето
в середине поля и даже на фланге середины перекидывает
мяч с ноги на ногу, а то небрежно стучит им в ноги противника,
так что мяч выкатывается в аут, и опять неторопливое разыгрывание
мяча перепасовка, и зрители уже начинают скучать и посвистывать,
а мяч вместо того, чтобы катиться вперёд, отыгрывается назад,
к одному из забытых защитников, а тот чего доброго откатит
его вратарю, который опять перебросит его на фланг. Так
забывается время, так избывается время, и опять как море
в вечной и скучной неизбежности нагоняет волну за волной
пока одна из них такая же на первый взгляд как и все
вдруг не рассчитает все фазы отката предыдущей и вдруг
у тебя на глазах вздует загривок как кот, с которым ты играл
в кошкимышки и вдруг бросится на твою руку без тени наигрыша
и подобно песне, хватающей тебя за захлёбывающуюся кровь
сердца наградит тем, чего ты так избегал…
Но, честно сказать, не всегда всё складывалось столь сложно
и многозначительно. Однажды летом в те же самые годы Тон,
я и Серёга решили поехать на Иссыккуль. Серёга нашёл какието
горящие путёвки и через день, сев в автобус, к вечеру мы
уже плескались в холодных водах горного озера. Ещё днём
позже мы пошли осматривать округу: зашли в какойто сельский
универмаг купить себе курортноморских принадлежностей:
от плавок и до соломенных шляп. Разумеется ничего на прилавке
не было и куражась, Серёга набился на приём к заместителю
директора, которой оказалась молоденькая симпатичная немка.
Но вот что странно, сколько не петушился Серёга, она почемуто
всё больше смотрела на Тона, и даже когда в ответ на принесённые
из склада плавки и шляпы Серёга пригласил девушку на вечерние
танцы, она продолжала вопросительно смотреть на Тона: дескать,
а будете ли там Вы? Словом на вечерних танцах полупьяный
Серёга подцепил какуюто легкомысленную полукиргизку, я
сидел в сторонке, глядя на совершенно немыслимую семью:
молодую мать с тремя детьми, веснушчатая же немка, которую
как оказалось зовут Ангеликой, танцевала раз за разом со
смущённым Тоном.
После танцев все разбрелись ктокуда, я пошёл в наш фанерный
коттедж, куда, кстати, направилась и семья этот выводок
малмала детей и мамочки впереди. По дороге мы разговорились
за тем, что одна из девочек упала и перепугала остальных.
Они оказались семьёй военного, который остался на учениях
и послал детей сюда. Мать при этом назвалась безо всякой
жеманности Оленькой. Я проводил их в соседнюю дверь коттеджа,
а сам, не дожидаясь рассказов своих запоздалых друзей, лёг
и заснул.
Правда, рассказы случились с утра. Начал всё, закуривая
в постели запретную сигарету, Серёга. Он рассказал во всех
прелестях матв перемат как вертелась на нём эта полудикая
зверь, как лила на него шампанское и слизывала на капли,
застрявшие в ямочке вокруг пупка. Врал конечно Серёга, какое
шампанское по тем временам на Иссыккуле. Подзадоренный
Тон рассказал, что депутатканемка повела его купаться на
дикий пляж и заставила его купаться нагишом. Он промёрз
до кашля и теперь, рассказывая это, басовито отхаркивался.
Потом он проводил её до дома и когда хотел уже было возвращаться
в коттедж, Ангелика вцепилась в него и стала целовать взасос.
Потом опять отпустила и спустя некоторое время опять вцепилась.
Озябший Тон дрожал мелкой дрожью, она же называла его львом
и истолковывала дрожь за страсть. Правда, наблюдательный
Тон заметил, что приливы её поцелуев приходились на бесстыжие
фары проезжающих мимо машин, когда она прижимала Тона к
скрипучему вязу и хватала губами губы. Вслед машинам страсть
както утихомиривалась, переходила в разговор о том, как
скучно здесь жить, некуда пойти одна эта ночная лужа…
а потом взрезывала горную темноту редкая машина запоздалого
шофёра и опять в Тона вливалось её винное тепло…
Серёга всё допытывался в матперемат: случилось ли что в
конце концов, но Тон сказал, что он оставил её под этим
вязом, и когда Серёга воскликнул: “На хуя?!”, Тон залепетал:
“Как это почему? Как это почему? Она там живёт… Я имею в
виду, что вяз на углу её двора…” Сплюнув свою сигарету,
Серёга уставился на меня. “А у тебя что с этой мамочкойпулемётом?”
Но прежде чем я открыл свой рот, за фанерной стеной раздался
предупредительный кашель нашей многодетной соседки, и этот
кашель был столь близок и внятен, что даже Серёга поперхнулся,
выматерившись в себя: “Во бля…”
На завтрак мы пошли заведомо опоздав, хотя хозяйка выводка
Оленька всё ещё сидела, кормя с ложечки свою младшую.
Правда, она не то чтобы дала както знать, что слышала всё
от начала и до конца, напротив приветственно помахала
мне ручкой. И всё же не это было главным событием дня. В
полдень за нами прибежали на пляж люди из администрации:
случилось так, что ктото из “Скорой помощи” заболел и Тона
срочно отзывали на работу. В тот же день он уехал в Ташкент
на попутном автобусе и мы остались с Серёгой вдвоём. Через
день Тон позвонил в администрацию сам, и опять нас, а вернее
меня, отозвали с пляжа, где я развлекал детишек Оленьки.
Впрочем, Тон нуждался не столько во мне, сколько в Серёге,
поскольку ненароком встретил его очередную суженую и та
узнав, что Серёга прохлаждается на Иссыккуле, решила немедленно
выехать вслед за ним. Тон по мужской солидарности спешил
предупредить Серёгу.
Только вот когда сам Серёга стал допрашивать меня на пляже,
когда же приезжает Верочка, я помялся и ляпнул: “Наверное
дня через дватри”. Нет, она не приехала тем вечером. Тем
вечером мы провели обычный день на танцах: я сидел при детях
Оленьки, когда она позволила себе первый танец с какимто
толстым и лысым типом, Серёга же при отъехавшем Тоне прямотаки
влип в немкудепутатку Ангелику в свете “пританционных”
фонарей. Словом, очередь купаться в ночном Иссыккуле была
охотно унаследована им. Я после танцев пошёл спать за свою
фанерную перегородку, слыша возбуждённое после танцев дыхание
офицерской жены.
Не знаю, когда Серёга вернулся домой, но утром он спал долго,
а когда проснулся, первым делом кивнул вопросительно в сторону
перегородки. Я пожал плечами, он прислушался и хриплым голосом
спросил: “Ну как, заштамповал её?” и не успел он выслушать
мой протест, как в это время раздалось предупредительное
покашливание Оленьки. Голова Серёги втянулась то ли в плечи,
то ли под одеяло и он опять выматерился шёпотом. В то утро
он вовсе пропустил завтрак, мне пришлось нести яичко с кусочком
хлеба, завёрнутым в салфетку. Увидев такое дело, предупредительная
Оленька поинтересовалась не заболел ли мой товарищ, и
когда я чтото невнятно пробурчал в ответ, она предложила
мне кипятильник и смородиновый чай впридачу, с которым я
и вошёл в свою часть коттеджа. С той минуты мы, не сговариваясь
с Серёгой, стали разговаривать почемуто вполголоса.
Но и не это было апофеозом отдыха. В тот полдник к нам неожиданно
нагрянула Серёгина Верочка. Я видел разных девиц Серёги,
но видимо не напрасно Серёга скрывал от нас свою Верочку
она была особой. Позже он както признался, что такой
стервы не видел в своей жизни. Хотя я никогда не осмелился
бы назвать её стервой даже за глаза. Но как бы то ни было,
Верочка быстро познакомилась с Оленькой, они прошушукались
в соседнем купе, если этим сравнением не обидеть глухие
клетки отечественных спальных вагонов, и вернувшись к нам
стала проявлять всяческое нетерпение по поводу предстоящих
вечером танцев: дескать, а где они проходят, что за музыка
играется там, кто приходит, что танцуют… Серёга отвечал
односложно, я пытался дополнять его, но каждое из предложений
грозило обвалом, а потому я замолкал на полуслове и опять
Серёга вставлял своё пренебрежительное: “Да, какаято банда!”
На вечернем солнце мы сходили искупаться. Вода к вечеру
согрелась, детишки Оленьки плескались безо всякого принуждения,
да и она сама теперь расправилась рядом с Верочкой, что
даже я заметил, как она хороша собой. Один Серёга был не
в духе. Заплыв подальше он стал советоваться со мной и там,
в Иссыккульской воде мы решили, что сегодня огонь на себя
возьму я и первым же делом предупрежу Ангелику, что приехала,
мол, жена Серёги. Она немка, девка сметливая, логики не
занимать, а уж Оленьку с Верочкой впридачу с детками Серёга
возьмет на себя. Что мне оставалось делать?!
За полчаса до танцев я был уже на танцплощадке, помогая
местной банде протягивать шнуры и включать динамики. Первой,
откуда ни возьмись, пришла злополучная полукиргизка, которая
считалась уехавшей во Фрунзе. Разумеется, я пошёл на абордаж,
узнав кстати, что зовут её Ачирёк. “Ачирёк, сказал я проникновенно,
к Серёге приехала жена и он очень удручён…” “…тем что
она приехала?” както заговорщицки подхватила она. Если
б у неё были усы, я бы сказал: подхватила она, закручивая
свои усы. “Нет, тем, что он не сможет уделить Вам надлежащее
внимание”, стал литературиться я, поскольку обычно это
облагораживает собеседниц, да так, что им можно внушить
ту или иную мысль, которую они воспринимают уже как героини
литературного произведения. Но это лишь раззадорило простоватую
Ачирёк: “Ну что ж, будем посмотреть…” отрезала она вызывающе
и тут я понял, что литературой её не возьмёшь она продукт
другого дописьменного оральноэпического сознания.
Пока я смущённо думал о новой стратегии пришла в окружении
полнокровных киргизок немкадепутатка Ангелика. Я, по литературной
инерции попросив прощения у фыркнувшей Ачирёк, отошёл к
обильновеснушчатой немке. “Вы знаете, к Серёге приехала
жена”, начал я с места и в карьер. И вот тутто депутат
на то она и депутат, да и логика типично прусская, воскликнула:
“Давайте выпьем за это!” Пока я ошарашенно думал о роде
этой литературы, девочкикиргизки вытащили изпод полы бутылку
водки и пластиковый стакан и “булькбулькбульк” протянули
первую мне. Я без задержки опрокинул её в себя. Жар из желудка
ударил в солнечное сплетение и пошёл выше. Депутатка засандолила
второй стакан. Киргизки вылили остальное в себя и достали
изпод опахал следующую бутылку. И тогда прежде чем сообразить,
я уже пригласил в круг Ачирёк. По свежей пьянке мысль запаздывает
за действием или наоборот убегает настолько вперёд, что
картина перед тобой стопорится, как замедленная съёмка.
Пока я пригласил её в круг, она успела уже замочить и уже
в два уха мне шептали две пары влажных и жарких губ…
Когда Серёга пришёл на площадку в защитном окружении Верочки,
Оленьки и трёх малых детей, я был настолько пьян, что удивился
некой верховной справедливости: “и у него две бабы…”, но
какаято подспудная установка заставила меня закусить губу
и никак не выдддаттть! не знаю чего. Словом, оказались
мы какимто образом втроём Ангелика, Ачирёк и я в ночном
и диком Иссыккуле в этой ледяной воде, которая выдавила
всю выпитую водку круглешком кудато под тошнотворно тикающее
нёбо (и ведь сколько ни стараешься проглотить этот шар вместе
с вязкой слюной, скуксившееся тело никак не хочет принимать
его обратно). И ведь назвали же эту проледь “Горячим озером”!
Немцы что ли посмеялись над киргизами?!
Я чуял както, что стадия агрессивности по пьянке, которую
я боюсь в женщинах, наступает на этот раз в самом мне, но
её я почемуто не боялся. И я догадывался почему. Мне нечего
было терять. Теперь, трезвея на ходу, я понимал, что ничего
я с двумя девицами враз не поделаю, но то трезвел я не
они. Их же моя неразделимость видимо никак не смущала. Не
буду ничего говорить больше, поскольку в той ночи никакой
моей заслуги, но скажу лишь, что и Серёга и Тон говорили
сущую правду об Ангелике и Ачирёк…
Добавлю также, что на следующий день мы по настоянию Верочки
уезжали с Иссыккуля и вышла нас провожать офицерова жена
Оленька, обвешанная тремя детишками и наверное грузом того,
что она успела рассказать Верочке, ведь иначе и я бы продолжал
возиться с её детишками, да и Серёга со вчерашнего вечера
пытался привязаться к ним. Но как бы то ни было в душном
летнем автобусе, который быстро укачал невыспавшуюся прошлой
ночью Верочку, Серёга шептал мне слова благодарности, которые
почемуто разрывали мне сердце, как будто цеплялись оттуда,
где всё осталось брошенным посередине…
*
* *
Песнь четырнадцатая
Я никогда не был особо
хорош в игре головой, хотя изредка забивал мячи после углового.
У меня просто не было охоты употреблять голову в том же
назначении, что и ноги. То же самое с жонглированием мяча.
Чтобы не сказать часами десятками минут я мог и могу жонглировать
мячом, падающим с ноги на ногу в крайнем случае на бедро,
здесь не столько концентрация, сколько может разобрать скука
умения, когда мысленно говоришь как Хлебников о своих стихах:
“и так дальше…”, но чтобы пообезьяньи изгибаться шеей и
спиной под мячом?! Мяч должен быть в ногах, у ног в этом
царственность футбола. Один из друзей моего детства Карим
после каждого гола, забитого Тазиком головой, говорил то
ли утешая, то ли умиротворяя: “у него голова треугольным
клином, а у нас ведь широкие лбы…”
Чем больше пишу о своём друге, тем кажется сложнее
мне его понять, поскольку тот первоначальный запал и та
простая мысль с которой я приступал к запискам, оказалась
на поверку не столь простой и однозначной, и чем как ни
странно всё больше и больше остаётся рассказывать, тем
меньше надежды на окончательную ясность. Иной раз, едя в
машине или сидя на работе, вдруг ощутишь некую параллель,
которая будто бы всё объяснить сама по себе: скажешь, к
слову, “это всё поколенческое” и не только охватишь
этой фразой весь опыт Тон Хвана, но и эти записки, повторяющие
его жизнь и в них эта бесконечность процесса, захватывающего
самим по себе, безо всякой похотливой цели, как будто до
сих пор мы сидим на зимней кухне с выключенным светом глубокой
ночью, в которой кроме боковых острых звёзд горят две синие
газовые горелки, и нет конца пустым и столь важным словам…
Я сказал “поколенческое”, я сказал “похотливая цель”.
А ведь и это последнее было частью нашего тогдашнего
существования. Один из нашего тогдашнего круга Серёга,
уехавший от нас сперва в Магадан, а потом и вовсе за границу,
видимо совсем недавно написал своего рода философский трактат,
который я совершенно случайно обнаружил в библиотеке, разыскивая
совсем другое. Вот, проглядите, а потом я расскажу, зачем
я этот трактат перепечатал.
Заметки
о комедиантстве
Эту работу можно
было бы назвать “Философией комедиантства”, “Феноменологией
комедианства”, “Метафизикой комедианства” или ещё как глубокомысленно,
но как научный столп века минувшего Макс Вебер начинает
свою “Социологию религии” с тезиса о том, что определение
заявленное в заглавии должно лишь развернуться в самом конце,
так и я решил остановиться на заметках. Кстати, этот самый
Вебер есть может быть самый из серьёзных комедиантов 20
века, намешавший в своей газетнофельетонной стилистике
Гегеля с Ницше, Фейербаха с Шопенгауэром, подсоливший и
подперчивший эту эклектику словечками типа “харизма”, “мистагог”
и засим заслуживший славу одного из самых могучих умов века.
Если вы человек научно или умственно честный, то вы сразу
же поняли, что такое по сути комедиантство. Вебера вполне
можно представить расхристанным на газетной полосе, когда
как Гегеля непредставимо. Но я хочу начать с вещей значительно
более простых. С тех самых общедоступногазетных.
4.
Сначала я чувствовал
эту проблему как проблему поколенческую. Есть какаято шутовская
жилка в моём поколении будьто затопившая ирония в литературе,
или абсурдистскосмеховой концептуализм a la Булатов, просто
поведенческая установка на жизнь как на капустник, а в последующем
поколении и сверх того как на peep-show за тем самым капустником.
Словом, громоздится уже этаж на этаж, как СПИД это уже
болезнь не первого, но второго порядка болезнь того, что
защищает от болезней, так и тут смех над тем как нелепо
смеются. Почитайте Курицыновские уикли в Интернете и вы
поймёте, что это уже больше чем казус или диагноз, это уже
эстетика.
5.
А начинать придётся наверное с батюшки
Бахтина. Как ни серьёзен был Михал Михалыч, а ведь именно
он узаконил в правах карнавал и мениппею как чуть ли не
высшие формы народного творчества, легализировал и теоретизировал
народную смеховую культуру, в которую, как законного наследника
воткнул шутка сказать и самого Достоевского! По Бахтину
чуть ли не вся лучшая литература была литературой произрастающей
из карнавала и мениппеи, из той самой народной смеховой
культуры. Но я его ни в чём, видит бог, не обвиняю, я лишь
разбираюсь, откуда что растёт.
7.
Такие умы русского двадцатого века, как
Лихачёв тоже ведь писали о народной смеховой культуре в
истории Руси, как будто бы сказанное в начале века языческохлебниковское:
“О засмейтесь, смехачи…” пошло и поехало без удержу не только
по высокой науке, но и по ОртегаиГассетовским “массам”,
и вот уже совсем под занавес 20 века ещё один серьёзнейший
казалось бы ум Сергей Аверинцев опубликовал в “Новом Мире”
своё некое венское выступление, где уже рассматривает всё
это комедианство как диалектическую противоположность сверхсерьёзного,
трагического. Может быть и впрямь двадцатый век нуждался
в уравновешении своей сверхтрагичности тотальным осмеянием
всего и вся?
9.
Но я хочу ограничить себя лишь психологическими
рамками. Может быть эстетикопсихологическими. Я хочу понять
это всё как личную проблему. Почему в семье я несерьёзен,
почему я постоянно хочу разыгрывать друзей, почему отношение
к жизни у меня наплевательское, если не сказать хамское,
почему я интелектуально высокомерен, что ничего не удостаиваю
не “своего серьёзного внимания”, а “серьёзности своего внимания”?
Откуда во мне эта зараза? Зараза типичного интеллигентаручкоблуда?
Почемуто пришёл на ум Василий Васильевич Розанов, его сменил
трагический Веня Ерофеев…
13.
Ну понятно, скажете вы, на Руси всегда
было в почёте юродство, и хрестоматийно добавите: было почти
свято. Бог с ним, с русским юродством, но ято не русский.
Я нерусский, и таких как я сколько угодно. Наследство подрусского
Советского Союза? Можно ли комедианство рассмотреть как
советский феномен. Или точнее через разрез “советского”?
Здесь, как мне кажется, закопано побольше. Суть комедианства
в первую очередь это маска. Самоочевидно. Претензия быть
не тем, что ты есть на самом деле. При тоталитарных режимах
механизм “маскировки” чуть ли не единственный спасительный
для всякого, кто естественно выпирает из строя. Об этом
можно писать километры, но лишь один литературный пример.
В 60ые годы в узбекском сатирическом журнале “Муштум” расцвёл
целый литературный жанр: “лоф” надувательства, а именно
кто кого переврёт. Странно, что с окончанием застоя этот
жанр сам по себе и вымер. “Лофнул” от передува.
21.
Но ведь “маска” суть всякой театральности,
то есть и трагической. Наш же случай более специфический,
не так ли? Хотя, строго говоря, “комедианство” я не имел
права снижать до “фиглярства”. Но суть именно в этом. Итак,
что кроме “маскировки” важно в фиглярском комедианстве?
Понижение, “культура масс”, опять же вполне объяснимо с
точки зрения советских приоритетов. Достаточно вспомнить
язык родоначальнобессмертного Ильича Ленина с его “говнами”
и “сортирами”, “политическими блядьми”. И здесь это начиналось
тоже.
27.
Правда, если не я сам, так другие подобные
мне скажут о типологическом отличии иронии и пародии ото
всего, о чём я говорю до сих пор. Какое отношение имеют
эти самые ирония и пародия к моему комедианству? Очень легко
заметить то самое смещение, тот самый зазор, который отделяет
иронию и пародию от чегото первоначального, настоящего.
Сказав проще: иронизируется по какомуто поводу, пародируется
чтото, что не претендует быть или казаться другим. Впрочем,
эта замена чегото на чтото значительно шире нежели лишь
ирония и пародия. Скажем, под именем метаболы она является
основой всякого риторического приёма. И ещё дальше слово
есть замена чегото в реальности на чтото в уме.
28.
Значит о качестве этой замены, а не просто
о ней как таковой. Поскольку иначе если брать ещё шире,
то всякая человеческая деятельность по существу сводится
к преобразованию (в крайности тут же приходят на ум Сталины,
Мичурины, Лысенки), но проще, проще посмотрите на асфальт,
по которому вы идёте или едете вместо того, чтобы ступать
по траве, дом, в котором живёте вместо расщелины или пещеры
и т.д и т.п. Можно назвать ещё опосредование, но по сути
дела опять же замена одного другим. Движение, действие,
время, мышление всё зиждется на смене одного другим. Остановимся
перед падением в дурную бесконечность перечисления и вернёмся
к качеству замены, которое ближе к сути комедианства.
39.
Но ещё одно добавление перед тем. О высокомерии
и циничности, как основаниях на которых строится комедиантство.
Их я едва затронул в одной из главок. На самом деле этому
следует посвятить значительно больше места. Ведь только
допуская простой факт, что ты умнее того, кого пересмеиваешь,
ты осмеливаешься пересмешничать. И поскольку ничто не устаивает
перед твоим смехом, а вернее перед пересмешничеством, то
к высокомерию примешивается цинизм. Поскольку это весьма
похоже на ницшеанство, я задумался вдруг а не комедиант
ли и сам Ницше? Но оставим его в покое и подумаем о самих
себе грешных. И здесь я вижу зазор непопадания в самого
себя, неадекватности, неимманентности, овнешнённости.
50.
Жена моя считает, что комедиантство моё
от солдафонства. Я и впрямь, как всякий российскосоветский
интеллигент отдал три года своей девственномужественной
жизни Советской Армии. После замечания жены я стараюсь понять
как армия могла сказаться на моём комедианстве. Помимо того,
что это утроенный или учетверённый советизм, есть наверное
специфика имено армейского сознания или армейской психологии,
сказавшейся на качестве моего сознания. Упрощение первое
качество армейской жизни, которое может вкрасться в душу
как постоянное стремление к понижению. Преднамеренная грубость
мужской жизни, когда она ещё не мужская, а безусоюношеская,
а потому вдвойне стремится казаться чемто иным.
Упрощение, становящееся огрублением, опошлением. Потом выхолащивание
личностного начала (все на одно лицо и на одну форму!) и
впрямь должно создать нечто формальное (маска), которое
легко принимается, как натягивается форма в 45 секунд! Но
здесь же и противодействие этому выхолащиванию тоже способствует
творчеству, ведь не потому ли розыгрыши так злы в армии,
так беспощадноуничижительны! Единственное, что отличает
тебя от других это твой ум, поскольку физическую силу
пускать в ход запрещает гауптвахта.
Другое качество армии упорядоченность своей абсурдной
формализованностью “отделение, повернуть все брюки гульфиками
направо!” рождает такое чувство противодействия изблевать
бы всё на побывке! что впоследствие это свинское чувство
не покидает тебя всю жизнь!
Сказать ли что о подчинении? Или и так всё ясно?
71.
Но одно смущает меня при всём этом нагромождении
биографического. Дело в том, что заразато эта сидит не
только в советских, в армейских, но и значительно шире и
географически, и популяционно. Вон, не помню кто уже, написал
целый роман “Комедианты”. Кстати и я читал его когдато,
а вот о чём не помню. О сводке литературы говорить не
буду, и так понятно, что этакого интеллектуального героя,
эдакого Воланда хоть пруд пруди, Гессе так и вовсе говорил
о “фельетонной эпохе”, подразумевая наверняка то же самое,
с чем борюсь здесь я. Не зараза ли это и на целом человечестве?
Я уже обмолвился Воландом. Почему тогда не запахнуть во
всю ширь и мощь и не вспомнить Сатану наущающего и разыгрывающего
простодушных Адама и Еву, Сатану отпавшего от Бога, восставшего
на Бога. В обоих случаях можно согласно многим религиям
поставить слово Истина. Отпавшего от Истины, восставшего
на Истину. Не потому ли во всех этих розыгрышах так и торчат
мефистофелевские уши да хвост, да рога, да копыта?!
72.
Но полноте! Не упрощать же до такой степени,
что всё смеховое восходит к Чёрту! К Дьяволу! Хотя вспоминая
того же Ницше в его Заратустре, так и видишь этого танцующего
и смеющегося, проповедующего танец и смех богоборца. А ведь
и вправду отсутствие веры и червоточащее подозрение, что
мир построен на подвохе и лежит в основании того, что воплощается
впоследствие в опошлённую форму комедианства, хотя может
начинаться и вполне серьёзно, как агностицизм или учение
киников. Видите как высоко мы забрались, начав с вполне
игривых и несерьёзных положеньиц…
77.
Но да бог, или теперь уже точнее чёрт
с ними, с этими теоретизированиями, что же делать мне, кто,
как видите, задумалсятаки над несерьёзностью своей жизни,
невзаправдышностью её? Как расправляться с тем, что стало
уже привычкой жизни, что уже в большой степени заменило
саму жизнь и мой способ существования в ней? Не с этого
ли кондачка и начинаются святые этого мира? Юродивые, доводящие
иступлённым смехом самый смех до его противоположности,
призраки, срывающие с маской и собственную тень вместе с
плотью, дервиши из высшей несерьёзности отрекающиеся от
жизни в пользу самого серьёзного, что зудит в человеке…
Ухмыльнуться разве патетике всего этого замысла? Всего
этого проекта, как бы следовало говорить соответственно.
84.
Этические ориентиры сменены на эстетические,
хотя и то опошлено до вегетативного потребительства. Мозгам
предписано упроститься до одноклеточной амёбы или инфузориитуфельки,
потерянной какойнибудь забытой Золушкой по имени Психея.
Дальше можно было было бы свернуть на колею, что это культивируется
всем бытом последнего века, всей его так называемой масскультурой
и т.д. и т.п. и кончить заговором Шайтана супротив Бога,
но мне интереснее где, на каком отрезке жизни я сам потерял
своё целомудрие? Ведь даже армия, о которой я говорил, ещё
была серьёзна, помнится как на первом из комсомольских собраний
роты я выступил с предложением не материться в общении друг
с другом. Предложение, кстати, выслушанное на полном серьёзе,
но потом, после собрания и до дембеля высмеянное, высмеиваемое
беспощадно, ёб твою мать!
Читаю свои дневники той поры вместе с дочерью теперь
уже того же возраста и хохочем до упаду от немыслимой, неподъёмной
серьёзности этого вьюноши. Да, всё это происходило исподволь,
подтачивалось изнутри, ведь и в детстве моём кто был более
всего популярен в классе как ни Сашка Ахтёмов, златокудрый
смехач, сочинявший на ходу: “Машинист паровоза, бросай в
топку кривые дрова, поворачивать будем…” И вот лопнуло как
ни странно после действительной потери целомудрия, после
женитьбы. И то не сразу, а наверное с первой изменой. “Мысль
о прелюбодеянии уже есть прелюбодеяние…” любимая мысль
Толстого. Ещё одного серьёзного человека я не называл до
сих пор: Достоевского, с его людьми из подполья. Психологически
понятно. Как говорили у Достоевского: “Мне это так легко,
а ему это доставляет столько удовольствия”, и вот пошла
трещина в поведении: один ты для жены, другой для другой.
Впрочем читал я гдето, что самые неискренние отношения
это отношения мужа и жены. Отношения так называемой “святой
лжи”. Не оттого ли смертельно серьёзны одинокие люди, бобыли:
Навои, Ницши, Хлебниковы, Лорки, Иваны Ждановы или выше
Христы…
95.
Видите, как движется мой психосоциоанализ?
А утешения нет и нет. Вот и хочется по крайней мере посмеяться.
Чтото тёплое на конец. Во всех смыслах.
96.
Мой самый любимый анекдот от Никулина
в котором вся суть этих заметок. “У русского Иванова родился
сын негр. Иванов сидит в родильном доме и акушерки не
знают как ему сообщить об этом. Наконец они вызывают сторожататарина
Рифа и наливают ему стакан спирта и просят поговорить с
Ивановым: дескать, вот чернокожий ребёнок, мутация там,
гены… Понял? Чёж не понимать?! И татарин Риф, занюхивая
спирт рукавом, идёт к Иванову и говорит: “Иванов!” “Я
Иванов!” “Дурак ты, ёптыть Иванов! Мутаторто мыть надо,
вон негр у тебя родился, Геной назвали!”
...
Песнь пятнадцатая
Вот что написал совсем недавно Серёга. И хоть впоследствии,
когда он уехал от нас, мы с Тоном стали в шутку называть
его за глаза “терминатором”, прочитав этот трактат, я вспомнил
один из случаев, который мы както пропустили мимо себя,
мимо собственного отборочного внимания.
У Тона на медфаке была худющая девушка по имени Лина,
которая завидовала бёдрам всех своих сокурсниц. Тон дружил
с ней, как и со всеми остальными крутобёдрыми, но его дружба
с Линой была особо братской: из чувства сострадания с ней
бы он никогда не позволил себе ни малейшей двусмысленности,
не говоря уже о пошлости, на которую он, впрочем, не был
вовсе способен. И вот однажды совсем неожиданно сама Лина
пошла на абордаж нет не в смысле охмурения самого Тона
у ней будто бы появился наконец некий Илья, который, увы,
был женат, и она прямо в лоб попросила Тона дать ей на день
ключ от его квартиры, куда она собиралась пригласить этого
самого Илью. Тон долго мялся, не зная как ответить, но Лина
была настойчива, припоминая, что Тон помогал в своё время
и Милке, и Антонине, и Ритке, и… И тогда Тон подсчитал день
своего дежурства на станции “Скорой помощи” и за день до
того пообещал вручить ключ Лине.
Я помню как мучился Тон, рассказав мне о Лининой просьбе,
но я не понял тогда: мучится ли он от сочувствия бедной
Лине, или же навязанной роли гнусного и грязного сводника,
то ли оттого, что надо бы обговорить проблему простыней,
или ещё от какой ведомой лишь ему тонкости. Уже весь медфак
знал по секрету о предстоящем тайном свидании Лины и Ильи
и мой экземпляр ключа от квартиры Тона перешёл из рук хозяина
в руки бледной сокурсницы, и вот настал тот день, когда
по словам Лины: “во всём городе, а может быть и во всём
мире лишь двое нас я и Илья будем знать, где мы затерялись…”
А на следующий день Лина пришла опоздав на занятия,
вся опухшая от слёз и на первой же перемене накричала во
дворе медфака на Тона, швыряя его ключ, да так, что ключ
упал в решётку сточной канавы. Опешивший Тон не совсем понимал
о чём она кричала в промежутке между рыданиями, какието
обрывки: “если б я знала, то никогда…”, “такой подлости
я никогда…”, “никогда в жизни…”, но настроение его испортилось
вконец, он ушёл с занятий, оставив истеричную Лину ковыряться
в той самой решётке над сточной канавой в поисках потерянного
ключа, который она во что бы то ни стало хотела швырнуть
теперь Тону в лицо.
Тон несколько дней не ходил на занятия и лишь на следующие
выходные, когда Серёга приехал из своей очередной командировки
всё стало ясным. Оказывается в тот день, когда Лина и Илья,
дымя сигаретами и вооружась двумя бутылками “Портвейна”,
выясняли в расчёте на долгий день свои неодносложные отношения,
гдето к обеду дверь, запертая на ключ изнутри, заскреблась
и так явно, что в одну из пауз в тяжком разговоре оба встречающихся
услышали это поскрёбывание, и не то чтобы Илья, а почемуто
Лина набросила на себя халатик и пошла прислушиваться в
прихожую, тогда как Илья, улучив повод, заперся на всякую
непредвиденность в туалете. В дверь и впрямь ктото пытался
вломиться, Лина увидела усатое самоварное лицо в глазок.
“Кто там?” спросила она дрожащим голосом. “Это я, открывай…”
раздалось изза двери. Причём это было сказано так внушительно
и доверительно одновременно, что обрадовавшись появлению
кого угодно, но не законной жены Ильи, Лина сама не заметила,
как повернула изнутри ключ на два оборота.
Это был Серёга, которого Лина конечно же знала. Правда,
сам Серёга удивился неожиданной встрече с полуобнажённой
пусть даже Линой, которой он когда уж совсем нечего было
делать подразнивал Тона. Да только Лина тут же обратилась
кудато в глубину помещения: “Илья, смотри, кто к нам пришёл!”
Серёга прошёл сквозь дым в середину комнаты, и в это время
из туалета вышел, застёгиваясь, Илья. Серёга тогда никуда
не ушёл, и не то чтобы вмешивался во чтото, отнюдь, он
просто наличествовал целый день в этой квартире. Кажется
он докончил вторую бутылку “Портвейна” с Ильёй, который
уж очень старался ему понравиться. Кажется курил вместе
с ними. Словом, делил компанию. А вышло, видите, вон как…
*
* *
Теперьто уже становится ясно, что все похождения
в первую очередь Тона, но и не только его, а всех нас, включая
и такой крайний случай “дырокольства” (как говорил сам Серёга)
как Серёга имели некую литературную природу при всём разнообразии
наших профессиональных интересов. Сам Серёга, ещё будучи
лишь представленным медфаку Тона, поразил самого Тона не
своими злосчастными дневниками, полными запахов прущего
и недозрелого семени, а дипломной работой, посвящённой
кому бы вы думали Дмитрию Писареву. “Заметки о комедианстве”
при всей их возможной неожиданности для вас оттуда же.
И вот я думаю было ли это какойто спецификой нашего окружения
или же за этим скрывается нечто большее, както целая эпоха
чтоли?
И я не в том, легко уловимом из повествования смысле,
что соблазнение женщины изоморфно литературе как жанру,
а соблазнение женских душ, коим был славен мой друг Тон
Хван ещё более литературно по сути, будучи самой сутью
литературы, нет! Этим я переболел ещё много лет назад, когда
кажется писал так и недописанную статью на эту тему, объединяя
в ней двуполость силлогизма, метафоры и ещё бог весть чего.
Лень отыскивать эти записи, а то бы привёл их, как не поленился
привести Серёгины заметки. Нет, я о другом.
Приходилось ли вам гонять белый футбольный мяч в сумерках
на большом поле, когда не видно фигур один мяч, вдруг
выпуливающий в ту или другую сторону. Вы бежите за ним и
не чувствуете ног, а поскольку не чувствуете ног, то не
ощущаете и тела и сам бег как будто бы во сне какойто
безногий коль скоро не видно земли под ногами и ног по
земле. И вы пинаете его наугад, и он летит сам по себе в
полутьму, где начинает дёргаться, подпрыгивать невесть от
чего и опять вдруг глухой звук удара, и только что судорожный
шар летит вновь по прямой, означая собой и расстояние, и
поверхность земли, и полёт, и время и даже вас самого. Попробуйте
пожонглируйте и вы вы поймёте, что это мяч жонглирует
вами, он диктует вам ощущение ваших казалось бы собственных
невидимых ног, вашего собственного никчёмного тела.
Я об этом…
*
* *
Тон был давно уже в возрасте, когда в очередной раз
влюбился некстати и невпопад. То было уже время, когда корейцы
в Ташкенте, перестав быть аутсайдерами, превратились в класс
заправил, уже конвейерил ДЕУ, Ташкент был полон не только
“Нексий”, “Тико” да “Хундаев”, но и ресторанов китайской
кухни, которые кормили всё той же чимчой да хе, только под
более экзотическими названиями, а стало быть в твёрдой валюте.
Теперь Тон мог влюбляться в кого угодно и когда угодно,
но чтото прежнее из стародавней эпохи, хрупкое и деликатное,
никак не поддавалось откровенной пошлости новой жизни. Проститутки
уже толпились на Катартале, напичканные героином, прежние
недотроги сдавались за ужин в кафешке, однако Тон Хван оставался
всё тем же.
А влюбился он в танцовщицу, которая танцевала чтото
национальнобесстыжее на открытии южнокорейской выставки,
и влюбился потому, как после торжеств и потной пьянки увидел
сколь беспомощна без косметики эта тонкая девушка какихто
смешанных кровей, прирабатывающая узбечкой. Тогда он под
видом одного из ответственных, проводил её до остановки,
неся баул с атласным платьем и накладными сорока косичками.
С нарочитой отстранённостью он выяснил тогда, что девушка
знает человека, который осведомлён об истории костюмов Средней
Азии, а спроси она зачем психофизиологу история женских
костюмов и всей игре бы наступил конец.
Ведь так начинаются самые близкие отношения из безопасного
рабочего далека: не знаете как пройти к библиотеке Ленина
я иду в ту сторону вы там работаете нет, я ещё учусь
кстати, как в Москве с общежитиями, дело в том, что в
Ташкенте… а вы из Ташкента… да, а что у меня там тётя…
не может быть, где она живёт…, или же: девушка, бога ради
простите, я примериваю этот костюм на сестру, она приблизительно
вашего роста и сложения, можно вы примерите как, нормально
вам нравится ну ничего… а вот с цветом, давайте попробуем
лучше вишнёвый, мне кажется он вам идёт лучше… мне кажется
первый был лучше, и они сейчас моднее… вы считаете, а
вы не знаете, где можно купить… и т.д и т.п.
Словом заручился тогда Тон вот этой маленьким крючочком
своим телефонным номером переданным Лейле, которая обещала
переговорить со своей подругой на предмет возможных костюмноисторических
вопросов Тона и уж на всякий случай как визитную карточку
равноудалённой безопасности, добавил: “Если же чтото касающееся
психологии или психики, то уж добро пожаловать ко мне…”
“Вы экстрасенс?!” загорелись глаза Лейлы, и хоть свет
этих глаз увёз в ночной Ташкент четвёртый троллейбус, однако
Тон уже знал, что знакомство состоялось.
Она позвонила через несколько дней на работу и сообщила,
что Луиза уехала по делам в Петербург, но что скоро вернётся.
Тон лихорадочно искал при этом безопасный повод встречи
без Луизы или до приезда Луизы. “Да, кстати, по поводу экстрасенсов…
вы ведь интересовались этим…” (долгая пауза) “… да…”
“Знаете, я вспомнил, что мне есть что вам показать… правда,
это не телефонный разговор…” “Всё, поняла…” “Можно будет
увидеться… только вот не сегодня, а скажем… как насчёт завтра?”
“Завтра? У меня репетиция до четырёх, а потом я свободна…”
“Тогда может быть в пять часов на Сквере?” “С какой
стороны?” “Со стороны курантов?” “Ладно!” “Значит
договорились, завтра в пять на Сквере со стороны курантов…”
нет, ничем ничего не выдал, говорил, как будто ктото
сидит и подслушивает телефон на предмет служебноличных
разговоров.
Тот вечер Тон пошёл к сестре, дабы хоть чемто себя
занять или отвлечь. Но даже там он был возбуждённораздражён.
Племянник, вернувшийся поздно с футбольного поля, вместо
того, чтобы заниматься уроками, смотрел очередной матч по
“Стар ТиВи”, сестра не могла надоумить свою дочь не болтать
по телефону словом, обыкновенные семейные дрязги. Тон,
хотя и не хлопнул дверью, но не попрощавшись ушёл уже в
одиннадцатом часу к себе и как бы в отместку за всё это
беспокойство вспомнил оправданную этими дрязгами Лейлу.
Мысль наподобие: “Вот встречусь завтра всем назло с ней!”
законно поселилась в голове и торжествующий Тон долгое
время не отпускал её от себя. Завтрашнее свидание было оправдано
сегодняшними неприятностями. Те самые маленькие хитрости
большого подсознания, о которых Тон знал по долгу службы.
Но какое отношение они имеют к этой девушке, которая
пришла в пять пятнадцать к Скверу со стороны курантов, облизывая
мороженное и теряя на нём последние мазки репетиционной
помады? Стоит задуматься над этим, как становится неловко
перед всем миром: перед сестрой, перед её детьми, перед
этой как прямой упрёк девушкой, перед нелепым собой.
И опять сворачиваешь на нарочито деловую стезю, лепечешь
чтото несусветнопрофессиональное, как будто теперь весь
город обратился в следящестыдящие глаза, а девушка, связавшая
волосы некой индейской ленточкой ото лба, выдает тебя с
головой: она столь непридуманна, столь естественно красива
и грациозна, что, боже мой, почему думаешь она идёт
рядом со мной?
В тот вечер они совсем не говорили ни об истории костюмов:
откуда, мол, взялось слово “шальвары”, появившееся в Индии
из Средней Азии и перекочевавшее наверняка через Тибет и
до Кореи. Не говорили они и об экстрасенсах, этих бывших
пьяницах, навидавшихся во сне белобородых стариков, взывающих
их исцелять недуги человечьи: от эпилепсий и до геморроев.
Нет, их разговор был о танцах, их разговор был танцем: медленно
раскручивающимся, разводящим руки ветвями, изгибающимся
змеиной талией, стреляющим кокетливым взглядом, взмахом
бровей, застывающим на самой кульминации, так что захватывает
дух, и несущимся опять сквозь барабанную дробь сердца к
неизбежному концу.
О чём этот танец? О чём всякий танец? Не о том ли, о чём
всякий футбол, всякая книга, всякое свидание? И танец этот
шёл сквозь всякую житейскую белиберду с официантками, пытающимися
быть предупредительными и идущими по сцене с подносами,
продавцами вечерних цветов, которых воспринимаешь как благодарных
зрителей, пока вместо автографа они не попросят денег, и
тогда опять надо вспоминать “шальвары” или переходить к
экстрасенсорике и опять усыплять и своё, и чужое сознание
к танцу, который вечен между мужчиной и женщиной, когда
они одни лицом к лицу…
В тот вечер он поцеловал её на прощание в щёчку и опять
посадил в тот самый четвёртый троллейбус, увёзший её в сторону
Старого Города.
Ко времени, когда из Петербурга вернулась костюмерша Луиза,
они уже нажили совместные воспоминания. Но рецидивы благопристойности
отношений заставили то ли её, то ли его вспомнить о стародавней
договорённости и на одну из встреч Лейла приехала в миниатюрной
машине Луизы. Тон уже знал, что Луиза одинокая девушка[6],
живущая в том же доме, что и Лейла, квартирой выше собственной
мамы. Тон впоследствии признавался, что первым делом подумал
обо мне, но я в то время был за рубежом по полугодовому
гранту, а потому Тону пришлось в тот вечер удваивать свою
галантность. Они поехали ужинать на берег Анхора, но там
не было свободных мест, тогда они двинулись от ресторана
к ресторану, от кафе к кафе в поисках просто свободного
места. Наконец, гдето за памятником землетрясению они уселись
на улице под тополями и поели обыкновенных пельменей, запив
их то ли грузинским, то ли испанским вином. И тогда Луиза
пригласила их к себе домой.
Тон неудачно пошутил: “Ох, не к добру, когда женщины приглашают
мужчин в свои уюты”, но за небольшой знакомостью, да и
за его безопасностью на двоих, шутке этой не оскорбились
и даже хмыкнули в ответ. Время шло к полуночи Тон не волновался
о доме, поскольку его домочадцы уехали на отдых в горы,
но об имидже одинокой девушки, к которой они ввалятся в
столь поздний час он беспокоился по своей природной предупредительности.
К тому же когда Луиза остановила свою корейскую “Тико” под
окнами подъезда и не стала ставить её в гараж, поскольку
решила после чая подбросить Тона домой, Лейла решила проведать
и предупредить своих в соседнем подъезде и Тону ничего не
оставалось как опять удариться в деланную деловитость (довольно
нелепую, впрочем, в этот час), поднимаясь с одинокой Луизой
на четвёртый этаж. Они осторожно и безопасно миновали дверь
Луизиной матери, но вот на четвёртом этаже их поджидала
соседка напротив, задумавшая настилать половую тряпку перед
порогом на новый день. Она, разумеется, поздоровалась с
Луизой, которая при этом обращалась к Тону на “вы”, чуть
ли не называя его “господином Хваном”, но кто станет верить,
что в первом часу ночи идут обговаривать дела или документы,
короче, Луиза расстроилась не на шутку, да так, что Тон
предложил покинуть квартиру немедленно, на что она замахала
отчаяннными руками: “А что они подумают? Пришёлде на пятиминутку!”
Тон согласился, Луиза пошла с кислым лицом заваривать чай,
усадив предварительно Тона на балконе. Через некоторое время
пришла и Лейла, но к этому времени соседка уже заперла дверь,
покончив со своими делами на сегодняшний день и алиби, разумеется,
уже на получилось, не пойдёт же Лейла к ней просить утюг
или луковицу, когда часы уже пробили час.
Словом, сидели они при изрядно подпорченном вечере, а вернее
ночи, разговаривая о превратностях любви, и их негромкий
балконный разговор заглушался густой и тёплой ташкентской
ночью. Через час или два, вставая для отъезда, Тон опять
напомнил свою неудачную шутку, но на этот раз как утешение
и наотрез отказался от машины Луизы, намереваясь поймать
поблизости любую попутку. Луиза не настаивала, но решила
поставить машину в гараж и они вышли за этими словами в
тихий подъезд. Раздался неподкупный кашель соседки из глубины
запертой квартиры, они молча спустились вниз и подошли к
машине. Луиза отворила дверь гаража, потом села за руль
и спросила изза незахлопнутой двери: “Лейла, ты не помнишь,
я закрывала дверь на ключ?” “Помоему да” нерешительно
припомнила Лейла. “Да, закрывали, я помню”, сказал уверенно
Тон. “А она почемуто была открыта”, с этими словами Луиза
завела мотор и нажала на акселератор. Но машина с места
не тронулась. Она вышла из кабины и, подойдя к багажнику,
вскрикнула. На машине не было задних колёс. Их сняли.
О чём думает человек, поднимая в третьем часу ночи кузов
автомобиля, который две девушки одна за рулём, а другая
держа открытой дверь металлического гаража во всю ширь,
пытаются завезти в этот самый гараж лишь на передних колёсах?
Я часто думал об этой нелепой ночи в жизни Тона, но сам
он мне никогда о своих тогдашних мыслях не сказал ни слова…
*
* *
Песнь шестнадцатая
Никак не кончатся эти рассказы, как будто и впрямь
сахар всегда в другом или в другой. Вот и Тон, рассказав
мне некоторое время назад, после того как я вернулся из
зарубежья, один за другим эти два случая, выслал e-mail'ом
нечто третье, с сопроводительной заметочкой: “Вот, рылся
в своих старых бумагах и выпало откудато именно это под
названием “Опыт по химии”, посмотри это показалось о нас
с тобой”.
… Валил первый снег. Валил увесисто,
с одышкой. Валил в густеющий вечер. Автобус одиноким нагромождением
выпирал из неотвычной белизны, но и жидко синий верх его
смягчался полотнянным небом. Снег провисал над землёй.
Поле было сплошным без конца, два тона, сцепившись и дрожа,
убегали в холодную бесконечность легко и неназойливо, а
деревья местами рвавшие взгляд, умиротворённо и не спеша
входили в покойную серость.
Холодный, со вмятинами дерматин сидений, наугад ощущаемый
блеск ободков, веничек, вжиками сбивающий колупки вмятого
снега… Тишина подбиралась долго. Откудато изза фиолетового
окна, огибая горбатые столбы, через дорогу, где машины надрывно
толкали перед собой балки света поверх силящихся луж и …
Всё стихло. Света не было.
Когда кашель с оттенком надобности пробрался в тишину и
опрокинул её безоглядно быстро, взревел мотор и захрипели
по беззащитным лужам колёса. Удар фар провис в пустоте,
и как рыбы в иллюминатор, любопытно оплывали окна неспешащие
хлопья.
Автобус дрожал и напрягался, тужился в скорость. По полю,
стиснувшему во весь охват дорогу, в корявых лапищах редких
деревьев, сжав крепко зубы, двигалась вперёд длинная и старая
машина.
К городу, ближе к простой темноте, или там, где вот этот
надокошечный свет водящих лапкой фонарей, всё быстро и нетрудно
разрядилось. Всё стало таять под ноги и приобретать остроту
худеньких форм. Оттуда, с точечного дна улицы чиркала красно
по мокрому длиннющая трасса светофора, отступающая под брови
лобового стекла и пятящаяся рывками, или нет, медленно,
с оглядкой, и вдруг распахнутый надрез, как веточку апрельского
тополёчка в костёр, зелёные извивы и капли, и всё вдребезги
разбито, и всё наспех растаскиваемо: машины, скособоченные
взмахами дворничка, волочущие позади себя две головёшки
габаритных огней по взъерошенным лужам, и сумочка, выбивающая
из глаз сапоги под самым носом вставшей на дыбы скорости.
Снег хрустом креп по обочинам.
Дом прислушивался к бесфонарному вою воздуха. Луна, закинутая
в чёрт знает какие небеса, сжалась в кулачный комок и эти
слезящиеся звёзды ёкающее… кокетство перед россыпью морозящего
снежища, шатко удерживались в спасающей полутьме. Ледок
оббил все пороги, хруст его мелким толокном, чуточку притихнув,
захватил как этого воздуха в тёплый рот, кряхтение дверей,
глотающих взрывы пара. Это было уже тепло. Это уже зажёгся
свет.
Свет выхватил людей.
Он стоял в прихожей, не поспевая за словами, высланными
вперёд, физически сгибаясь и чуть не падая, втирая усердно
половички:
Здравствуйте, здравствуйте, здр…
Промокший до ниток, до шнурков, он был ошарашенно неприкасаем
и две девчонки, ео двоюродные сестрички сгибались над барьером
чегото каждому известного, по другую сторону. Он смёл с
лица набравшиеся капли жёсткой ладонью и размашисто, не
озираясь, прошёл в комнату.
Они повинновались.
… А где ваш папа? и стало ясно, как вдруг растворилось
то, замёрзшее, пришедшее с улицы, и свет мягко озирался
уже с лампы, и лица всем покрыла тоненькая, захватившая
глаза, плёнка тёплого и красного, мило зудевшая на губах,
и все повиновались теплу.
Он…
Он…
Да, ну как вы тут?
Чистоописание. Год назад. Крепкий
домик память, с окошками в весеннюю погожесть, в обмякшую
землю и пружинистый воздух, обляпанный облаками и солнцем.
Он век помнил, что она больная смотрела с фотографии восьмиклассников
изза голов. Голова болела и судорожно хватала эпизоды и
да, с тех пор, боже, сколько он понадумал зим и лет, и носил,
носил как последний забулдыга в рваном и обшарпанном бумажнике
у груди искалеченную карточку, это больное тело с отбывшими
глазами, чтобы сегодня, сегодня…
Вы видели фотографию? А я вас не припомню.
Она, соломеннотонкая, младшая, с прошлого года (да, это,
помнится, было в августе) пришедшая без стука в дверь, она
такая милашечка, ну умница! А говорит, а говорит:
Как? Ну столько понарассказано! Это же…
Дядя Тон? Да, вот так, порусски, робко, с оглядкой
на душу, ну не может, не может же фотография врать, и …
… вы были в прошлом году, и уже беспомощно, когда
я болела…
Нет протяжения, понимаете, нет. Весь свет вот эти глухие
четыре стены. И голоса сходят с губ, и осязаемо шагают к
стенке, и возвращаются. Три пары глаз, воспалённонапрягшихся,
и стол, огромный дубовый, жук ставший задом у самого носа.
Оглушающий шёпот, и скрипы, взмывающие кверху и падающие
с потолка с вымученным полуночным светом к ногам, к пальцам,
ёрзающим в красных носках.
А что по телевизору? Брови тяжелы, и глазам как мальчишке,
накинувшему на шею дутый резиновый баллон томящим летом…
От лета красно…
Щёки… щёки…
Ну включите, включите!
… облачная погода… дзиень… садков…
… А … что за книга?
Химия. Я, дядя Тон, не успела в классе докончить, но вы
смотрите, смотрите, я свет потушу, мне немного, немного
совсем…
Что, трудное?..
Посмотрела б в энциклопедии и все заботы!
Да нет, не трудное, но я не могу понять…
А на улице всё наверное валит и валит снег. И по острому
теплу и по какойто незасыпающей тишине это пробирается
тут, по комнате, наверняка на всю безлайную округу одиноко
дотлевающей…
Да, да, да… Нука дайка посмотреть…
Они вдвоём склонились над тетрадкой. Заполняя медленно,
как после болезни, писала она пустоту за пустотой, по клеточкам…
А завтра мамка едет, младшая.
Сейчас… сейчас…, они расписывали недоделанный ею опыт,
и когда наконец заслуженная улыбка вымыла их лица, о снеге
во всей вселенной помнила разве что случайно оставшееся
непритворённым окошко в какомнибудь пустом и гулком доме…
А здесь…
Зачем он был, этот день? Зачем всё это? Если завтра, в неразведённых
чернилах утра, войдёт их мать и всех обнимет, и всех прижмёт
к груди, и они, отвечая ей…
а он пойдёт к автобусной остановке, по цапающему за ноги
морозу, и невыспавшаяся голова будет комками в висках стучать
на всю чернеющую вселенную: Уеду! Уеду!…
*
* *
Песнь семнадцатая
Если вы забили хоть один в жизни гол, то вы знаете
это ощущение огромной пустоты, в которую вслед за мячом
устремляется сердце, ещё нога не согнулась после удара,
ещё мышцы вместе с нервами играют единую симфонию, взмывшую
к единственой точке в воротах, то ли увиденной краешком
глаза, то ли пойманной наугад, ещё вратарь пытается достать
горсточку прошлого, ухватиться хотя бы за хвост, но мяч,
но мяч уже совершил то, что предписано ему на этом свете,
на этой земле, на этом поле, на этом пятачке.
И это ощущение не из взрослой жизни, когда мяч трепещет
в сетке в этом есть какаято деланность, рыбацкая показушность
рыбины, бьющейся в безвоздушнобезводных судоргах, нет,
это из детства из настоящего футбола с двумя портфелями
в створ которых попадает запущенный всем твоим телом, а
особенно ногами, которые держат тебя на земле, шар: Господи,
поведи нас по дороге прямой, по пути тех, кого ты награждаешь
своими вешками, на кого не гневаешься, по дороге тех, кто
не сбился с пути…
В восточной, а вернее в мусульманской, а если быть ещё точнее
в персидской и тюркской поэзиях образ женщины и образ
Бога взаимозаменяемы. Поэт говорит о любви к женщине, а
подразумевает мистическую любовь ко Всевышнему. Об этом
я читал горы книг. Там сказано, что поскольку в этих языках
нет показателя рода, а в письменности заглавных букв,
то “она”, “возлюбленная” может прочитываться как “Он”, “Всевышний”.
Увы, эта поэзия в переводах на русский, да и другие языки,
превратилась в род ориентального лубка, хотя, впрочем, лет
десять тому назад я прочёл в “Литературной Газете” и даже
записал некие “Тетради по Навои”, в которых переводчик как
бы транспонировал на современный лад эти самые газели. Вот
одна из них:
Этой ночью пришла в мою хижину
та,
что шагала стремителььно
с роз облетали
и лепестки, и росы ей в такт…
Пришла,
и тень её ресниц,
мелькнув страшнее тьмы кинжала,
слилась вдруг
с тьмой её волос,
накрывших грудь…
Как задрожало
всё существоо моё, подобно пыли
вокруг луча из щели, в тьме сарая, свиваясь в жгут.
Она усмехнулась,
коснулась руки моей,
сесть предлагая с ней рядом,
и взглядом
ровным, словно поверхность жемчужины
(ах, игра перламутра…)
как будто спросила:
“Бедняжка влюблённый
ну как тебе без меня?”
Что было мне ответить ей?
Я промолчал. Тогда она
взяла бутылку красного вина
и разлила по двум большим фиалам.
“Ты как безумец, как Меджнун при пери…
Скажи два слова… мы закроем двери…”
Но выпил молча я и зарыдал у ног её
без чувств… “Как мало
нам нужно”, думал я,
хмельной от этих слов.
Зачем тому,
кто всласть упьётся явью снов
иная явь, что пролита
на скатерть неба
ало?..
Светало…
Представьте себе на мгновение, что речь здесь идёт не о
женщине, а о Боге, и вы ощутите все чувства человека, забившего
гол…
Но сколько голов, которые объединяет в единственном сердце
извечная игра?..
Думая о так и не женившемся Тоне Хване, я всегда примерял
эту схему обратно, мне казалось, что случаи и отношения,
им поведанные мне изустно или на бумаге о том же, но только
в обратном порядке. Человек искал не цветы минутного наслаждения,
а запах долгого воспоминания, те сцентии, приходящие к нам
ниоткуда и никуда же от нас уходящие. Ведь не о списках
женщин, наподобие Серёгиного дневника, моё повествование,
но об одной единственной женщине единственной владелице
и царице своего собственного времени в мгновениях наших
жизней, той, о которой тот же самый и такой же самый Навои
сказал в своей другой газели:
Соедини два конца и в разбитом
сердце осколки твоих сновидений
вспыхнут, как вечное царство
развалин,
чтобы померкнуть
в блеске вина или в страсти привычки…
Ах, почему не смириться мне с богом,
с долей своей, что приснилась итогом,
который и въявь Он не переиначит.
А стало быть, всё равно, как обозначит
имя Её
с прописной ли,
в кавычках…
*
* *
Песнь восемнадцатая
Иной раз мне кажется, что хоть и рассказываю я вам о Тоне
Хване, но мало того, что приплетаюсь к нему я сам, ещё и
Серёга по меньшей мере оказался волейневолей в той же упряжке,
и иной раз уже мнится мне, что я рассказываю сказку о трёх
братьях, пошедших в поисках царевны и разошедшихся на развилке
трёх дорог: “Пойдёшь вернёшься”, “Пойдёшь быть может
вернёшься, а может быть и нет” и “Пойдёшь не вернёшься”.
Только кто из нас пошёл по какой дороге? По какой и по чьей
дороге иду сейчас я в своём повествовании?
Хотите, расскажу, что мне приснилось сегодня ночью, после
того как я написал предыдущую главку с Навои? Только скажу
предварительно, что даже будучи русским, я рос в некой азийской
дремотности, покорности пыли земле или же земли пыли,
а их обоих небу, в котором царствует единосущее солнце,
которое ктото вотвот вколотит в землю, в пыль, и тебе
остаётся лишь смириться. Потом, я гдето вычитал, что Ислам
переводится как “покорность” и я понял, что здесь он разлит
вне, помимо слов, и потому когда меня застигали внезапным
московским вопросом: “Калигулаев, а вы какой веры?”, прикидывая
на меня допустимую меру антисемитизма или же антиславянизма,
я всегда терялся и по этнической ориентированности той или
иной кампании, увы, извечно оказывался в противоположных,
коих лучше опасаться. Ну а теперь можно о сне.
Снится мне, что держу я в руках некий современный комментарий
на Коран, который не чурается ничего современного эдакий
том наподобие подшивок журналов или огромного телефонного
справочника, листая который можно найти и страничку рекламы,
и даже рисунок обнажённой женщины… Пробегаю глазами одну
из статей, о математических чудесах Корана, о том, что всё
в нём кратно девятнадцати, потом натыкаюсь на одну из историй
из жизни Пророка, а может быть и Суру из Корана, говорящую
о нём, и там он отвечает на вопросы то ли христиан, то ли
иудеев, и на каждый вопрос следует ответ наподобие: “Это
есть ……..мон”. Слова до окончания “мон” непонятные, их
нет даже в арабском языке, но зато комментарий объясняет,
что слова сии, напоминающие детских Покемонов или Диджимонов,
состоят из названия некой местности, с народом, живущим
там и окончанием “мон”. Правда, я быстро перелистываю эту
страницу, хотя запоминаю приблизительно где в книге она
находится страница в районе девяносто седьмых… И опять
так называемые “тёмные места” Корана, которые по традиции
считаются тайнами Бога, кои Он объяснит в день светопреставления.
А в этом комментарии этим объяснениям посвящены целые статьи,
как в учебниках иностранных языков сразу же после слов
урока.
Некоторые Суры Корана начинаются с отдельных букв, к примеру
вторая: “алефламмим” или тридцать шестая “йасин”
и это относится традицией к непознаваемым тайнам Матери
Книг. И вдруг в этом многостраничном справочнике или же
это уже было помимо него? из уст некого старикаиндуса,
появившегося на минутку как со страницы и сказавшего,
что их надо читать на санскрите и тогда объвляется их значение:
“Я иду путём сансары…” и на странице выкладываются почемуто
буквы кириллицы в неком подобии латинского звучания: “домо
и ды уд мыды…” нечто смутноминутное… и тогда мысль о
внесловесном постижении языка, данном пророкам выпроваживает
меня на поверхность яви через безуспешный поиск той страницы,
где были эти “мон”ы…
Да, я держал в руках эту книгу смыслов…
Сумел ли я объяснить чтолибо из жизни моего друга Тон Хвана?
Сумел ли я сам разобраться хоть в какойто степени в ней?
Или изначально я шёл по другой дороге и рассказывая о Тоне,
на самом деле думал о себе? Мне кажется, всётаки чтото
произошло в жизни и в природе человека, или опять я тешу
себя литературными иллюзиями, но как биолог накладывая
Тона Хвана на Дона Жуана, я вижу, что здесь речь о материях
более субтильных: не по телам охотился Тон Хван, а по душам
и вдруг понимаю, что само это выражение “ловец душ” было
сказано ещё одним извечноодиноким, о матери которого как
о своей матери написал мой друг.
Моя душа была поймана в сеть давнымдавно, в десятилетнем
возрасте. В ту ночь Сборная Союза играла в финале Кубка
Европы с Испанией. У меня не было никакой возможности увидеть
или хотя бы услышать по радио ход самой игры: скорее всего
она транслировалась столь поздно, что взрослые наверняка
запретили мне вставать далеко заполночь, хотя мне всётаки
кажется в той ночной блокаде было участие генерала Франко,
всё ещё находившегося у власти и эту игру все радиостанции
Советского Союза помоему просто не передавали. И даже наутро
в “Последних известиях” об игре не сказали, как будто бы
её и не было. Я был убит этим неведением и некая глубиннная
тревога ведь стань наши чемпионами Европы, разве не трубил
бы об этом громкоговоритель самим Левитаном, копошилась
на самом донышке моего маленького сердца.
Еженедельник “Футбол” хоть и выходил по воскресеньям, но
в наш киоск поступал лишь в среду и все эти полнедели
я ходил сам не свой не заболел я лишь потому, что это
неведение держало настороже весь остаток моей души и сил.
И вот наконец я выкупил потным пятаком этот злосчастный
“Футбол”, разорвал его криво по сгибам и кинулся в самую
его середину, где обычно печатали отчёты об игре сборной.
Наши проиграли: 12…
Спросите меня сейчас: помню ли я хоть одного из наших, игравших
в той игре и я назову разве что Численко, кажется забившего
тогда гол и то не буду уверен в своей правоте, но об испанцах
расскажу вам всё: все эти Лапетра, Амансио, Переда, Марселино,
те, которые пронзили моё детское сердце болью первого недетского
поражения. Чёрная севильская ночь, в которой сверкают шпаги
их атак и я как годовалый бычок , выставленный лицом к
лицу со своим позором: иду, спотыкаясь на каждом следующем
шагу: сейчас игра кончается, сейчас я упаду… Вот откуда
этот звонкий ДонЖуан.
Я наговорил здесь много, но не сказал вам одного: что Тон
Хван, мой друг и одноклассник Тон Хван погиб в возрасте
23 лет, когда на него упала, сорвавшись с подъёмного крана,
каменная, бетонная плита…
*
* *
Да, я не сказал вам одного,
что Тон погиб в 23летнем возрасте под железобетонной плитой,
сорвавшейся с крана и это случилось накануне праздника 8
Марта. А то, что рассказывал вам я это как свет давно
потухшей звезды, свет всё мерцающий и не то чтобы щекочущий,
но колющий наши земные сердца мягкой болью непобедимого
поражения. Друг ли пропал и растворился в этом свете, страна
ли, эпоха ли, молодость ли, или просто само время не
всё ли это равно между собой. Как перед светом той безразличной
любви, что по выражению другого поэта движет солнце и светила.
Но только вот куда… куда?
Есть неизмеримое удовольствие в забивании голов когда
звёзды высекаются из глаз, но есть и мягкое удовольствие
последнего паса, неуловимое движение, отвлёкшее первоначальное
внимание замахом на ворота, когда вратарь сжимается в твою
сторону и уже ступил шаг, и уже опора его пала на ближнюю
ногу, но в это время ты краем глаза, краем сознания видишь
одинокого, забытого, неприкрытого друга в дальнем углу вратарской
площадки и неимоверным разворотом стопы, все ещё направленной
на ворота, умудряешься полосануть мяч по касательной и он,
надрезанный, пролетает как в замедленной съёмке над опешившеопустошённым
вратарём и по кругу как долгий луч далёкой звезды опускается
ко внезапно ожившему лицу твоего друга, летящем в неистребимом
прыжке и всё кончается вдалеке от тебя… Вот о чём эти заметки…
И наконец, эту последнюю рукопись Тона, в которой я не менял
ни буковки, ни запятой, мне недавно передала его сестра
и не сказала при этом ни слова.
Песнь девятнадцатая
Наконецто я отделил его от себя.
И это его слово.
Я взялся писать из той простой
причины, что почеловечески хотелось быть понятым так, как
видел всё я. Мне теперь не надо кокетничать, я всё хочу
описать добротно, именно так, как происходило на самом деле,
не досаждая никому экивоками и стараясь всё это высказать
поскорее. Теперь я понял сколько времени у меня на то осталось,
и самое честное самое хорошее теперь для меня. Я обещаю
сам себе: не буду оглядываться на написанное, это решено
ещё утром, когда я шёл на работу мимо здания КГБ, мимо серьёзных
людей, каким бы сумел стать и я. Что меня толкает на этот
шаг? Если б хотелось отличиться, приобрести личину, то так
ли это делается, хотя я знаю против вчерашнего, что теперь
этот элемент даже в том, что я пишу. Ну да ладно, мне ничто
не придётся переправлять, и … это не художественное произведение,
оно в отличие от других даже мысленно нигде не публиковалось.
Впрочем, касаются слова и другому могут сказать о другом.
Со словами можно делать что угодно, спросите это у Мира.
На Мире я остановился. Он не любит
сумбура, о нём я ничего не скажу, никто его не знает, но
он единственный, знающий меня. Он должен знать, что это
пишется и пишется так сумбурно, что лучше бы этого вовсе
не было. Хотя б если не возможно так, то сегодня.
Ну ладно, от этой минуты, начавшей
картиной, которую опять надо пережить. Хорошо.
Я
обыкновенный человек, ничего не знающий до сих пор, и поэтому
стремящийся когото чемуто научить и чтото подсказать.
Никаких философских сентенций, одни мои ощущения, вот что
важно. А это можно считать лживой преамбулой.
И всё прожитое мною было лживо.
Что я хочу сделать? Глупый вопрос, выдающий меня с головой.
Поеду к бабке, на станции лягу под поезд. Выживу, не сойду
с ума, запрячу глубокоглубоко сжечь, порвать не сумею.
Случись так, стану неистовым человеком, таким, как задумывалось,
буду пахать, гнуть горб и действовать по любому другому
выражению, означающему изнуряющий, самоотверженный труд.
Сойду с ума вылечат, то же чтонибудь выявится, это будет
случайно в любом случае, ну оказался человек под поездом.
И для работы и для дома. Мир же сделает точно то, как я
хотел или просил меня он о той рукописи с Олечкой.
Подлая надежда выжить, она хоть откуда просочится. Мнето
хоть как учащемуся на медфаке с этим бы надо согласиться.
Всё было бы прсто. Да и сейчас всё решено отменно: тютелька
в тютельку, как говорит Серёга. Аха, появился какойто достоевщик,
сел над столом и стал замышлять о самоубийстве.
Нет, с нервами у меня всё в абсолютном порядке. Если не
считать короткое вчерашнее. А хорошо я придумал, это будет
висеть на шее, толкая под поезд до тех пор, пока не лягу
обязательно.
С нервами ничего плохого. Стечение обстоятельств это повесомей,
это поважней. Давайте разберёмся. Детство без дефектов,
отрочество без аномалий, если со стороны не кажется важным
то, что у меня не было родного отца, и что потом умерла
мать. Это только когда вспомнишь. Ну хорошо, договоримся,
что на примерах, окружающих тебя со всех твоих неблагополучных
сторон, можно перемолоть что угодно, можно понастроить каких
хочешь благополучных экземплярчиков для нового примера.
Не в этом дело. Вот этих длиннот не надо. Отчётливей. Отчётливей!
Всё всегда было обыкновенно. Ни в чём не убеждать. Всё было
как положенно устремлённо к высоким образцам. После Даманского
я хотел быть Бабанским, ну и всё это обычные глупости, на
которые жалко тратить листы, и вообще всё прошлое отбросим,
как несуществовавшее, или по крайней мере, если пофолкнеровски
(почему так долго прожил?), то не воздействовавшим на меня
вчера.
Вот вчерашний день, к нему приглядеться повнимательней стоит.
Вот уж воистину: мысль изречённая есть ложь, это всё хотелось
бывыплюнуть из себя комом, но чем уж бог наделил.
Если всё обойдётся, я напишу аккуратно, художественно, изощрённо,
всё что было со мной до того.
Это новое во мне началось в тот день, когда парень с девчонкой,
т.е. наоборот, встали под поезд. Раньше я пообещал, признался,
что никогда не буду звонить Марине, и с ней я играл всюду,
где не касалось самолюбия. Ну это легко, поверить в то что
думаешь.
Я дежурил и всё бы могло сойти, если несколько людей не
просмеялось, ну и обзывали, мне было почти безразлично,
я бы мог снести, хотя прошлое сказалось и тут. Поэты мир
воспринимают не так этому я был научен давно и делал всё,
чтобы мне так казалось.
Один ориентир, один якорь, думать, думать, что как кончится
тетрадь я поеду под поезд. Всёвсё не касающееся этого
частного случая остаётся в стороне. Политика, искусство…
Да, вчерашний день, не уходи по ассоциациям.
То, что эту тетрадь никому не видать одно утешение от
мысли, что и в самобичевании, иступлённом саморазоблачении
пошестовски, толстовски, можно находить наслаждение. Я
ни во что не буду вдаваться. Вчерашний день.
Даже с предыдущего.
Сразу после работы я уехал домой. Эти дни мне хотелось поработать
так, как работают мастера, безвылазно, попробуя и поплакать
и погаллюцинировать. Этому тоже можно научиться.
Это всегда было неправдой. Когда я опрокидывал голову на
руки, даже если вокруг никого не было, даже в пустой комнате.
Ведь самто наблюдал. С чего я начал писать стихи? Ни одно
из них не испытанно мной, это шло так, на поводу. Пришло
слово и корпишь, создаёшь чувство, которое знаешь понаслышке,
и главное, чтобы не было узкоэпигонским, так, посмотрел
в окно и чтото увидел, или напрягся, вспомнил. В памяти
сам второй, не дающий честность, исчезаешь, остаётся то,
которое будто бы было целиком и вправду. Я был нечестен.
У меня не было ничего за душой, всё понаслышке, всё с чужого
плеча и на свой, якобы, лад. Мира слова я разносил по другим,
продавал их. И не только его. Всё что приобретал продавал
от своего имени.
И даже с этим я бы мог прожить не хуже других, никто бы
ничего не подозревал. Какието способности у меня всё же
наверное были и тут самое приемлемое и осязаемое не хуже
чем у других. Нет, всё отвлекаюсь.
Итак эта смерть меня нисколько не тронула. Она была очень
смачна для обыгрывания и пришлась кстати. Но где я сам поверил?
Посмотрим.
Дома который день уже нет сестры можно назвать и сучкой
и… но всё это игра. Пока не подумаю она меня не касается.
Её не было. Я стал обыгрывать, и придумал то, перед этим
исписанное, лживое и нисколечко не волнующее отписал как
те стихи и хватит. Хотя это лень, там проскакивали моменты,
я ведь говорил, что гдето поверил.
Ну ладно. Сел писать. Начал то я ещё здесь, на работе, в
ночь, это было началом того романтического для себя идеала
работающего на износ человека. Не хватало орлиного профиля
и длинных волос. Стал писать. Сделал вид, что расчувствовался,
сел на раскладушку, стал дёргаться, изображать всхлипы,
судороги мыслей, это ведь побайроновски: смотрите, сколько
выражений на лице и глаза, узкие, которые хочется видеть
чокморовскими, ловящими режиссёров, и появились какието
слёзы, я подумал, что плачу по ним, по этим двоим, доставленным
в морг, но когда менялось лицо и хотелось быть честным,
как по книгам: честным к себе, презирать себя я не презирал,
но самосмущающийся вид, такой покорнонепосредственный,
я делал. Я любил всяких психов, то есть интересовался ими,
они становятся ВанГогами, а я ординарность, с какойто
стати одарённый кличкой поэта и из кожи вон, оправдывающий
эту кликуху. Я нормальнейший человек. Стандартнейший, стереотипнейший
и играющий, играющий.
Я пописал, отказывая для романтического самоплезира в чёмто,
ну не схватил кусок хлеба и не завалился спать, как мне
хотелось, хотя уснуть я не уснул, чтобы писать со сна, когда
якобы оригинальней получается.
Потом я поехал на занятия. До того зашёл к соседке, вызвал
сестру и сказал: У тебя нет дома, не приходи больше. И довольный,
строя давай внимательней, в общем для истории, какоето
лицо, гдето увиденное, подслушанное, или наконец, самое
лестное, модет быть собой выдуманное, прямо от души. А привёз
я её к себе изза какойто секунды в библиотеке, когда пусть
будет так, если необъяснимо, я не мог допереть до какихто
истин, кишка была тонка, вот и выдержал стиль: жизнь потечёт
добротная, такая, к какой приходят Пьеры, Андреи, учащие
людей, только это не по мне. А привезти я её привёз. Не
было за этим души, если разве что иногда мелькавшее ощущение
с готовностью подхватывалось и муссировалось. Чувства юмора
у меня не было и реакция совсем не та, которую подозревал
Мир, я просто знал, что скажи, ляпни чтонибудь связное,
подделку под сложность, тут же всё произойдёт так как ожидаешь.
С потугами и это можно было накропать более менее манифестовым,
эффектным, нет, сегодня утром мне всё, так забавлявшее в
Мире, ограждавшее от чужих рук, которые на самом делето
и больше значат, элита, как же, запонятненькое было вот,
ленточкой идущей перед глазами, я чувствовал его ощущения,
его мысли.
Он верит, правильно верит, что это пижонство, интеллектуальный
каприз, опять ушёл.
В автобусе среди людей, удобно и красиво, ой как смотрится
в щёлочку, отвернуться к окошку, пару раз вздохнуть, подвигать
лицом, пошевелить губами, выдать для завидующих поэта или
натуру, непосредственную, чуточку сдвинутую по фазе от нормали
и оттого прелестную. Поменьше имён, это тоже пахнет литературщиной.
В автобусе я играл этого остереотипевшегося себя, опять
образ от которого не убежишь: раздвоение, которое можно
опять же истолковать как паталогию. Это было бы лестно для
меня. Играл, когда мне совсем не хотелось того делать, а
теперь соглашаюсь, что просто сидеть я бы не мог, это дикость
ещё в установке, за который ты не отвечаешь.
Я отрывался, веселился, мне сегодня весело, если не вспоминаю
головную боль, выпирающую в висках от набухающих мозгов.
Ещё буду отвлекаться, а то, что было вчера между двумя и
десятью, я завтра напишу дома, ни детали не пропуская, без
всяких ремарок и отступлений. Сегодня так, по инерции, без
усилий, только что был на крыше и на край, на жестяной бортик
побоялся встать. Высоты я боюсь. Вспоминать об этом тоже.
Но под поезд я лягу, лягу и не лязгну зубами, попрошу приготовить
дома стакан водки, скажу, что уж очень хочется отметить
8 Марта и он ли мой, этот стакан?..
Я приехал на занятия, как всегда у порога ещё раз просмотрев
себя, предстоящего, небрежно, надеясь на свою обычную необычность,
а Сашке Мелкову, спускавшемуся с лестницы выстроил отрешённейшую,
трагическонеосознаваемо выдаваемую морду, пожал руку, обрадовался
неподкачавшему голосу, что получился очень кстати, таким
же, таинственным и причащённым к недостипостижимому им.
Он просил Лёву сверху, никого наверху не было. Я вошёл в
класс всё тот же, снимая плащ заметил про себя, что все
опять мол будут мелко и ни о чём не подозревая смеяться
и перебрасываться, а у меня вот такая тайна, которуюто
я так этим показным полустолбняком хотел выказать и продать.
Дальше того я не думал, мне давно уже важно было только
ощутить настроение, которое сегодня пользуется самым большим
спросом у покупателя.
Кроме медфака, о котором знали на работе, я учился на незнакомом
работе юрфаке. В первый я поступил из тщеславной мысли оказаться
у дела, в случае, если ничего не получится, так, просто
запасной ход, а что должно было получитьсяне получиться
я и не думал знать.
На юрфаке тоже было доказательство. Изредка я к этому прискрепивал
политическую карьеру человека благословенного музами, изредка
мог подумать о международном праве и т.д., но это всё к
прошлому. Ко вчерашнему это отношения не имеет.
Цель одна. Останься в живых, я опять, не рассказывая даже
Миру (мне казалось не то, что ему будет больно, ему, не
хотящем справиться с одним биофаком, и потом это модно,
уходить в народ таким макаром, чувствуя за собой на всю
жизнь право смотреть со стороны) буду учиться на обоих факультетах
и при случае могу сказать что на одномде учится мой брат
Хон (и имя подыскал), мой близнец, вот и опять вышли на
раздвоение. Как видите я в своём уме. Не хотелось (это встречается
очень часто) бы чтобы бабка и иже думали, что правы, хотя
это, при некотором ходе будет несомненно. Бабка всегда боялась,
что я сойду с ума. От чтения книг, от одиночества. Мне важно
доказать, что это неправда. Можно здорово жить и читая (Ленин)
и без жены (Декарт). Впрочем, если считать, что… моё чтиво
меня сегодня не обременяет, а если да, то я ведь говорю,
что то, прожитое мною ложно от начала и до конца. Может
быть и этот шаг неумное пижонство, до самой сути своей
вытекающее из меня. Этого лживого, не сумевшего себя перебороть,
чтобы сказать: Да, так должно быть. Нет же, пока я не коснулся
тех от 2 до 10, мне бы лишь писать не оглядываясь, и зная
одно из двух: или я это прочту здоровый и невредимый после
поезда, прочту сидя долго, разбирая каждое предложение до
косточки (вот отчего мне сейчас освободиться и только),
либо если кто прочтёт, то мне видится Мир, которого я столько
времени обманывал. Но об этом позже.
Я рисовал на уроке, сначала у Анны Павловны, потом у этого
мужчины и везде одно, одно: Тон Хван личность (аплодисменты),
только это так фальшиво, что порой сам принимаешь за чистую
монету.
Я недавно спустился с крыши. Там я струсил. Это было после
того уже как я начал писать. Может оказаться что и эта исповедь
самому себе, читающему хорошее, честное и все положительные,
резко положительные эпитеты света, кокетство. Потом я приехал
домой. Опять хихихи да хахаха, котороето прорывалось
сквозь сценарий по моим морговым, подпоездным деткам и патетически,
до слёз, проникновенней, ещё, ещё, оставившим меня, но которые
придут, придут и заберут меня, заберут отсюда, где я страдаю
под какимто игом, где я, словом опять тот же выход на ту
же тропу, где сижу я, непризнанный, но гениальный.
Опять эти автобусы, опять это вечно преследующее зеркало,
не упускающее ни один твой шаг. Мне опять чтото неймётся
доказать. Аха, дома подворачивается всё очень кстати, сестра
не приходит, статут изгнанника, демона соблюдён и можно
пить кофе, можно принуждать себя, измождать, чтобы зеркало
не упустило ни один твой шаг.
Тогда приехали Хаким с Вовкой. Я им сварил “кофе повенски”,
с тем изяществом и аристократическим запасом щеголяя перед
ними своей ошалелой демократичностью в стиле хиппи (знают
ли они такое?): У меня как видите беспорядок (сестра в тот
день из услужливости, из испуганного полудетского раболепства
вымыла полы и прибралась) и тише, и в ладони: и не будет
никогда порядка. Хорошо ещё у меня хватало совести не ляпнуть
как Артём: Вы ведь знаете, я романтик. Они сидели напротив,
жалкие в своей неграмотности и наклоняясь к стакану, стоящему
на столе, дули из него кофе. Им хотелось скорее, нет, я
их нисколько не жалел, и я специально не подстраивал, но
было в них чтото свиническое, в сбившихся друг к другу
и пытающихся держать ещё гордо голову своего разговора.
Делового, спешащего. Как видно людей я никогда не любил.
Они были гадки изза моей гадкости, а сюсюсю мне не хотелось
хотя бы изза того что так почитаемы и Шопенгауэр и Ницше
и т.п. Кстати о философии. Я в своём уме, я это доказываю
и буду доказывать, чтобы оправдать нагаданное сумасшествие.
Если всё обойдётся без эксцессов, то я хотел изучить её
тщательно, что для меня означает прочитать и записать то,
которое с самыми маленькими словесными добавлениями могу
выгодно сбыть от себя лично, начиная с индийской и кончая
экзистенциализмом, и всё это перевести в литературу. Так
ещё не делал никто, вот что меня влекло к этому и побуждало.
Например какойнибудь Шавира, воплощающий жизнью своей Упанишады,
которые автор изучил досконально и сумел многое в немногом,
передать дух и т.д. и т.п. Так по всей философии. Потом,
что же касается того, что я с юности научен тому же глупому
романическому взгляду, что умирать в 30 лет поесенински,
чёрт побери, поэтично. Разбить своё сердце, когда за спиной
уже выстроились томики, вместо больничного листа и акта
о смерти. Я это в себе развивал и не знаю, даже если сумею
выбраться из этой необъяснимой передряги, перестану ли верить.
Скорее всего нет, но…
Что касается самого близкого времени, да и вообще в таком
случае прекрасной “лебединой песни”, поражающей и потрясающей
своим отчаявшимся и безысходным криком, я хранил интеллектуальный
подарок: историю Чингизхана, преподнесённую в собственной
интерпретации. Уникальный человек, уникальным взятый для
истолкования третьей уникальности, в этом есть чтото заманчивое,
достойное той скуки, с которой была заполнена целая тетрадь.
Вот. Это была бы пьеса, рушащая все прежние представления,
задумкой появившейся поиском аналогии сегодняшней жизни
в её энциклопедическом объёме. Кроме того, коль скоро благодушно
были дарованы 30 лет жизни, впереди была ещё и научная деятельность
на кафедре высшей нервной деятельности и изматывающая работа
у академика Туракулова. Опять пресловутая романтика. Это
как сегодня во сне мне ктото говорил: ты думаешь и живёшь
как ты думаешь и живёшь и тебе думается и живётся так что
жить и думать иначе нельзя. Я помню общее настроение фразы
и мне тут пришлось уж подбирать, но и вправду, во сне ничего
иного, побоку этого, чем жилось не находилось
(здесь меняется цвет чернил, М.К.)
Смех да и только. Ручку оставил в столе на работе.
Утром, вот всегото час назад видел Мира. Он подошёл к работе,
подошёл чуточку позже, я опять был просто тем пижоном, который
“умер и снова возродился”, ловко отгарцевал, потом, когда
он известив, что обшарил меня вчера всего ушёл, желая удачи
на сегодняшний день, я знал, что теперьто уж он сердится,
уж взялся за гуж, а ты мол пихаешь под нос хрестоматию англофранцузской
литературы, посмотри мол в предметном указателе сплин и
прочти что к концу вторых суток симптомы размываются в такой
блаженной улыбке.
Ладно, потом как и должно я грустно смотрел ему вслед, хотя
только додумался, что это случится сегодня вечером, что
и тянуть. Сейчас подойдёт сестра, возьму с ней в городе
подарков на 8 сегодняшнее марта и поеду. К чему тянуть.
А то и вот вариант: кутнул же он напоследок. Попробуйто,
вмиг приштампуют неудачную любовь, а чего доброго и болезнь
века, перемежающуся с классической мигренью и периодическими
затмениями.
Итак сегодня. Приехал домой, только что и никакого чувства
юмора, оцепенение какоето юморное, когда отмахнусь: сегодня.
Конечно же разложу все вещи, сожгу стихи, хоть в этом исчезнет
беспомощность, а они таковы, я знаю, разложу всё писанное
мною опять с надеждой что это будет литературнейшим делом,
какимто кладом для постижения бытия. Ничего этого тут и
в помине нет. Как правда с этой тетрадкой? Надписать Миру?
Но вот что, это будет опять красив, парадоксальнейшим образом
безумно отсылать ему, которому в тысячу раз это, нет известно
ли?Дай бог, тогда ему будет проще всё рассовать по полкам.
Всё хрестоматийно, что я ничего не могу поделать.
Нет, а задумано это было от позавчерашнего уже дня
и давай же с утра позавчерашнего дня.
Встал и дальше всё по предыдущему, даже позанимался гимнастикой,
пугаясь, что это ущербно для моего “трагического” настроения.
Мне надо было держаться. Причины известны, столько листов
потрачено и разве впустую? Обычные те 11.30, но оттого,
что я покинут и одинок, можно и рекомендуется посидеть,
ну хотя бы в гостинице “Ташкент” в креслах и пописать.
Кресла глубоки, этаж, ещё этаж, и не лучше ли вниз,
там темней и обстановочка подобает той, писанной скудным
воображением. Подойти к женщинеадминистраторше и спросить:
Можно я у вас письмо попишу? Да, именно письмо, она не догадается
что это смертельный рассказ, гениальный рассказ на котором
я сгораю, не видимый, не видимый никем. Ещё красивее жест:
подергиваться, когда к лифту проходят людишки. Ну да, ну
пусть, пишу я, пишу, понимаете, это велико, это потому вашим
овечьим мозгам необъяснимо. Дёргаюсь, хватаю ручку, уволакиваю
на колени тетрадь, смотрите несуществующие зрители, смотрите,
что есть муки творчества. Пустота. Выхолощенная пустота.
Банка, звенящая под ногами. Ладно, Головлёвых читать не
буду, не положенно, повторяю свои будущие голоса: Эй, ну
почему люди такие? Я не человек, это в голосе, я личность,
которой по чьемуто убеждению всё позволенно. “Мир, они
ушли (кто они? о чём ты?), они оставили меня… У меня невыразительный
голос. А я читал, что голосом, одной интонацией можно чёртте
что передать на расстояние.
Ловлю себя на том, что это даже не честно, но на новой
волне это сбивается, глушится и я дальше ставлю и ставлю
себя на придуманное, безвкусно и пошло придуманное место.
Не хватало сейчас воскликнуть так, как требует стиль: А
онито умерли… А не воскликнешь, то на кой влезаешь в патетику?
Словом мне не хотелось быть тем, что я есть.
Аха. Я спустился вниз. Мир. Поновому пострижен, там на
углу, выпирает улыбка, заработанная ещё наверно от той самодовольной
мысли, что он умён, а я околачиваюсь год вокруг него. Я
ведь недобрый ничего не говорит, то же натяжка под стиль,
у меня холодные глаза, у меня хол… это надо повторять. Стоит.
Обличений никаких, только обо мне, я не знаю себя, чтобы
совать нос. Прочь, прочь улыбку, не соответствует, серьёзней,
подтянуть лицо, сбросить его, с чего, с чего, недурно, просто
потрясающе заплакать у него на плече. Во разговоровто в
их среде, и потом я чудочеловек: от него хоть что жди,
иду, иду и чувствую провал, тужусь, болезненно улыбаюсь,
устало, умиротворённо, чем не образ? Он расспрашивает о
делах. Дела у меня хороши, хороши. Это должно быть сказано
настолько правдоподобно, чтобы потом, а потом то обязательно
уж выдастся, это шарашило бескорыстием, добротой и т.п.
висюльками.
Это должно быть сказано настолько правдоподобно, чтобы сразу
зналось: дела у меня плохи. Можно прищуриться, можно отмахнуться
лицом, не сотня ли приёмов как. Он смотрить в глаза, что
же, пяль свои, только на весь день запрограммируй их на
эмоциональнейший ум, так трудно дающуюся тебе ясность. Потом
это окупится сторицей. Разговор такой, подводно разумеется:
у меня трагическое несчастье, никто об этом не знает, никто
не способен это знать, люди смеются, я плачу, мечта погибла,
что я без неё. Ну и вот только замешанная в ХХ веке. А поэпизодно
так: пойдём в музей, стоп, стоп, выпьем кофе, это ещё больше
взбодрит для игры, там за столом неожиданно задрожат губы,
обрадуют и тут же подадутся на стол. Мир увидит, он всё
видит, станет расспрашивать о делах, стало быть можно отпускать
маленькими порциями это, но, но подспудно, под внешней бесшабашностью:
“Пробьёмся”, подсказывать: дальше же, дальше же, какой ты
недогадливый, я же не об этом хочу. Дальше музей Ленина.
Мир есть Мир. А я теперь вот так. Там внизу можно выпустить
Марину, также бесшабашно, сказать повеликохипповому что
я ей звонить теперь не буду, а потом, оп! Ход, вот как:
шёпотом, непременно шёпотом подзываю его и “ближе, ближе…”
и на ухо: “Они стояли вдвоём в обнимку, а люди думали, что
их поезд задавил”. В меру нелогично? В меру непонятно. Аха,
вон каким может быть Тон, но не получился, но потом отстрочил
эту фальш. Дальше к кинотеатру, можно и поговорить о пустяках,
но занятто я другим, другим, ты идёшь, Мир? Потом ты скажешь:
Я сегодня во сне говорил комуто: вы очень хорошо подготовились
к сегодняшней нашей беседе, но ничего кроме боли вы мне
не принесли.
Тут моя очередь понять сокровенный смысл и также туда запихнуть
очередной штамп: я понял, но меня, меня не понимают и я
иду понуро и безразлично, и готовый ко всему. Я дуюсь. Это
видно ему. Потом это же настроение сохраняется мимо Анхора,
дальше, я умиротворён, изредка истеричен, всё в дозе, и
у меня горит грудь: я во сне шёл в гору. “Аха, сердечко
шалило”. Другое аха! С дрожью в кафе шальное сердечко,
хорош букет переживаний. Честен. Ффу, подло я говорить
не буду. Всё обыкновенно. Идём ещё кофейку. Там меня сам
кофето должен раздолбать. Да плюс предрасположенность.
Идёт. Теперь я безумен, теперь я дурею, я теряю глаза, и
дурачусь, вгоняю себя в истерику, удачно, кружится голова,
всё бешенно, сейчас я сойду с ума, теперь у окна в автобусе
можно поиграт депрессию. Было ли это со мной. Да, так.
Я ещё правда не знаю, чем это кончится, но этот день я выдержал.
Хвала мне, хва… стоп, ещё не доехали. Мимоо ушей Мира: что
ты повторяешь уже написанную композицию”. На Алайском перед
отъездом хорошо бы для восклицательного знака прошептать,
только прошептать: Мирушка, ты ведь не уедешь без меня в
Карши?..
К автобусу устало. В автобусе минуты выжидания, всё Мир
теперь не видит, но где моя честность, я должен помнить,
ах, о тех двоих, вставших под поезд.
Да, теперь я понимаю, даже под поезд я иду изза торжественности.
Мне сейчас на это наплевать. Это писалось, чтобы отпечатать
тот день, который так быстро стал безразличен, надоело писать
этот рассказик.
А теперь ещё поджойсовски вкрапить те, злосчастные от 2
до 10.
И тем не менее ничего там святого, вот что я вынес. И тем
не менее.
Нет газет. Пусто, ящик скрипит как гвоздь по жести, а я
в эту минуту человек тень на стене от далёкого, метущего
по земле фонаря, иду, иду к стене, теннь будто на месте,
а постепенно, чем ближе покачивается стена в глазах тень
меньше и меньше, почти не заметно превращение, и стена почти
рядом, когда можно усечь, что тень стала ни больше ни меньше
твоим повторением, а ты в то время пошёл в сторону и тень
пошла в сторону от фонаря. Ящик скрипит. Шаги по лестнице,
дверь, никого нет, сестра сучка и обо всём сказано, надо
работать, дописывать, Миру я обещал уехать к бабушке, не
поеду, честность к деткам, пережду; выспаться тоже нечестно,
как и почитать газетку и т.д. и т.п.
Съесть только кусок хлеба, больше пропадёт измождённость,
и ходить по комнатам. А если повеситься, просто, ничто об
этом не говорит, я должен, эти дети, вставшие под поезд,
честно, вот выхожу, нахожу верёвку, впрочем простыня, платок,
наконец здесь, привязав на косяк: ух, не знал какое малое
дело, зачем в 30то лет, сейчас, я уверен этого не случится,
но до чего, докуда можно добраться, это ведь потом уникальный
экземпляр кусковой жизни, на косяке, смачно, приходит сестра,
всё закрыто, входит и видит труп, записка, нет это было,
оригинальней: Люди, не делайте этой глупости, я сам этому
не научился, а века, а века, стоп, чувствую пришло, пришло
свободное нежелание, кстати оригинальное, почему нет будущего?,
а нет прошлого, прошлое ничего не значит, то есть безвозмездно
всовываю голову в петлю, вот и получаются в возмездие пересуды,
всяк на свой лад, а напишешь ещё хуже, и оригиналом прозовут
и убеждения, которых никто в глаза не видел припишут, да
и верно лентяем обматерят, ан нет, пишу же, ну до куда добрался?,
входит сестра, а лучше так, газу напустил, всё сгорело и
ты висячий, и всё случайно. Хорошо. Но человеческое, когото
чему научить суёт в руки ручку, верьте, мне нечему вас учить,
я сам не знаю, что мне ответить против законного довода:
оттого и под поезд лезешь. Нет, в тот день справедливо было
бы повеситься, это красиво, потом возникло глубокомысленное:
Мирушка, скажи мне честно, ты сердишься, что я вернулся,
ну ясно дело не повесился, до этого он допрёт и опять статускво
учтён, церемониал соблюдён, а было пусто, ну к Миру справедливо
и красиво, Элеоноре доказал депешей с уст, что восточная
кровь во мне меня не спасла, тоже утёр нос, ведь не жгу
же свои каракули, оставляю, чтобы армада за спиной и именем,
ничего, 2 листа, а там всё просто, что стоило ли быть этим
двум последним, и щедро я представил, что с Серёгой, то
же доказательство потенции своей, а это сопроводительное
письмо, что не побабски получилось, что я мог бы то, то,
то. Всё получилось побабски, всё получилось от книг, но
книги сегодня не объясняют мне, почему надо под поезд. Наигранное
подпирает, пора братец, пора? Итак я повесился. Марина потрясена,
в недоумении и в вине, в вине неискупимой. Мир тоже казнит
себя: Ах как я его не спас, сестре урок на всю жизнь, работа
поёт о мальчике разбившем своё сердце, а посему это всё
подлежит сожжению, если правда и остаётся, если и последний
жест хлопок дверью ложь, фарс.
Всё должно быть случайно и никого не касаться. Уж очень
кажется, что и тут нажива, огромная, ну стану психом, ну
потреплю нервы, а потом буду рассказывать под наркотическим
секретом Миру о том как я лез под поезд. Всё ложь. Всё до
конца игра той роли, которую взял на себя, но в этом ещё
разбираться если жив, если эти настроения получились без
определений.
И всё есть сплошное доказательство чегото чемто из пустого
и порожнего.
Итак, чего стоит эта вся объяснительная. Того, предыдущего
ощущения, которое я к несчастью пережил и положил его растопырив
на лист?
Стена была, была красивая обречённая поза, были невесёлые
думы, только этого оказывается ничего не было. Доказательства,
доказательства, и я доказывал и доказываю, что могу чтото
сделать и мне казалось в первый раз не нажиться на этом,
но если: я встану под поезд (лягу), выйду изпод него живым
(а если машинист поколотит, предварительно остановив, то
скажу, что хотел стать десантником. Придуманно?) то пойму,
что доказывать, это и есть мой круг на который я вернулся.
В тот же вечер я расскажу бабушке об этом, покажу Миру вот
эту дребедень, ибо скрыть всё это означило бы самым крупным
образом доказать себе что ничего ты не доказал. Вот. Поиграли
словами и хватит молоть чепуху. В моём положении теперь
рассмеяться и сказать: Тон Хван умер, да здравствует новый
Тон Хван, только всётаки под поезд я встану, не знаю почему,
так, может быть для лишней галочки. А потом при настроении
обосную зачем, докажу, что это был подвиг и т.п. и т.д.
ничем уж не уступающий ни Матросовскому, ни т.д. и т.п.
Вот. Слова поговорили мной и опять будут учить людей, опять
станут доказывать.
Ничего, я выберусь, только бы под поезд не звать никого
другого. Всё. Остальное место для рецензий, мне больше нечего
сказать. И вот такой фокус
Я наконецто отделил его от себя.
____________________________
[1] Подробнее об этом "кружке" читайте
здесь.
[2] Два слова попутно и о
себе. Посмотрев на обложку книги вы наверняка подумали,
что и этот тип под псевдонимом в очередной раз прячет концы
в воду. О концах спрятанных в воду думаю и думаю страдательно
я сам: всё же странно быть русским с нерусским именем и
нерусской фамилией. Мир Калигулаев. И если с именем мне
всё понятно: родители мои своё скрытое советское диссидентство
выместили на мне было это в год, когда по миру стал летать
благодаря Эренбургу голубь Пикассо и то добро, что не
назвали меня родители какимнибудь Паломом или ещё чего
доброго просто Пикассом. Представляете: Палом Калигулаев
или же Пикассо Калигулаев. Уж в этом случае моя литературная
судьба сложилась бы куда как более счастливо с именем
Палом и фамилией Калигулаев я бы числился в писателяхавангардистах
или на худой конец концептуалистах, словом, другими словами
в беспочвенниках, а в случае Пикассо Калигулаев по крайней
мере в Марленах Хуциевых. А так…
Так вот, если мне всё ясно с моим именем, то с фамилией
ни мать, ни отец, ни погибшие деды и бабки так и не привнесли
никакой ясности. Поначалу я думал, что это римское влияние
через Византийскую церковь, какникак истории известен тиран
Калигула. Но пошлое высказывание о том, что под всяким соскрёбнутым
русским скрывается татарин, помноженное на великомученическую
гордыню: “да скифы мы, да азиаты мы!”, которой болел
и я, заставляло меня всегда вздрагивать при бог весть каких
перекличках: Халилуллаев, Рафиуллаев, Шафигуллаев, а однажды
даже Капируллаев!
Одно время я и впрямь отчаялся
быть чистокровным русским с этими нечистьными именем и фамилией,
и опять спасла меня классика. А именно абзац из “Героя нашего
времени” о русском докторе Вернере и немце Иванове. Дело
в том, что я в своей жизни знавал и еврея Иванова, и чуваша
Петрова, и цыганина Сидорова…
Но ещё одно обстоятельство
исподволь подтачивало мою великорусскость. То, что я родился
не в Москве и не в Питере, и даже не на плохонькой глухосибирской
станции Зима, а в стольносоциалистическом граде Ташкенте,
на его окраине величаемом КараКамышом опять же какаято
помесь азиатчины с исконно русской шумящещемящей метой…
И всё же не эти раковые
опухоли государства Российского ни Москва и ни Питер,
и даже не захолустная Зима, а третьепрестольный Ташкент
и обтачивал мою исконность, ведь русский, как задолбленно
известно имя прилагательное и приложенное именно к таким
далёким, заплечным окраинам и обретает свой смысл…
[3] рисовое поле
[4] Самараси - плоды. Мальчик долгое время считал это слово
- первым выученным корейским словом, хотя впоследствии догадался,
что другое название этого колхоза - Ленин йули - Путь Ленина
- есть всего лишь первая часть полного названия - Ленин
йули самараси - Плоды пути Ленина, так что долгое время
эти самые плоды доставались в сознании мальчика корейцам.
[5] Хашар коллективный труд
без оплаты
[6] Одно из воспоминаний о ней, рассказанных Лейлой
и какимто образом объяснивших её поездку в Питер, хотя
Тон не совсем был уверен в правдивости своего предположения.
Луизе надоела её одинокость, впрочем, как и невыносимость
полутеатральной жизни в Ташкенте, когда сама жизнь стала
превращаться в театр абсурда, а потому она, посоветовавшись
с Лейлой, решила подать заявку на интернетовскую страницу
международных свах: дескать, одинокая, красивая, умная,
образованная девушка с прекрасным вкусом к одежде и к жизни,
ищет себе серьёзного и вдумчивого партнёра для совместной
жизни. В первую же неделю пришло несколько ответов: от Красноярска
и до городка Бат, что на западе Англии. Разумеется, Луиза
ответила джентльмену по имени Джон Ричи из англороманского
поместья, выбросив из головы инженерапрограммиста из сибирского
Красноярска. Между ней и англичанином завязалась переписка,
каждый день как в старые добрые времена мы ходили на Главпочтамт
на Пушкинской по письма до востребования, Луиза бегала в
интернеткафешку на Хамида Алимджана и строчила e-mail за e-mail'ом.
Через пару месяцев они решили встретиться и встретиться
решили в добропорядочной Англии: мать Джона болела и он
не мог её оставить. Луиза же свою маму оставила, поскольку
та была счастлива, что дочь нашлатаки пусть не ташкентца,
пусть не узбека, пусть не тюрка, пусть не мусульманина в
конце концов, а просто уже хорошего человека, дай бог ей
счастья! После всех визовых и прочих аэропортовских треволнений
Луиза вылетела прямым рейсом узбекских авиалиний в Лондон.
Семь часов лёту и вот она уже в Хитроу. Джона она узнала
сразу: одно лицо что на фотографии близорукие глаза, удлинённое
нервическое лицо. Правда, Джон никак не мог совместить своё
электронное представление с этой glamorous and gorgeous девушкой, как человек без кошелька, нашедший пятидесятифунтовую
банкноту. Они сели в Rover Джона и поехали в тихую и дешёвую, как сказал Джон гостиницу
в часе езды от аэропорта. Время приближалось к одинадцати,
а потому Джон повелел торопиться, иначе они останутся без
ужина: Луиза лишь оставила чемодан в отведённой для неё
комнате и спустилась вниз, где её поджидал Джон. Они сели
за ближайший столик в полупабе, шумно доживающим сегодняшние
последние полчаса и Джон предложил выпить по пинте ales. Луиза лишь кивнула головой
в знак согласия. Следом он заказал себе fish-n-chips,
и вопросительно взглянул на Луизу. Она опять утвердительно
кивнула головой. Джон переспросил: будет ли она fish-n-chips,
и лишь убедившись, что Луиза согласна, заказал это терпеливому
официанту. Они поужинали, разговаривая о томо сём, Джон
всё больше жаловался на ухудшившееся здоровье матери, Луиза
расспрашивала об английской жизни, о театрах ВестЭнда,
о барбиканском концертном зале, о новом здании Британской
библиотеки. За разговорами официант объявил о последнем
круге и окончании вечера, Джон поторопился заказать себе
другую пинту пива, Луиза же всё ещё сидела на половине,
хотя голова уже нещадно кружилась, то ли от крепоости английского
пива, то ли от вольной жизни далёкого зарубежья, а то ли
от разницы во времени между предутренним Ташкентом и полуночным
английским городком. Потом им принесли счёт и Джон стал
считать свою долю в нём, чтобы положить десятку и горсть
монет, у опешившей Луизы же все деньги были в долларах
да и какие это были деньги Лейла просила привезти какуюнибудь
шотландскую твидовую юбочку, а ещё знакомый художник передал
на пятидесятку на подарки своей дочери, живущей в Бате с
английским отчимом. Словом, Джон расчитался сам, но написал
Луизе сколько та должна за этот ужин, и тогда Луиза уверила
его, что первым же делом завтра утром пойдёт и наменяет
денег.
В
номере Луиза долго и безутешно плакала, и лишь к английскому
серому утру уснула в бессильном равнодушии. Её разбудил
сам Джон, они позавтракали, Джон вручил ей ещё одну бумажку
с цифрой за ночь в гостинице, и они тронулись в путь. В
дороге, которой невозможно было не любоваться, несмотря
ни на полусонное нереальное состояние, ни на скучновытянутое
лицо Джона, Луиза с предательской тревогой поглядывала на
накручивающиеся цифры миль, выстукиваемые таксометром машины,
как будто и это вменялось ей в возможный счёт, но зелёная
дорога взяла своё и вскоре Луиза уснула.
А
приснилась ей Лейла, танцующая в пыли колхозной дороги,
правда, Лейла была почемуто детских лет, но беззаботность
этого солнца и этой земли как двух гулко стучащих бубнов,
передалась проснувшейся от резкой остановки Луизе и она
уже со спокойным сердцем вышла из машины, остановившейся
на гравийной дорожке перед георгианским каменным домом с
огромными окнами.
Как
в литературном произведении в тот же вечер умерла мама Джона,
но разве может литература сравниться с измышлениями жизни:
в ту же ночь понаехали братья и сёстры Джона всего их
было пятеро. Все были представлены Луизе, а вернее она была
представлена всем как невеста Джона и как будущий член семьи,
и можете представить себе эти ледяные английские лица, один
за другим произносящие: O,
how interesting! и скрыто ненавидящих новое потенциальное лицо
в разделе наследства. А то, что речь всю эту ночь и следующий
день шла лишь семейном налоге на смерть так карманный
словарь Луизы переводил бесконечно звучавшее выражение inheritance duties
- Луиза поняла ещё до словаря по напряжению, царившему в
этом доме, где каждый встречался с каждым поодиночке, а
потом все обсуждали обговорённые детали в огромной залет
за пустым столом. Между делом посреди дня и переговоров
приехала машина и забрала тело матери на осмотр или ещё
для чего: прри этом не было ни истерических слёз, ни картинных
воплей, какие наблюдала Луиза у себя на родине, никто не
рвал на себе волос, никто не просился в могилу, рядом с
мамой, всё было чинно и благопристойно, хотя надо сказать,
что две сестры плакали тайком и Луиза видела это по их опухшим
векам.
В
одном из перерывов Джон сказал Луизе, что им нужно держаться
вместе, правда дальнейших слов Джона она не поняла, хотя
догадалась, что при этом, мол, им достанется большая доля. Луиза сидела в отведённой ей спальне с видом на весь
вечерний романский город под именем Бани, расстилавшийся
между холмами внизу и никак не могла ощутить в себе чувство
реальности, покинувшее её с самолётом узбекских авиалиний.
Где она, что она тут делает, сколько времени прошло в этом
кошмаре, сколько ещё осталось тени какихто вопросов витали
вокруг неё, лишь задевая краешек сознания. Она не спала
вот уже третью ночь и в какомто из обрывков то ли сна,
то ли яви к ней полукрадучись вошёл крутокурчавый брат Джона
некий Нерон, и вдруг стал отчитывать её за stupidity
глупость ли, дурость, и даже его постоянное “you” звучало как грубое “ты”,
он шептал чтото с неанглийской прямотой и тогда Луиза решилась
отдаться воле этого кошмара и сказала: Can we go now?
Они
вышли при свете ворсистой английской луны на гравийную дорожку
перед холодным каменным домом, обошли его, стараясь не скрежетать
влажной галькой, на травяной площадке сзади дома сели в
его машину и серпантином спускающихся к городу дорог этот
джентльмен отвёз её на городской вокзал. Она хотела с ним
расплатиться своими оставшимися долларами, но он этих денег
не взял и при этом лицо его исказилось брезгливой гримасой.
Некий
древнеримский город стоял вокруг неё мёртвой декорацией,
несмотря на поздний час местные бомжи всё ещё пили своё
пиво, она обошла их и узнав, что до первого утреннего поезда
на Лондон ещё два с половиной часа, рухнула на холодную
железную скамейку и провалилась в полый сон.
Ранним
английским утром она уговорила слезами кассира взять свои
доллары в обмен на билет до Хитроу и тем же вечером рейсом
узбекских авиалиний улетела обратно в Ташкент…