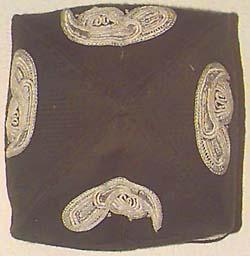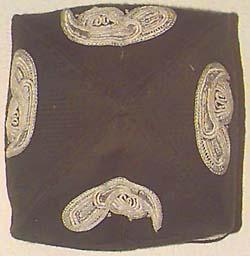|
V.
«НЕВСЂГДА ЛЂТАЮ»
Рассудим, пожалуй: чем честней пред собою человек, – тем
меньше его понимают, – и дюжину опытных знаний отдал бы
я за одну лишь иллюзию юности, ибо в ней, во единстве надежд
источающей еще ничем не заслуженный свет, таки больше смысла
и истины, чем во всех опознанных частностях истекающей жизни.
Вот я, сколько бы ни хотелось сказать, и молчу иногда, хотя
и менее красноречиво, чем молчит на зеркальном трюмо в нашей
прихожей рядом с изваянным из коричневой кожи тунисским
верблюдом та сказочная лягушка с Тайваня – бордово-теплого
камня, с тремя лапками, с голубыми алмазами всепостигающих
крошечных глаз. Ей-то, впрочем, и положено безмолвствовать,
держащей во рту узорную серебряную монетку с нежно-опаловым
камешком посередке, – ей положено навораживать под нашу
крышу благополучье, но, – ты помнишь, – вовсе не ради этого
она взята была в дом.
Да и негоже мне, мусульманину, сторонясь суеверий, полагаться
на амулеты и талисманы, хоть и доверил нам Даль в драгоценном
своем словаре, что оба эти слова-реченья – арабского происхождения.
Но и я – не араб, и она, эта лягушка, всего лишь очередное
свидетельство странствий: однажды блеснув из обитой белым
шелком шкатулки бирюзовыми искрами вострых зрачков, она
из собственного молчанья воззвала к нам обоим и умолила
забрать ее из туристической лавки на горном озере Луны и
Солнца, –
так мирно сверкавшем наутро после нашего путешествия среди
банных тайфунных туманов и оползней на крутых серпантинных
дорогах…
…горы Тайваня весь день утопали в меняющей очертания и исподволь
редеющей мгле; на верхних склонах, в листопадных и смешанных
чащах нежились во влажной пелене облаков камфарные лавры,
ели, пихты и древовидные папоротники, выше которых были
уже разве лишь цепкие рододендроны утесов и высокогорное
разнотравье, а на нижних отрогах блистали влажными листьями
вечнозеленые пальмы и прочие тропические деревья, увитые
путаной бахромою лиан, и росли там саблелистые, ходульные
панданусы с множественными разветвленными стволами и все
новыми воздушными корнями, свисающими с ветвей и сверху
врастающими в почву.
Издали – кучерявый, клубящийся подобно кучевым облачкам,
а в пристальной близи перистый и зеленотелый бамбук качался
на ветру и странно шумел под муссонным дождем, но в ночь
приезда на горное озеро дождь перестал, и черные небеса
в одночасье обестучели; стали звезды, и мы ходили смотреть
на белую ту орхидею в пронизанной нездешними ароматами тьме.
Огромная, звездная, с росистыми лепестками и зевом в душистых
златистых тычинках, она, «ночная красавица», цветущая раз
в несколько лет, одна и светилась в кромешности той струящейся
свежестью ночи, а потом мы увидели небо в тропических звездах
и луну, дрожащую в озере, в котором, согласно китайской
легенде, два дракона и прежде играли украденными у людей
шарами луны и солнца...
Любуясь дрожаньем
луны, вспоминаем чиновника Сяо,
оплатившего нам эти
дни сентября на Формозе,
такие смешные вирши мы сочиняли тогда, помня, однако, что
приглашение на всемирный конгресс поэтов и дальнейшее путешествие
по Тайваню даровались не сами собою, и не сами по себе узнали
о нашем далеком существовании тайбейские чиновники. Наш
благородный друг, бывший президент Всемирного Конгресса
Поэтов и последний в своем поэтическом ряду Император поэзии,
лауреат пятидесяти международных премий, широко переводимый
по миру и почти неизвестный в России кипрско-турецкий поэт
Осман Тюркай – вот кто написал должностным лицам конгресса
с просьбой позвать и нас на этот прекрасный край света.
Я бы вспомнил сейчас, как ночью в южно-лондонском Кройдоне,
что в переводе с норманнского значит «карминное поле шафрана»,
в нашей прежней квартире зазвонил телефон, и мы растревожились,
ибо оба не любим ночных и внезапных звонков; вспомнил бы,
что вместо тревожных известий учтивый китаец с Тайваня спросил
на забавном английском, согласны ли мы отправиться к ним
на конгресс, если они нам оплатят дорогу, а мы – для отчета
– составим и привезем на Тайвань небольшую антологию современных
российских поэтов, –
даже вспомнил бы, как мы долго летели через Амстердам до
Банкгока в случайном соседстве трех забулдыг, один из которых,
штампованный казанова, предвкушал оплаченный в турагентстве
секс-тур по таиландским кабакам и борделям, – но как-то
не хочется помнить ничего такого, что смутило или огорчило
бы великое, совестное и такое целомудренное сердце Османа
Тюркая...
В нашу последнюю встречу я виделся с ним в пустой комнате
странноприимного дома под названием Александра-Хаус на самом
краю лондонского Уэст-Энда. Как он начал прихварывать и
забываться, хозяйка отказала ему от квартиры в Финчли, где
он прожил и проработал ночами двадцать лет, и вот на излете
жизни он оказался в угловой комнате казенного дома, куда
перевез весь нажитый за жизнь скарб: один чемодан с костюмами
и несколько экземпляров собственных книг. В этой комнате
с белыми стенами и умывальником не было даже письменного
стола и книжных полок, но было окно, из которого виднелись
высокие платаны укромного сквера, огороженного чугунной
решеткой с кудрявыми завитушками. Там, внезапно постаревший,
седой и отсутствующий, сидел он на краю постели в пижаме
и туфлях на босу ногу и отрешенно листал изданный в Турции
сборник своих космических драм и трагедий...
«Они спрашивают, почему я так и не женился,» – вдруг произнес
он, – «но я же был женат на Поэзии, у меня не оставалось
чувств ни на что другое.»
Одиночество не мешало ему оставаться по-британски элегантным
до самых последних дней жизни – на людях я помню его только
в безупречно изящных костюмах, где бы это ни было, – в фойе
пятизвездочного отеля «Азия-плаза» на Тайване или в узком
корридоре приюта Александра-Хаус, среди семенящих английских
старичков и вспархивающих в воздух старушек.
Так не у места был он в заемной комнате доброхотного дома,
что однажды, вернувшись из поездки в Москву, я с облегчением
узнал, что кипрская родня наконец-то забрала Османа Тюркая
погостить в Кирению, город его детства и юности. Там он
вскоре и умер, дождавшись прихода третьего тысячелетия,
тихо и смиренно, как жил, и его похоронили на поросшей пиниями
горе, откуда далеко видно, как блестит под белым солнцем
теплое, лазурное и всегда другое море.
Он тоже всегда знал, что однажды вернется на родину, но
лондонская анонимность вполне устраивала его, ведь Лондон
– замечательное убежище для тех, кто не боится молчаливых
одиночеств и не страшится беседовать с самим собой.
«Я родился, чтобы быть поэтом и больше никем», – сказал
он нам как-то за столом славного турецкого ресторана «Эфес».
Такое самоощущенье, ты знаешь, предполагает земные следствия:
Осман Тюркай навсегда остался одиноким человеком, одиночеством
во плоти, и напрасно искать в его поэтических симфониях
любовь, ограниченную влеченьем к какой бы то ни было Прекрасной
даме. Ему дважды не повезло с чересчур уж прозаическими
невестами, он так и не женился. Однако любовь, проницающая
его стихи, не стала ни отчаяньем, ни разочарованьем: она
просто обратилась на весь зримый и незримый мир. Эта любовь,
направленная в невыносимой истовости души и сердца на дерево,
птицу или звезду, может отпугнуть от его поэзии любителей
опосредованных земных чувств, однако такая любовь была воистину
способна творить целые миры, настолько она бескорыстна.
По цельности жизненного сюжета в нынешнем мире многократных
мистификаций его жизнь и поэзия могли бы сойти за одну из
самых грандиозных мистификаций. Османа Тюркая можно было
придумать, если бы взбрело на ум написать роман о «чистом
поэте», живущем во все более бессмысленном и прозаическом
мире вопреки всей механической рутине бытия. Герой такой
литературной мистификации должен был бы прожить жизнь совершенно
одиноким и не поддаться ни на какие коврижки телевизионной
славы, должен был бы писать ночами – наедине со звездным
небом и собственными мифами, которые гораздо более подлинны
и живы, чем все, что выдается вокруг за живое и подлинное.
Поразительно – но так и жил Осман Тюркай, и миры, продолжающие
жить в его книгах, открыты для всякого, кто не боится смотреть
на себя со стороны.
В этой совершенной сюжетности бытия, как и в юношеской преданности
одному лишь поэтическому призванью, с Османом Тюркаем могли
бы сравниться разве что воображаемые поэты античности, тем
более что на творчество его с младых ногтей оказывал самое
непосредственное воздействие изобилующий живыми образами,
пронизанный ослепительно-белым средиземноморским солнцем
воздух родного Кипра – острова Афродиты, богини любви, в
истории которого, как и в бессмертной душе Тюркая, самым
равным образом соседствуют в вечной единовременности суфийские
непостижности ислама и византийская роскошь христианства,
утонченное язычество греков и римлян и державное жречество
финикийцев, мрачная готика крестоносцев и барокко лукавой
и коварной Венеции, не говоря уж о более поздней истории
британского имперского владычества, с концом которой остров
любви взорвался междоусобицей, изгнавшей Османа Тюркая из
отечества, ставшего в одночасье чужбиной.
При всей космогонии мерцающих звездными туманностями образов,
при всех отраженных культурных пластах его поэзия совершенно
лишена умозрительной расчетливости: стихотворение, как слово
и деянье любви, всякий раз как бы возникает на наших глазах,
создавая во всеедином процессе творения не только читательское
впечатление, но и поэтический импульс самого поэта. Все
в его стихах находится в постоянном движении, как предосенняя
стая птиц на вселенском ветру, устремляющихся за горизонт
и тотчас возвращающихся назад в ностальгии по прошлому,
и вновь разлетаюшихся по спиралям неба по одиночке, чтобы
в конце концов снова и опять на мгновенье соединиться в
единство стаи...
Бог есть Спираль
Тики-так-так.
Трак-тик-так.
Вот
и карта рисуется в мозгу твоем.
Это
либо Бог, либо же Человек!
И
Солнце
поместить в его
родную систему. Сайкан
улыбался, указуя на увеличенную
сокровенную структуру атома. Один из
ее интерьеров есть пылающий мир… Потом
вошел Исикан. И тайна отразилась в другом
индикаторе. Жизнь неизменна, ему говорили,
в каждом органе человека: планетах и звездах.
Он изобразил свою новую натуру. Покров света,
Сверкая, разверзся подобно материнскому чреву.
Явилась зрящая суть. Это значило – Время поисков Бога.
Округлое око чередовало образы. Звуковой волной накатила
речь.
Одна из корпускул подмигнула другим, словно она
Подчинилась закону притяженья по его повеленью.
Хромосома, кодировка раскраски, вне тела и плоти.
Кислотное в сути устройство, весьма округлое также.
О погляди, как Вселенная закрутилась в свисте моем!
Звуки-знаки, и движенье: Тот самый символ искомый.
Это было свидетельство взаимосвязи. Настал сокровенный
Порядок. Суть, в ее внешней структуре. Пурпурная Планета.
Ее
Дальние индикаторы вспыхнули. Это было доказательством
Упругости и бесконечности Бога. Блу-блу-луу! Цифры.
Дата. В поле зренья – тело, принесенное Космосом,
И в жажде голос его был скор-скор!
Робот ждал твоего приказанья на Красной Планете.
Кто полымем был, которым говорят исполины? Они ткнули
В кнопку. Узрели свои голоса. Узнали, что волосы их были
влажны.
Нажали другую кнопку, мня рассказать нам, откуда явились:
Где ж это Где-То? Время, Разум, Просторы – все убежало оттуда!
Я взглянул на зарю. Я узрел свой разум, расцветающий в
ее крови. Да прервутся ее Время и Космос. Пусть очи ее
тоже узрят-прочтут тайные коды, поняв равновесье всех
измерений. Пусть зрит она все искажения, о! Пусть видит
ту алую планету, что выглядит иначе под каждым углом:
ту Голубую, Белую, Пурпурную, Золотую Планету.
Я
видел, как разум мной приумножается кровью зари.
Пусть
же Время ее перестанет.
Космос
ее, тоже, пусть прекратится.
Пусть
очи ее зрят и видят секретные знаки,
она
равновесье
По
всем измереньям,
Исчезающим
в самый момент сотворенья,
Пусть
видит она зрелище малиновой этой планеты
И
пурпурных планет.
Пусть
время
Ее глядит и видит
Тайные знаки. Прибыв-
шую в ярком луче тень долго-
жданного глаза льдяного, незрячего
в одну сторону. Прибыв в сияньи, его образ
дрожал, тьму обнимая. Он постиг звучанье воды,
радость древа. В каких же морях Человек есть уходящий
и наступающий берег? Слушай – даже пульс его слышен: он
быстр.
Солнечное
и лазурное, светло-наивное начало его поэтической жизни просвечивало
впоследствии сквозь все сырые английские туманы – как природные,
так и мистические, – и в его маленькой тронной комнате
в богемном лондонском Сохо, куда мы приходили, всегда осязался
нездешний, смиренный, застенчиво-благородный свет – особенно
когда за окном моросил бесконечный туманный дождь, и капли
скатывались по оконному стеклу в антикварной металлической
раме, каких не ставят в Англии уже Бог знает сколько времени.
Оно и немудрено: кабинет его находился в мансарде узкого старинного
лондонского особнячка в самом сердце Сохо вблизи китайского
квартала Чайна-таун.
– Со-хо! – так еще в конце шестнадцатого века кричали здесь
охотники, травя с гончими зайцев на местных пустошах, от которых
остались разве лишь несколько квадратных скверов в столетних
платанах да название старинной церкви Святого Мартина в Полях
на Трафальгарской площади. Квартал Сохо застроили и заселили
уже после Великого Лондонского пожара 1666 года, – отсюда
и началась размеренная планировка нынешнего Лондона, здесь
и зародилась идея окруженных правильными шеренгами зданий
и зарешеченных чугунной оградою скверов, и сегодня привносящих
в городскую суету зеленое дыхание сельской Англии.
Дверь крошечной кельи Османа Тюркая выходила на плоскую крышу,
откуда в ясную погоду видны были другие крыши и здания Сохо,
некогда квартала творческой богемы, каждый внешне невзрачный
дом которого изнутри составляет самое таинственное архитектурное
сооруженье – с узкими, в ширину плеч, маршами внезапно возникающих
лестничек, ведущих все выше и выше и вдруг резко поворачивающих
в сторону, являя очередную комнатушку этого кирпичного муравейничка,
и каждая такая комнатушка представляет собой некую отдельную
от всего замысла данность, словно парящую во вселенной в полном
отчуждении от господствующей эпохи и обжитую грезами, миражами,
замыслами самых различных, в зависимости от личности постояльца,
масштабов.
В Сохо уже в восемнадцатом веке местная аристократия была
вынуждена мириться с наличием всевозможных разночинных иностранцев,
людей многих рас и наречий, которых становилось тем больше,
чем шире шагала по миру Британская империя. Сохо стал «неряшлив,
полон греков, измаильтян, кошек, итальянцев, помидор, рестораций
и всяких там экзотических названий», – отмечал в «Саге о Форсайтах»
Джон Голсуорси, который, однако, не дожил до времен, когда
к Сохо, перебредя сюда с матросским узелком из портового Ист-энда,
присоседился еще и Чайна-таун, жители которого с концом эпохи
прачечных со всем свойственным им усердием занялись ресторанным
бизнесом и наполнили центр Лондона смачным благоуханием китайской
кухни.
Однако во время оно первым жителям вновь отстроенного после
великого пожара Сохо, всем этим родовитым леди и джентльменам,
политикам, судейским и высшим церковникам с собственными каретными
выездами и без китайцев хватало то и дело являвшихся с материка
странных и непривычных личностей обоего пола: французских,
голландских и итальянских куртизанок, авантюристов вроде Джакомо
Казановы и его пассии Марианны Шарпийон, которая чуть не свела
с ума соблазненного и отвергнутого ею сластолюбца, едва было
не сгоревшего в Сохо в огне так и не удовлетворенной самолюбивой
похоти.
Именно здесь, на Греческой улице, свершалась трагикомедия,
о которой престарелый Казанова на пенсии в чешском замке Духцов
впоследствии гордо писал: «в день, когда я встретился в Лондоне
с Шарпийон, я почувствовал приближение смерти...»
Это было в сентябре 1763 года, Казанове было тридцать восемь
лет, и он, печальная посредственность во всем, что не касалось
наследственной актерской способности вживаться в образ и пускать
слезу, все еще подстегивал себя новыми похожденьями, в вечном
страхе перед мужским бессилием все чаще покупая минуты сладострастия
за фунты, соверены, шиллинги, пенсы и фартинги, благо предложение
коммерческого секса в Сохо и тогда отвечало на спрос...
Бедный Казанова! Как он вязался к подлинным аристократам и
знаменитостям своего времени, стараясь доказать себе и последующим
поколениям, что и он в свою эпоху стоял наравне с Вольтером,
Руссо, Гете, Моцартом, который через год после отъезда Казановы
из Лондона в восьмилетнем возрасте поселился в Сохо с отцом
и давал в Лондоне концерты, уже прославившие его на всю Европу.
Ну ладно, Моцарт, в компании с которым Казанова успел мельнуть
в Праге и через три десятка лет, как раз когда в пражской
опере давали премьеру моцартовского «Дон Жуана». Но что думал
он, не вовсе ведь лишенный совести и столь ревнивый к своей
популярности «знаменитого венецианца», что думал он в минуты
мужского молчания о своем земляке, великом художнике Каналетто,
который, впрочем, не сделавшись очевидцем лондонских художеств
Казановы, успел в 1756 году возвратиться из Сохо к сияющим
каналам родной Венеции...
Что мог несчастный Казанова, которым Вольтер и Руссо забавлялись,
как разряженной в нарядный камзол и белые букли дрессированной
макакой, словно в отместку за то, что и он не разглядел ни
в одной женщине души, что мог он противоставить упорному и
трудолюбивому гению своего земляка, кроме печально подогреваемой,
как холостяцкий обед на керосинке, и на три четверти придуманной
скандальной известности? Жалкий список побед над женщинами,
часть которых он обманул свойственной всем слезливым палачам
и себялюбцам сентиментальной искренностью, а других попросту
купил, как покупают скот, или взял силой в низменном сознании
безнаказанности?
Ведь подлецом стать так легко – нужно только с каждым новым
днем позволять себе немного больше, чем позволяет совесть,
и с каждым новым днем находить оправдание этой малости.
Но, ни разу не победив самого себя и своих мелких вожделений
и не создав ничего, кроме хвастливого и ханжеского жизнеописания,
сей потаскун, фигляр, ерник, волокита, гаер, жуир и растлитель
малолетних в многогранной своей посредственности не сумел
подняться даже до трагических и роковых страстей Дон Жуана,
так и оставшись персонажем шутовского фарса, дешевой буффонады,
льстящей всякой черни уличной комедии, в которой шкодливый
бабник, если не может соблазнить, покупает, а если не может
купить, то попросту насилует предмет своей опасливой похоти,
и впадает в настоящий животный ужас – в истерическое осознание
бессмысленности существованья, если сходу не удается сделать
ни первого, ни второго, не третьего.
Но он – король фланеров и бездарей – может-таки усмехаться
со своих портретов, коль скоро праздношатающаяся память о
нем дотянула до нашей эпохи развлечений, когда шуты, лицедеи
и чувственники с рыбьей кровью безраздельно, как всякие временщики,
торжествуют над обольщенным и обманутым миром.
Художники, поэты, стихийные книжники и философы и посейчас
обитают в некоторых потаенных кельях Сохо, однако сам квартал
уже давно превратился в обиталище профессиональных проституток,
в местность, где процент эротических шоу и порнографических
лавчонок на душу населения давно превысил самый изощренный
спрос на этот нехитрый и немудреный товар. В некоторых крошечных
кафе, затерянных в лабиринте улочек и переулков Сохо, и сегодня
выступают обязательные младые гении, концептуалисты, ниспровергатели
и всезнайки, но уровень поэзии чаще всего соответствует уровню
существования квартала и воспевает не сокровенности, но данности
зримой жизни, не залетая особенно высоко, откуда и сегодня
падать – костей не соберешь.
Тюркай, конечно же, понимал, что обычный земной человек –
всегда пленник собственного душевного уюта, заключенный пространства
понятных страстей и желаний, и открыть таким людям космос
– значит испугать их навеки. Здесь, однако, и вступает в действие
сила поэзии, которая, по убеждению Тюркая, одна и способна
была увлечь человека в новые пути и искания, потому что человеку
свойственно не только уютно устраиваться в собственном воображении,
но, если надо, упорно обживать новые просторы и эпохи, которые
и становятся его Домом вне времени и пространств.
Тюркай был поэтом космоса не потому, что оторвался от родной
почвы, а потому, что помнил и знал не только древнегреческие
и египетские мифы. В самой ткани его поэзии растворен миф
о небесном, звездном происхождении его предков – голубых тюрков,
и турецкий язык всегда был для него, с равной мощью и изяществом
владевшего и английским, – языком неба. При этом амплитуда
его пристрастий далеко не ограничивалась анатолийской Турцией
– алтайские тюрки занимали его воображение так же, как древний
Египет и шумерская клинопись, так же, как мифология Лондона
и вавилонские грезы Нью Йорка. Цивилизации сливались в его
душе и сознании, сопрягаясь в полифонические симфонии земных
континентов. Но музыка человеческой истории не оборачивалась
в поэзии Тюркая всего лишь зрелищными картинами, – она транформировалась
в музыку его поэтических осязаний, одинаково узнаваемую в
английском или турецком варианте.
Узнаваемую – но кто поистине постигал ее ойкуменическую суть?
«Тюркай принимает в свое сердце мифологических богов и богинь,
однако нейтрализует власть вселенского Бога. Он выражает квазирелигиозную
веру в конечное всемогущество человека, в его силу побеждать...»
– говорили о нем.
Но времена Межелайтиса и веры в сверхчеловека миновали, и
вряд ли правы те, кто полагает, что звездные поэтические симфонии
Османа Тюркая держатся всего лишь на интеллектуальной, энергетической
и музыкальной мощи его земного таланта. Что ни говори о суфийских
истоках или о том, что Османа Тюркая не видели прилюдно молящимся
в мечети, но постоянное и вечное присутствие Всеединого Творца
– это и есть суть, сцепляющая, сопрягающая и спаивающая воедино
невероятное разнообразие форм, метафор и прозрений его космической
поэзии.
Если непостижный культурный феномен поэзии Тюркая – это мятущаяся
огнем крона вселенского древа, зацветающая все новыми протуберанцами
беспрерывно рождающихся и умирающих миров, то ствол и корни
этого древа – это природное мировоззрение тюрка и мусульманина,
стихийно проистекающее из осознания единства мира, так жадно
раздираемого сегодня на национальные клочки и мнимые составные
части ненасытностью политиканов и самозабвенной яростью всяких
прочих себялюбий.
Не в пример иным поэтам Сохо и других кварталов человечества,
Осман Тюркай, обитая в собственных звездных мирах, так и не
нашел своего места в земных координатах – страшная, неостановимая
устремленность мировой цивилизации к своему окончательному
разрушению не вызывала у него циничного интереса: страдание
все еще живого человека, запертого в ловушку чужого пространства
и времени, вот что мучало и истязало его всю жизнь. Но никогда
же это мучение отчуждения не искажало его поэтического лица
и не отражалось на благородном достоинстве его жизни. Его
терзание, как и было когда-то свойственно подлинному искусству,
претворялось в особое творение, вызывающее не снисходительную
жалость или бесплатное сострадание, но восторг перед возможностями
человеческой души – живой вопреки всему, что ежесекундно убивает
и растлевает ее.
Он ушел из жизни так же, как жил, – не принадлежа никому,
кроме собственного призванья. Западные поэты не постигали
его восточных корней и не прощали ему неприятия собственной
цивилизации, потому что и неприятие – это дело своих, а не
чужих. Поэтов Востока отчуждало от него его кровное понимание
культур Запада, и на его долю выпало самое неблагодарное дело
– быть мостом между Востоком и Западом, когда по тебе топчутся
и те, и другие.
Но можно ли воссоединить человечество, не ложась ему под ноги?
Вслепую обуреваемое страстями и пристрастными частностями
жизни – оно только растопчет тебя.
Однако на Формозе – на озере Луны и Солнца, у острозубых храмов
и пагод в плоских шляпах с загибающимися полями и в Кентинском
заповеднике на южной оконечности острова, лелеющем в сумрачной
сырости муссонных лесов удивительных бабочек, реющих над орхидеями
в узорных плетеньях лиан, мы все были еще живы, и Осман Тюркай
улыбался в очередном, отливающем сталью зеленом костюме, и
следовало жить да радоваться, –
однако нас угораздило поссориться и там, и опять из-за сугубых
хлопот вокруг твоего желания запечатлеть в отдельных частностях
честную неотмеченность и прозрачную проточность существованья.
«Как ни редко, мой добрый сэр, бывает мужчина готов предложить
женщине помощь и сочувствие, она всегда за несколько мгновений
предчувствует такую готовность…» – отмечал Лоуренс Стерн в
своем «Сентиментальном путешествии», также лишенном всякого
внешнего действия, но упоительно и детально повествующем о
том, что же происходит, когда не происходит ничего, отличного
от прочувствованной сердцем повседневности жизни…
Я же был виноват и тогда, как умеет быть виноватым мужчина,
если в развлеченности не понимает, что даже рисовая рисовальная
бумага живописных свитков, на которых пристальные к единству
мира китайские живописцы умеют изобразить белый лотос на белом
фоне и даже осенний ветер в камышах, листьях и развеянных
волосах изображают, не уловляя и не запечатлевая намертво
его происходящих дуновений, –
даже эта бумага, созданная для касания туши и акварельных
прикосновений, бывает двух разновидностей – мужская-инь, отталкивающая
воду и краски, и женская-янь, жадно впитывающая всякое влажное
впечатленье...
Я и сейчас думаю, что образ действия души должен быть подобен
полету и парению неотмеченной птицы в небесах всеобщего существованья,
ибо только в этом движеньи, опирающемся на воздушные струи
и сливающемся с обязательным движеньем всего остального мира,
и постижимы неоднозначные смысл и красота земного бытия, когда
вдруг становятся ясны и понятны сердцу и хаотические порывы
верхнего ветра, и согласованность гор и вод, и соответствие
говорливого ручья вечному молчанию утеса, и сопряженность
краткого весеннего цветка с долгой зимней обнаженностью необозначенной,
но безусловно необходимой миру древесной ветви...
Почему же я, последние силы сердца, казалось бы, напрягающий
ради постижения жизни в ее происходящем движении и во всяком
действенном покое природных вещей прозревающий незримый рост
и приумножение все той же вовеки неостановимой жизни, умею
по временам быть таким непристальным, а следовательно и жестоким
к неуследимым порывам и взлетам твоей существующей рядом и
рядом же мятущейся души?
Прости же – ведь даже в небольшой пестроцветной яшмовой вазе,
привезенной нами с Тайваня, даже в ее зримой воздушной неподвижности
светится и мерцает сквозь натечные вкрапления и слоистые прожилки
заключенная в резких красно-зеленых границах и мягких красно-желтых
переходах цвета ее секретная душа, ибо разве не правда, что
все красивое имеет душу?
Гляжу на нее – и вновь убеждаюсь, что ничто в мире не остается
неподвижным, и всякому промысленному Аллахом движению можно
лишь придать форму, но ни остановить, ни запечатлеть его невозможно
и никак нельзя. Однако же и нельзя решить что-то для себя
раз и навсегда, поскольку такая неоспоримость много хуже желания
запечатлеться в текущем мгновении: запечатленность только
обманывает, тогда как безусловность надолго, если не навсегда
убивает восприимчивость к неочевидным значеньям и сочувственным
подсказкам единства.
Ведь ты же знаешь, что некоторые мгновенные смыслы остаются
с нами на многие годы, и, нечаянно возвращаясь, всегда наготове
предъявить человеку его истинное, а не воображаемое им самим
лицо. Вот и по пути в Лондон с Тайваня в амстердамском аэропорту
купили мы на память несколько сувенирных голландских кафелей
с разноцветными, а паче традиционно-синими картинками, но
теперь, глядя на них, я чаще вижу не затянутые льдом каналы
и не обязательные ветряные мельницы над полями переливающихся
на солнце многоцветных алых и желтых тюльпанов, –
и не пожилого голландца, с тщанием и усердием вырезающего
из древесных болванок удобные деревянные башмаки, а грустного
аиста, которого вовсе и нет на этих покупных сувенирах.
Зато доселе живет этот аист на русском обливном изразце старинной,
петровских времен голландской печки, выставленной в Московском
историческом музее, и, углядев эту картинку лет тридцать назад,
я все еще помню, как поразила меня надпись над этим синим
аистом, стоящим в мелком болотце с редкими остроконечными
травами...
«НевсЂгда лЂтаю», – так слитно и были написаны эти слова –
старинным слогом с пузатым крестовым ятем, – и сокровенная
суть томления духа нечаянно посетила меня и осталась со мною.
Даже аисту, рожденному для царственного и вдохновляющего всякую
душу парения в небесах, приходится смиренно оправдываться
за временное пребывание среди кочек болота, и не отсюда ли
и мое покаяние за то, что я чувствовал себя правым, и поэтому
был кругом неправ – там и тогда...
...на Тайване, где тебе так командно хотелось, чтобы я выпал
из своего воображения и сфотографировал тебя у одинокой, убегающей
в море скалы, а я никак не понимал тогда, зачем это тебе надо,
да еще так настоятельно...
...в японском Киото, над императорским прудом с медно-бронзовыми
и бело-красными и совсем пестроцветными карпами в зеленой
тени нависающих над водой кудрявых ветвей, в центре которого,
на островке, сиял тихим золотом узорчатый павильон для неспешных
размышлений и о том, что всякий карп мечтает стать, но только
один из миллионов становится священным драконом, если, стремясь
вверх и против течения, преодолеет бушующие скалистые пороги
верховий Желтой реки...
...в Венеции, когда мы впервые вместе вышли из лабиринта улочек
на площадь Святого Марка, – там, среди наполненного солнечным
морским бризом неба и привязчивых сизых голубей, где ты так
переполнилась счастьем существования, что просто молила меня
запечатлеть тебя тою, какой ты была тогда и какою, казалось
тебе, никогда больше не будешь, –
твоя прекрасная исполненность и ликующая женственность длились,
но ведь и ускользали, и утекали сквозь пальцы времени, как
очевидная, но быстротечная реальность венецианских каналов,
горбатых мостов и надводных палаццо, как действительность
трефовых готических окон Дворца Дожей и журчащая, с гулкими
стуками музыка прибоя и связанных вместе гондол у набережной
Рива Склавони,
откуда в нечаянном вздохе немыслимого, принесенного морским
ветром ликования духа явился нам в осиянном просторе синей-синей,
зеленой лагуны островок Сан Джорджио с желтым монастырским
комплексом Фондационе Чини и красной, устремленною в небеса
остроконечной колокольней, и храм Мария Делла Салюте на стрелке
вод пролива Джудекка и Большого канала, и остров Лидо на ближнем
горизонте...
Солнце падало косыми лучами на отмытые наводнением плиты,
византийские кони собора Сан Марко летели, порывались в простор
в непрерывных мускулистых усильях, и в этот происходящий миг
истины ты сперва закружилась от счастья, и мне честно примнилось,
что и ты ощущаешь всю неостановимость происходящих мгновений,
и не угадал – и замешкался с тем, чтобы запечатлеть тебя в
этом непрестанном струении счастья – но лишь потому, что тогда
я и не видел тебя в неких фотографических рамках,
застывшей в полете души, –
вне шума прибоя, сверканья лагуны и осязанья небес, вне свежих
морских дуновений и голубого кружения ветра, вне прозрачной
воды, вслед наводненью еще покрывающей, но не скрывающей мозаичные
плиты в преддверьи собора, без движения и бессмертия длящейся
жизни, вне вчера и вне завтра, –
вне единства всего, что и было тогда продолжением и длением
нашего общего счастья...
Будь я мастером, умей я улавливать ветер на фотобумаге, я,
быть может, и сам бы усердствовал в этом искусстве, но увы
– как мог я своей же рукою – прицелясь, единым щелчком прервать
бытие и радость, должествующие непрерывно свершаться?
Да разве не одно лишь дитя норовит ухватить порхающую рядом
бабочку, не опасаясь помять ее хрупких узорчатых крыльев?
Вот китайцы – те умеют в разумной умеренности творческих грез
обойтись самым малым, и каждую частность превратить в отражение
всего мироздания, но какое же медлительное усердие духа, какое
великое, презревшее время терпение, какое смирение надобно
для этого! Только поняв, что времени нет, можно увидеть и
время; только вняв неукоснительным связям между белой озерною
дымкой и клубящейся пеленою далеких нагорий, только восчувствовав,
как совсем одиноки плакучая ива, камыши и соцветия лотоса
без маленькой рыбацкой лодки в середине вселенной, можно –
о нет, не запечатлеть! – но лишь подглядеть вечно происходящую
жизнь, как китаец Тан Юн, художник, поэт, каллиграф пятнадцатого
века, чья картина «Сбор цветов лотуса» во всю ширь горизонтального
свитка развернута на стене Национального дворца-музея в столице
Тайваня...
А еще в том дворце – помнишь? – конечно же, помнишь: сквозной,
ажурный, целиком вырезанный из слоновой кости шар, – ту тонкостенную,
дырчатую, узорочной ячеей сферу, вовне которой, наподобие
русской матрешки, но с китайской смелкалкой и тщанием изделан
еще один полый узорчатый шар, чуть меньшего диаметра, но тоже
прорезной и округлый, и еще один, тоже сквозничный, и еще
один, и еще – до самого малого, но тоже скважистого и едва
просвечивающего сквозь остальные шарика, до которого можно
было дотянуться только самой хитровыгнутой резцовой иглою.
Триста лет одна и та же семья резчиков под покровительством
одной и той же императорской династии вытачивала этот шедевр,
пока наконец один из потомков не молвил: «Что ж, сей труд
закончен, и надо тотчас же приниматься за новый, и снова передавать
его сыну...»
Счастлив человек, который может передать дело жизни сыну или
дочери! Текли века, работа становилась все кропотливей и каверзней,
и одно неверное, поспешное, сделанное в раздражении или огорчении
движенье могло навсегда испортить труд поколений...
Однако какую же печаль свершенности должен был почувствовать
последний из тех, кто касался резцом тончайших, сквозных этих
сфер! Впрочем, непрерывностью дела питается мудрость, и разве
не знал этот мастер, что подлинный труд никогда не кончается,
продолжаясь, как облака или звезды, за создание которых Аллах
тоже редко слышит от людей благодарность...
Прости же за то, что малые частности и общее нетерпение жизни
разлучают и нас, и тогда между нашими осязаньями мира образуется
вдруг расстоянье, и разрастается вглубь, вдаль, вширь по всем
направлениям огорченного взгляда...
Тогда, в неприятье друг друга, бессмысленно строить мосты:
всякий мост, наведенный людьми над бездонною тайной разлуки,
можно снова разрушить и сжечь за собою.
Нужно вовсе другое – нужны совестливые зрения сердца. Надобны
взоры, устремленные ввысь в истых поисках Бога-Единства, ибо
нити взаимных познаний лишь Он и связует, научая сочувствию
и состраданью, в которых нет места обидам чужих снисхождений.
Так и я теперь знаю, что случайный утес на Тайване, тот безвременный
камень в океанском прибое, у которого ты так стремилась засняться,
отрывая меня от нечаянных умствований и размышлений, был совсем
для тебя не случаен.
Но я лишь потом это понял, увидев тот маленький, пожелтевший
от времени снимок, на котором твой юный отец в своей летчицкой
форме стоит у такой же забредшей по пояс в полярное море скалы,
и твое нетерпенье стало мне так понятно, потому что и я, лишь
на шаг отойдя от себя, обесплотев, вдруг услышал душою, как
неистово воет в долговременной тьме бесконечная вьюга, как
скребет жестким снегом по засыпным стенам одинокого приполярного
дома, –
вдруг услышал душой –
нетерпение встречи с отцом в арктической тьме дочерних твоих
ожиданий...
Этот твой детский и тоже лишь временный кров, с белой медвежьей
шкурой и тканым ковром над железной кроватью настигает меня
своей тишиной и четким тиканьем ходиков, подгоняющих время
разлуки, и я твоим детским взором гляжу на солнценосный ковер,
на котором, среди пальм и песков, три всадника с пиками, три
бедуина в бурнусах так по-разному изображены в охотничьей
схватке со львами, и у тебя есть отважный любимец, который,
как подлинный рыцарь пустыни, без тени сомненья и страха встречает
ревущего в ярости желтого льва...
Так и отец, вот вернется с небес сквозь пургу, отобьет и отгонит
все детские страхи, но проходят минуты, часы, дни проходят,
месяцы, годы, а отец все никак не вернется, а его самолетик
над белой полярной пустыней, над бесконечными льдами и скалами,
уходящими в мерзлое море, все горит и горит, все пылает, освещая
и оживляя в нисходящем спиральном полете ту звездную бездну...
Я лишь потом это понял – сердцем познал через твои письмена.
Поймут ли, прочтя, и другие, как бессмысленны звездные россыпи,
как отчаянны ледяные пространства, как печальны бескрайние
пропасти звездных небес, – если нет среди них живого отцовского
сердца, – так печальны, что впору вдруг пожалеть нажитым состраданьем
и эту, для чего-то ведь происходящую одинокую бездну:
«Глубь занебесная нам не видна.
Бедная Бездна! Зачем ты без дна?»
Вышел месяц из тумана, вынул ножик из кармана,
а куда ему идти – в злой печали затаенной,
если края не найти – во Вселенной?
Вырывает с корнем дуб буря вековая.
Вышел месяц-душегуб, видит: нету края!
Не от росчерка пера – от угла и до угла –
эта черная дыра – пролегла...
Неспроста, конешно, темнота – кромешна.
Ох, темно на Руси – хоть святых выноси!
И дрожат поджилки от такой страшилки.
« Слушайте, детишки, ни дна вам, ни покрышки!
Детушки-ребятки, поиграем в прятки!»
Месяц рвет рубаху – буря, ураган!
Нагоняет страху жуткий уркаган.
Ну-ка, без оглядки – засверкали пятки.
« Скрипнет половица – где ж нам схорониться
без конца играя, если нету края?
Если нет комода, если нет угла,
если вся природа – только ночь да мгла?
Если злая несыть будет нас водить,
если будет резать, если будет бить?!»
И в ночи безбрежной, в далях – без конца,
детский голос нежный все зовет Отца .
Как же должно настрадаться сиротливое сердце, чтоб пожалеть
в неосознанном жаре разлуки и кромешную бездну, в безответные
звезды уносящую плач или крик, и одиночество девочки во всех
одиночествах женщины вовек не избыто, потому всегда была над
тобою разверста та вселенская бездна сиротства, – в теплой
(где мама) полярной Игарке и стылом (где нет даже мамы) степном
Краснодоне, в Луганске-Ворошиловграде и в городе Косове –
в санатории для туберкулезных детей среди буйных карпатских
садов со сквозными, медовыми, розовый сок источающими созвездьями
яблок; среди желтых, высоких, просторных, просвечивающих синевою
буковых рощ, восходящих вместе с горами в ту самую бездну,
лишь на время задернутую, как милосердной завесой, солнечным
небом той косовской осени; шелестящих, журчащих средь буков
золотистым и бурым покровом многократных лесных листопадов...
Эти вороха палых листьев, сухие, пушистые, подавались в ногах,
как перина; их таинственный шорох и кристальная свежесть простора
возвращали из детства осязанье иной, крахмальной, снежно-льняной
чистоты, –
когда твоя мама, наведя в глубоком, с серебристым сияньем
корыте натасканной в ведрах с колонки и закипяченной в искристом
чане воды, на ночь купала тебя и, запеленав в простыню, по
крашеным половицам несла на руках до постели, где в благоуханной,
хрустящей отраде свежайших пуховиков под все тем же медовым
ковром с бесконечною львиной битвой ты блаженно мечтала –
о чем? –
а за черным окном белокрылого вашего дома шумели в дожде высокие
пышные кроны в обильных гроздях вьюжно-белых акаций, но этот
таинственный шум отступал, едва с подоконника, сияя зеленым
глазком, принимался вдруг что-то рассказывать, повествовать
и глаголить радиоприемник, на незримых волнах, проницающих,
словно ангелы света, время и местность, приносящий из другого,
огромного, бесконечно красивого мира оркестровую музыку, знакомую,
как пароль в царство счастья, –
да и что это было, что, щемя неизвестной тревогой твое детское
сердце, побуждало все те же мечты? –
Дворжак: «Славянские танцы», Сметана: «Влтава», Моцарт, Чайковский,
Бетховен, но часто – томительный, как предчувствие неизбежной
любви и разлуки «Полонез» Михал-Клеофаса Огинского, сопровожденный
однажды лирической сказкой о Той, кому посвятил он свое «Прощание
с отчизной».
Та красивая сказка любви, та забвенная греза о рыцарстве сердца,
как встревожила она твою душу в этом маленьком доме, где в
черной полировке молчащего пианино отражались кружевная китайская
скатерть с фанзами, джонками, и, белым облаком, шкура полярного
мишки, отцом и добытая в арктических льдах; в этом доме, снаружи
охваченном шумом дождя в беловьюжной листве, –
в крупных гроздьях акаций, встревоженных перестуком прозрачной
капели в тех шелковичных и вишенных, абрикосовых, яблоневых
ветвях уходящего перводанного сада, где на грядках взамен
огурцов-помидоров цвели георгины и чорнобрiвци; в свеченьи
изумрудных побегов овса в палисаде, разведенного для зеленой
газонной красы заодно с ирисами-петушками и дымчато-красными,
розово-нежными мальвами степного Донбасса –
как взметнет твою душу в бесконечный полет и паренье эта чудная
греза, золотистая, дымчатая, как твои пряди, но и в дымке
иллюзий живая, как прямая возможность бессмертья – в любви…
Второпях возвращаясь домой в беспросветные те вечера по немощеной
улице Школьной вдоль тревожных, жутко журчащих, воровскою
засадой чреватых жимолостных кустов, вчуже укрывших и лица,
и души, и образы безответных предместных жилищ, как же ты
мечтала и грезила, возносилась душой в те пределы, где мужская
любовь поверяется не готовностью шубу купить и доставить земное
богатство, но паче – обессмертить любовь, посвятив ей в горних
творение сердца, которому суждено пережить и страданье, и
время, и даже отчизну, казавшуюся неизменной!
Только в этом сердцетвореньи, преодолевшем печаль всех измен
и предательств, и была бы ты Тою, какою тебя осязаю вне времени
и расстояний, вне тягостей жизни и вне притяжения смерти…
Но сердцетворенья случаются только в разлуке, и если когда-нибудь
в кратком моем отдаленьи все терзанье мое перед Богом, весь
посильный полет и все изумление миром сольются в исполненность,
от предсмертной печали и боли которой я нечаянно ахну и сам,
знай, что это – твое, ибо это легко, как душа, и светло, как
тоска по отчизне, до которой ведь тоже, как ни плачь, ни зови
– при жизни не докричишься, особенно будучи рядом.
Если же это случится, это и будет покой, в котором в единстве
любви ты жена мне, и дочь, и свеченье отчизны, и память житейской
пустыни, где Запад с Востоком суетятся-мятутся по разные стороны
обоюдного Рая, покаянно раскрытого настежь лишь для чистого
света любви и других состраданий.
КАШТАН
У КАРЛОВА МОСТА
Поглядывай ли на стрелки циферблата или затвори глаза от сиюминутной
благости возлежать в осеявшей тело мельчайшими пузырьками
углеводородной ванне, лечебный звоночек все равно прозвенит
внезапно, и очередная утренняя процедура закончится; санаторная
сестра, Ярмила или Дана, заботливо подаст на мокрые плечи
белую чистую простыню, и нужно будет одеваться и выходить
на улицу.
Но пока блаженство длилось, как будто и впрямь нескончаемое,
и Соня, закрыв глаза, честно пыталась всем существом отдаться
текущему благому мгновению, раствориться в нем в своей природной
наготе, столь целомудренно хранимой нежной зеленоватой водой
и гладкими на ощупь боками ванной.
Не хотелось ей и шевелиться, журча водою и сгоняя с рук, живота
и бедер приставшие газовые пузырьки: назойливые мысли о циферблатном
круговращении времени уже делись куда-то, и чудилась ей разве
что та приснопамятная купель в горах близ ингушского городка
Невинномысска, песчаная солнечная заводь у малой плотины,
уже с утра прогретая августовским солнцем.
Это было в воскресенье, давным-давно, и небольшая экспедиция,
мотавшаяся по всему Северному Кавказу в брезентовом грузовичке
в поисках серой слоистой глины для доменных печей, предавалась
солнечному безделью и игре в футбол с местными геологами,
а отец, начальник экспедиции, все читал газеты, сокрушаясь
о положении в Чехословакии и подозревая в Дубчеке платного
провокатора ЦРУ. Она же, белобрысая Соня, забрела, загорая,
в теплую прозрачную заводь, полную, как оказалось, рыбьих
мальков, таких голодных, доверчивых или просто глупых, что
они тотчас принялись тыкаться в босые ступни и небольно покусывать
пальцы ног.
Удивляясь этим наивным кавказским малькам, она улеглась в
мелководье вся как была в своем девчачьем бикини красного
ситца, и рыбки, окружив ее серо-серебристыми облачками, немедленно
взялись щекотать и пощипывать губами все тело от порозовевших
плеч до тонких бедер и угловатых подростковых коленок: было
жутко приятно и несколько даже зазорно, хоть оглядывайся:
никакие редкие мужские прикосновения не приносили ей впоследствии
таких бережных и совершенных осязаний и так не бередили таящейся
в ней, Соне, сокровенной жаркой тьмы.
Но лишь сейчас, в карловарской лечебной ванне с серебристыми
углекислыми пузырьками, пришло ей в голову, каково было бы
полежать тогда среди этих губастых мальков вовсе обнаженной,
или хотя бы задрав ситцевый лифчик, но тут и прозвенел заведенный
будильник, мальки порскнули и бросились врассыпную, и снова
настало в ее жизни настоящее время, то самое, в котором
смешная кукольная смерть, тот марионеточный скелетик с песочными
часами, звонит в свой серебряный колокольчик на часовой башне
старой пражской ратуши в такт с заведенными движеньями других
маленьких местных фигурок – скряги с кошельком и турка с лютней,
а туристы двунадесяти языков беспечно и весело следят снизу
за этим вековым перформансом, всякий раз с громким смехом
хлопая в ладоши, когда краткое ежечасное представленье завершается;
двенадцать деревянных раскрашенных апостолов перестают кружиться
каруселью в оконцах мудреных часов, а золотой петушок предвещает
бой курантов Старого города механическим «кукареку», равно
понятным на всех языках.
Перед нынешним приездом в Карловы Вары Соня чуть задержалась
в Праге, ровно на день, чтобы прогуляться от Старого города
до Пражского замка по Карлову мосту, благо и более существенные
решения привыкла принимать в одиночку, а денежная составляющая
вполне позволяла ей, трудоголику коммерческой фирмы по техническим
расчетам, нештатные отклонения от вынужденных расписаний жизни.
День выдался на диво, – солнце, соскользнув с острых, зернисто
мерцающих, как осетровая икра, коронованных шпилей сказочного
Тынского собора, лежало на отполированной тьмами ног мощеной
средневековой площади; веял с реки незлой ветерок, и по всей
Праге цвели каштаны, в свежеявленной аморфности как бы стремящиеся
взмыть в небеса вслед за целеустремленными конусами своих
кружевных соцветий – и изобильно-белые, каких много на Воробьевых
горах вокруг Московского университета, и те, другие, вовсе
пражские, в узорных розовых свечках, которые всегда напоминали
Соне об особенном карловарском фарфоре – тоже розовом, узорном
и таком красивом в утешение взора и сердца.
Отведя с десяток предложений уличных разносчиков рекламных
листовок, приглашавших на конвейерные концерты, где потоком
исполнялись для туристических масс Моцарт, и снова Моцарт,
и, ясное дело, Вивальди, она заказала кофе в переселившемся
уже под уличные зонтики кафе под самой часовой башней, здесь
и дождалась, пока смерть не позвонит в колокольчик, а потом
неспешно пошла по узюсеньким улочкам к Влтаве, выбирая свой
путь среди толп туристов, из которых чуть ли не всякий, особенно
их говорливые бабы, так и норовил сойтись лоб в лоб или, если
Соня вовремя не уворачивалась, пребольно толкнуть, стукнуть
локтем, а то и оцарапать замком сумочки.
Спешить Соне, не в пример иным, было некуда; она привычно
уступала дорогу, а то и вовсе пережидала людской поток у магазинов
богемского хрусталя и антикварных лавочек, чьи затейливые
витрины она так любила разглядывать и в Карловых Варах. Так
она подзадержалась и возле заведения, торгующего марионетками
на самом подходе к Карлову мосту, впрочем, ее остановила у
этой лавки-пещерки с чешскими куклешками и льющаяся из дверей
музыка: прельстительно и сладко пел там Хулио Иглесиас.
Эта его песня всегда нравилась Соне, она была цыганская, очи
черные, но вся по-французски и называлась «Ностальжи»:
так чудесно, думалось ей, было бы потанцевать с кем-нибудь
под это чудное охмуряющее пение, но не просто потоптаться
в обнимку, а именно потанцевать, как умели когда-то танцевать
отец и другие сорокалетние старики, которые точно знали, когда
повести партнершу в другую сторону и легко кружились не только
по, но и против часовой стрелки.
Сорокалетние уже давно не казались ей стариками, но эти нынешние,
и одинокие, и женатые, норовили сразу в койку безо всяких
предварительных танцев. Наверное, и потому, что никто из них
не умел кружиться в обратную сторону. Да и потом, никого из
них не оказывалось рядом в нужное время, чтобы просто поддержать
под руку, когда человек, например, засмотрится на цветущий
над рекою каштан и споткнется о прямоугольную пыльную выщербину
в брусчатке, которою, как известно, замощен Карлов мост.
Каштан, впрочем, заслуживал сочувственного взгляда хотя бы
потому, что никто его больше как бы и не видел: все остальные
люди деятельно ворошили туристические лотки, слушали музыкантов
и фотографировали декоративные статуи этого славного пешеходного
моста; всматривались во встающий на холме Пражский замок с
собором Святого Вита, любовались, наконец, на косой и широкий
перекат струящейся понизу Влтавы, а живой каштан, восставший
сразу и тотчас за парапетом, несмотря на буйное свое цветенье,
исчезал и терялся для них, как некий необязательный фон промеж
первоначальных барочных статуй. Потом оказалось, что такой
же точно каштан-невидимка растет и в другом конце Карлова
моста, и тоже цветет над стремниной, никем не замеченный и
не оцененный никем.
Замечать живые частности природы в предпочтение большим неподвижным
вещам ее приучил отец, который вечно таскал ее с собой в полевые
экспедиции и против воли сделал из дочери совершенную пацанку:
ему всегда хотелось иметь сына. Так вместо игр в дочки-матери
она и научилась стрелять уток и рыбачить, разжигать костер
в проливной дождь, ставить палатку и спать на сырой земле
в презрении к самой идее женской беззащитности и всяким там
требовательным зеркалам, а также совсем не обязательной, но
насыщенной полезнейшей информацией болтовне со сверстницами.
Это воспитание продолжалось так долго, что чуть вовсе не засушило
ее пробуждающейся женственности, а потом Соня спохватилась,
стала догонять уходящий поезд, в кровь разбила коленки, запыхалась,
да так и не догнала.
Быть может, без своих чересчур весомых идеалов она бежала
бы несколько проворнее, особенно без того идеала мужского
благородства, который сам собой сложился в ее полевых романтических
грезах, но тогда все равно догнала бы она не свой поезд, и
шел бы он не совсем туда, куда ей когда-то было надо.
Порой думалось Соне, что лучше было бы ей вовсе и не грезить,
а взять и окончательно стать синим чулком в библиотечных очках,
но что может поделать с собой человек, особенно женщина, да
еще образованная? Людей вокруг всегда было много, как туристов
на Карловом мосту, но все пары уже были разобраны; да и то
– в такой туристической толпе всякому начитанному и склонному
к задумчивости человеку мнится быть исключительным, чтобы
и средневековая Прага, и готические костелы, и каштаны над
Влтавой, и даже смерть с колокольчиком обращались только к
нему и только ему принадлежали, но, как говорится, шиш ему:
кругом уже толпятся туристы, и никакой человеческой исключительности
не будет больше ни за какие деньги, никогда и нигде, кроме
разве что покамест недоступных гор и лесов, где даже деньги
ни на что не нужны. Поэтому такой случайный среди прочих людей
человек и прозревает сквозь всякую толпу совершенное безлюдье
природы и декорации книжной истории и так порой замечтается,
что его просто необходимо толкнуть, чтобы привести в соответствие
реализму действительности.
В Карловых Варах, однако, Соне всегда было легко: она даже
пожалела, что впустую потратила день в Праге. В этом игрушечном
городке, с четырнадцатого века густо застроившем горное ущелье
с горячими источниками, настоящее время как будто стояло
на месте с незабвенного девятнадцатого столетия; в курортной
его части ничего не менялось в раздражение глаз и души, разве
что картинно подновлялись ампирные здания лечебниц и взбегающие
по обе стороны от речки Теплы в гору гостиницы, пансионы и
особняки.
Двадцатый век с его макдональдсами и лаковыми журналами с
обязательной голой натурой словно бы остановился в странной
нерешительности у запирающей это обустроенное ущелье черно-стеклянной
многоэтажной гостиницы «Термал», которая и сама, как будто
в стыде за гигантизм своих советских архитекторов, прижималась
спиной к вздымающемуся в небо холму, на первой выглядке
– плоской обзорной площадке которого некогда стояла виселица,
а ныне уютно устроилась беседка камеры-обскуры. От этой беседки
холм уже превращался в гору и ступенями поднимался все выше
в сосновые и буковые небеса, пока серпантины и спиральные
стежки целительного теренкура не увенчивались самой высокой
вершиной Вечная Жизнь с окруженною черными елями псевдоготической
замковой башней Гетевой Выглядки.
Соня ездила в Карловы Вары уже несколько лет и всегда по весне,
в начале сезона, – обнаружилась, откуда ни возьмись, печень,
да и частое спанье на природе аукнулось, видать, артритными
болями, – но людей здесь было ровно столько, сколько вмещали
санатории и лечебницы, разве что по выходным прибывали на
автобусах туристы, становилось шумновато, но можно было уйти
по теренкуру – скажем, тропой Бетховена мимо Почтового двора
и приречных черемух, уже и зацветших, уже источающих и отпускающих
душистыми облачками над темным журчаньем Теплы обалденный
свой аромат, – можно было уйти далеко в горы до Гетевой Выглядки
и там переждать с книжкой однодневное нашествие.
Ясное дело, это нежеланье праздных общений и явное отсутствие
женского азарта, проистекшее на деле из былых и очень противных
неудач и обидных поражений, выглядело в глазах российских
завсегдатаек Карловых Вар дурацкой гордыней, идиотским важничаньем
или хамским нелюдимством, – в любом разе Соня слыла здесь
существом со странностями.
После синего и ясного начала, которым взялся в Карловых Варах
май, опять стало пасмурно, лишь только зацвела черемуха; сырые
порывы северного ветра принялись обметать с деревьев и кустов
белые и розовые лепестки всевозможного цветенья, обрывали
с ветвей уже, казалось бы, и большие, и распустившиеся вширь,
но все еще мягкие, обвисающие от младенческой слабости и неокрепшие
в суставах листья; мятежными вихрями взметали эту краткую
белизну и нежную зелень к небесам, а наигравшись, бросали
на мокрый асфальт и холодную брусчатку.
Выйдя из раздвижных дверей старинного санатория, расположенного
прямо напротив Млынской Колоннады и курортного променада,
огражденных от узкой проезжей части высоким каменным бордюром
с тисовым и можжевеловым стлаником, Соня увидела, что солнца
нет, но нет и дождя, который всю ночь бушевал за окном; и
тот, одинокий, наверняка проросший сквозь стланик из отбракованной
луковицы красный тюльпан, который Соня навещала взглядом каждое
утро, был весь унизан слезным бисером дождевой росы. Черно-жемчужные
улитки облепили синеватую хвою, размякшую в сырой утренней
теплыни: видно еще полагая себя в рассветном одиночестве,
они жили и перемещались без оглядки и осторожности, но готовы
были при малейшем приближении опасности, не говоря уж о чьем-то
прикосновении, тотчас спрятаться в свою ракушку и убедительно
притвориться неживыми.
Уж если дело дошло до неодушевленных улиток и отдельно растущих
тюльпанов, еще между тем не увядших и цветущих так же безупречно,
как и те, что растыканы согласно сортам, цене и расцветке
на заранее спланированных клумбах, иной мог бы решить, что
Соня совсем не интересовалась живыми людьми, скажем, тем медленно
гуляющим по променаду и посасывающим карловарскую водичку
из напоминающей плоский чайник фарфоровой кружки статным,
саженным в плечах мужиком, которого звали Виктор Михайлович,
и с которым еще вчера она сподобилась танцевать в Почтовом
дворе.
А если женщина такая бука, тогда зачем она?
Конечно, если жизнь и так называемую действительность полагать
сценическим действом, что только отчасти правда, в нем по
законам жанра и вправду должны и даже обязаны совершаться
с персонажами всяческие зримые происшествия, чем-то любопытные
для посторонних. Но что нам делать, если большую часть этих
посторонних привычно будоражат разве что чужие преступления,
предательства и обманы, а также, и особенно, нечаянные амуры
и еще более случайные соитья, которые почему-то считаются
не только значимым, но и до крайности достойным внимания событьем,
хотя всякое стороннее любопытство к ним ублажает и тешит в
человеке только и исключительно то, что потом зарывают в землю,
чтобы не пахло, –
если вся жизнь человека таким образом полагается чередой приключений,
интересных, казалось бы, только для потеющих от жара неизвестности
и трясущихся от похотливого возбужденья подростков, всегда
готовых заглянуть в женскую баню через вертикальную скважину,
соскобленную нетерпеливым ногтем в забеленном окне, –
что делать тогда с человеком, который отказывается быть обезьяной
на чужую потеху?
Все мы люди грамотные; Соня и сама в свое время зачитывалась
Фрейдом, также, кстати, персонажем истории Карловых Вар, но
что для иного мужчины – победный финал, для женщины с грезами
– всего лишь и только начало. Чего же ради совмещать очевидную
развязку и самый зачин в рамках краткого действа, да еще назвав
для верности свидетелей и очевидцев, всегда готовых полюбопытствовать,
особенно на дармовщину?
Не ради же красного словца и плебейского любопытства запечатлевать
и нам однократное смешенье и искажение плоти, смакуя обстоятельства,
когда лик превращается в рожу, а лицо в харю, и одна в другую
перетекают две жаркие тьмы? Или рискнуть-таки, что обгогочут,
и напомнить, что не само соитье, но только не предвидящая
смерти любовь и растопляет тьму всякого соблазна, только она
и переплавляет чувственное искушение в долгий истекающий свет
и последующее неугасающее свеченье, похожее, быть может, на
свеченье каштана у Карлова моста, а то и свеченье душистых
черемух в солнечных светотенях журчащей реки, тех, что сияют
и светятся даже тогда, когда вокруг пасмурно и солнце – в
уме, как любовь, которая бесспорно же существует, но отчего-то
никак не показывается?
Накануне было и солнце, – в золотящейся струе под мостом у
Термала плескались и просили оставшихся от завтрака булочек-рогаликов
зеленоперые дикие утки, и обтекаемые карпы, от больших до
малых, стояли толстыми лбами против течения; в близлежащих
садах Дворжака сиренево-белыми, пышными, разваливающимися
чашами отцветала, выпуская листья, магнолия; голубели, тесно
прижавшись цветок к цветку, соцветья низкорослых рододендронов;
рядом с ними, в пятнистой солнечной тени широко распластавшего
огромные сучья двухсотлетнего платана желтели и синели посадки
анютиных глазок, а под желтыми, унизанными мельчайшей листвой
нитями плакучей ивы, обняв тонкими руками согнутую в колене
ногу и широко отставив другую, сидела на камне у пустого еще
бетонного прудика темнобронзовая и совершенно нагая русалка.
Несмотря на свободную позу, никакого телесного вожделения
не вызывала ни в ком эта скульптура естественной и целомудренной
своей наготой, так же, как и другая, помещенная несколько
поодаль, прямо на лужайке у стены белоцветущих азалий: и это
была обнаженная, сидящая согнув колени в траве, склонясь долу
головою и прижав к себе пустой глиняный кувшин, из которого,
однако же, как бы вечно струилась уж очень чистая, совсем
прозрачная и потому неочевидная вода...
«Да как же, как», – подумала Соня, вовсе растворясь тогда
в этом нахлынувшем в душу солнце и цветении, – «как сохранить
это мгновение настоящего времени, не умирая в нем, но и не
запечатлев его; как научиться осязать время, не останавливаясь,
а продолжаясь в нем вместе с солнцем, цветами и бережными
дуновеньями ветра, как уметь не печалиться, а длить первоначальную
радость даже и глядя, как упадают на траву облитые мокрым
глянцем магнолиевые лепестки? Разве только и можно ли, что
запомнить откровенную розовую кипень японских вишен в этих
садах, чьи ветви так низко стелятся под-над изумрудной, умопомрачительно
пахнущей свежестью майской травою; только и можно, что затвердить
еще живым сердцем наизусть, как пламенеют здесь едва распустившиеся
красные буки возле прилежно зеленеющих елок, как по обочине
этих садов бушуют азалии, из красно-розовых бутонов которых
против ожиданий исторгаются множественные, но совершенно белые
цветы; только и можно, что вечно ждать и надеяться, что и
этот праздник когда-нибудь начнется сначала и однажды наконец
исполнит давнее, еще в детстве данное обещание долгого счастья?»
Не оттого ли, что совершенно ведь не с кем было ей поделиться
прекрасным этим и печальным восторгом, она и согласилась пойти
на праздничное гулянье в старинном Почтовом дворе, где, прыская
и истекая соком, жарились на открытом огне деревенские колбаски
– под пенное темное пиво, и местные люди плясали под гудбу
– фольклорный духовой оркестрик, играющий и поющий исключительно
старые марши, под которые, оказывается, так любят плясать
чехи и чешки старшего и среднего возраста..
Этот Виктор Михайлович был мужик, наверное, и неплохой, хотя
и несколько самоуверенный и, как говорится, знающий себе цену.
Цены этой, однако, никто ему не давал, по крайней мере в России,
откуда, он, коренной русак, еще в молодости женившись на сокурснице
по мединституту, подался не куда-нибудь, а в Израиль, где
и жил до сих пор бобылем, давно уже разведясь и сменив дюжину
квартир и мест работы.
«Вы не скучаете по России?» – спросила его Соня за столиком
на узорной веранде Почтового двора, откуда рукой подать было
до закурчавленной самыми разными оттенками зелени и почти
отвесно вздымающейся в небеса горы, в подножии которой струилась
и журчала на камнях белочеремуховая Тепла.
«Да нет», – ответил он, подумав, – «с тех пор, как уехал от
большевиков, я там и не был ни разу. А зачем портить настроение?
Я помню ее, как помню: друзей, родню. Природу... Поедешь –
в глаза только все плохое и будет бросаться, чего расстраиваться?»
Помолчали.
«Но по русской природе-то скучаете, наверно?» – «За природой
– скучаю. Знаете вот, в первые годы в Иерусалиме был у меня
пентхауз. Оттуда, с верхотуры, видать было далеко – чуть не
до самого Мертвого моря. Знакомые – евреи, арабы, – как приходили,
ахали: какой, видишь, пейзаж! какая перспектива! А мне что
было до них, до выжженых холмов этих? Тоска смертная! Я взял
и засадил на террасе весь этот вид всякой растительностью
в кадках: и как-то легче стало. Теперь живу в новом квартале
на втором этаже: откроешь окно – сосны...»
«А здесь вам нравится?» – Здесь нравится: зелено, по-русски
говорят: на Россию похоже, однако без хамства и сам себе хозяин.»
– «Еще приедете?» – «Да теперь уж буду ездить.» – «А вам там
не одиноко?» – «Работы много. А чего и работать, когда столько
денег сдирают на социал: это сколько бездельников кормить
из своего кровного! На Западе, Соня, если кто и живет хорошо,
так это совсем богатые и совсем бедные. Наш средний класс
за всех отдувается: вкалываешь, вкалываешь, как попка, – разве
не обидно?»
Тут после перерыва снова заиграла гудба, забухал медный бас-геликон,
и наряженные, как на праздник, супружеские пары из чехов и
немцев поднялись из-за столиков и пошли за руку на танцевальную
площадку; пошла и Соня с Виктором Михайловичем.
Танцор он был с опытом – партнер завидный; умел вести и против
часовой стрелки, и крутить в обе стороны, но то ли ладонь
его оказалась слишком влажной, то ли показалось Соне, что
второй рукой он все теснее обнимает ее за талию, выжидая,
чтобы прижать к себе, а только посреди танца она вдруг вспомнила,
что у нее нынче платная процедура, и ушла восвояси из Почтового
двора, но пошла не в город, а прямиком в зеленые горы, сперва,
однако, сбежав по откосу к Тепле и умыв ледяной водою руки
и лицо.
Подъем по тропе Бетховена здесь был крутой и долгий, и Соне
пришлось пару раз отдышаться на заботливо поставленных для
отдыха скамейках, но взойдя наверх, она уже ни разу не останавливалась,
все шла и шла среди светлых буковых лесов и горных сосен и,
разрумянясь от быстрой ходьбы, молчала в свое удовольствие.
Тенькали в ветвях синицы, щебетали славки, и свистали дрозды;
тонко журчали порожистые ручейки, и дятел колотил клювом,
разнося по пронизанным солнцем рощам звонкую и прерывистую
дробь; в проемах между высокими стволами синело небо, и видно
было, как реет в воздухе золотой сеянец отживших почек, и
как сыплются с кленовых ветвей под ноги светло-зеленые пушистые
сережки раннего цветенья, а тропа все не кончалась, но кончается
все, даже лесная тропа, и Соне пришлось-таки нисходить из
малолюдных горних высей к знакомым и тесным карловарским кварталам.
И тут, снизойдя едва на полдороги, она и увидела то невиданно
и неслыханно пылающее, огромное и раскаленное до чермной пунцовости,
червлено-алое с золотым блеском, багровое в цвета побежалости
краснобуковое дерево на фоне иссиня-бирюзового неба возле
голубого с белым ампирного особняка, которого она тоже почему-то
никогда не замечала прежде.
Во всем полыхающем зареве, пожаром охватившем его могучие
сучья и ветви, этот красный бук был еще и прохладен, мерцая
листвою; чуть солнце скрылось за редкое облачко, как древо
тотчас погасло и стушевалось, но уже через мгновение вспыхнуло
вновь и зарделось с новою силой, и отсвечивали в его рдяных
листьях небесная лазурь и бирюза.
Соня загляделась, не в силах уйти и разлучиться с этой внезапной
красой; ярко-огневая, рудая, ослепительно сверкающая и мерцающая
багрянцем листва воздыхала и шевелилась на ветру, вздымаясь
в одном пламенеющем порыве, словно грезя взлететь, возреять,
вознестись, и поразительная истина была в том, что в нем едином
сопрягались и весна этих свежих, едва распустившихся и запламеневших
листьев, и предчувствие зрелости – предвестие звонкого лета,
и суща была в нем даже осень, когда все остальные, разной
густоты зеленые деревья станут здесь золотыми и красными,
а оно останется прежним, и ни в чем не изменит себе...
Так зачем она, Соня, и о чем молчит она, ежась после блаженной
ванны от пасмурной сырости и глядя на красный тюльпан в можжевеловой
синеве, и как бы вовсе не глядя на прочих курортных людей,
шествующих к шестому источнику, среди которых возвышается
вот и Виктор Михайлович, твердым шагом идущий и зорким взором
высматривающий другую партнершу для танцев?
Да разве же нельзя, Господи, молчать и о том, что человеку
просто хочется жить, а не умирать по чужому звонку и расписанию,
что сколько ни живи, а все мало, когда грядущее вопреки настоящему
времени все источается чудесным веянием пенных черемух
и легко узнается в свечении белых каштанов и красных сверкающих
буков; а также о том, что если есть красота, то случается
и справедливость, и в этом надежда, и главное вовсе не уходящее
циферблатное время, а мечта и потребность любить, потому что
блажен человек, в котором не умерло детство, но женское одиночество,
воля ваша, есть несправедливая вещь.
VI. МОЛИТВА В БУКОВЫХ ЛЕСАХ
Я приехал в Карловы Вары совершенною сонной сомнамбулой. То
есть на вид-то я, как ты помнишь, был ничего, петушился, волок
чемоданы, а обустроив с тобою на пару пристанище в старинной
гостинице «Волкер», даже замыслил чего-то такое писать, -
словно еще недовольно наших имен и фамилий разбрелось прилежными
муравьями по книжным, газетным, журнальным листам и страницам,
–
но, ошеломленно воззрясь на компьютерный, светящийся пустотою
экранчик, тут же допетрил в насекомой усталости мысли, что
и впрямь приключается час, когда изнуренной приказным расписаньем
душе надлежат не слова, а существенность пеших прогулок, вдвоем
или порознь.
Вслед за этим невольным открытьем, таящим в себе, как идею,
счастливую праздность, мне случилось еще потрудиться, беря
свою замороченную рабочей печалью натуру за горло. Ей никак
не хотелось гулять. Ей, сонливой от частых предсветных
вставаний, вместо всякого прочего действия хотелось, желалось,
вожделелось и мнилось одно – вконец забаюкать себя, прикорнуть
на гостиничном ложе, –
ей мечталось дремать, улетучиваться, исчезать, хорониться,
скрываться, таиться и прятаться, впадать в забытье, притворяться
неодушевленной, отключаться, отсутствовать, растворяться и
таять, выпадать из реальности, усыплять осязанья, задавать
храповицкого, дрыхнуть, давить комара, беспамятствовать, сопеть
в обе дырочки, почивать и кемарить, утрачиваться, испаряться,
забываться в объятьях Морфея, безнаказанно барствовать, кейфовать,
наслаждаться, упиваться самозабвенным бездельем, –
и, во множестве, – спать, ускользая в покой и усладу и ленясь
даже грезить во снах.
А вообще, стоит только внезапно запнуться, стоит выпасть на
воле из будничного распорядка, как сама ли собой возвращается
мысль: это как же, страшась ничего не успеть, незаметно с
годами дошел я до жизни такой, что, не в силах окоротить разбежавшийся
поезд судьбы, самое эту жизнь принужден осязать на сквозных
скоростях? Это я-то, который из всех всеблагих удовольствий
природы с малолетства отдавал предпочтение не какому-нибудь
полевому футболу, а самому сладкому сну?
Даже пасмурные пробужденья среди белого дня или, сумрачней,
на закате; даже смурное угрюмство, которое, как паутина, облипало
меня после сна, производя нелюдимость, столь печально знакомую
маме и младшему брату, – ничто не умело отвадить меня от соблазна
полдневного сна... Я ведь был первоклассным лентяем, байбаком,
лежебокой, мечтательным недорослем, записным фантазером, волынщиком
и разгильдяем: чуть выпадала минута, залегал на диван с прекрасномудрой,
с малолетства зачитанной книжкой Леонида Соловьева о Ходже
Насреддине и, дойдя до нижеследующих, возлюбленных, и, увы,
заключительных слов, –
«Жизнь! – воскликнул он, вздрогнув и затрепетав, не замечая
слез, струившихся по лицу.
И все вокруг дрогнуло, затрепетало, отзываясь ему, – и ветер,
и листья, и травы, и далекие звезды», –
до таких побуждающих к действию слов, – я отрадно задремывал,
засыпал, забывался в покойной безмерности и неоглядности времени,
которое длилось без счета и без покаяний; неограниченный свет
лился в просторные окна – одно и другое, распахнутое на балкон
угловой той квартиры, – а до балконных перил, как зеленая
лава, доставала в те годы ветвистая крона – (могучие сучья
и юные, в желтом цветеньи сучки) – шелестящая крона исполинского
дуба, вздымающегося из глубокого кратера того неизменно-казанского,
в гаражах и сараях, двора.
Мне уже никогда не уснуть так блаженно и так безмятежно, как
в присутствии этих, шумящих нечаянным ветром, бок-о-бок со
мной зеленевших дубовых ветвей, как уже никогда не проснуться
без жалости и сожаленья, но в Карловых Варах, в начальные
дни после лондонского недосыпа, я не чаял и памяти, а лишь
избавленья от всякого долга, норовя то и дело всей сутью обрушиться
в сон, хоть на час отложить муравьиную смуту о том, что, кажется,
нынче же нужно додумать, доделать – и тотчас забыть, чтоб
встревожиться чем-то иным.
Спать без просыпу, спать без стыда и упрека, – это сделалось
в Карловых Варах легко и доступно: вот я и спал, – дверь на
балкон была приоткрыта; майский ветер, сквозя, шевелил-колыхал
белопенные занавеси, однако в прерывистом струении ветра проникали
в наш номер не только покупная свобода курорта и всякая свежесть,
но и стук, и шумы, и возня, и визжание электропилы, разрезающей
по лекалу глянцевитые плиты: на старой рыночной площади, у
Морового столба ежедень мастерили и гнали к открытью сезона
новодельный, под мрамор, лестничный спуск с попутными клумбами,
лечебным фонтаном на нижней площадке и бетонным бордюром,
оживленным с обеих сторон привезенными с гор деревцами.
Это мне не мешало. Мой сон-полусон и без того был тревожен
и полон, как зримая явь, недовыполненных обязательств, и каких-то
раскаяний, и накопившихся слез, и я, как сторонний свидетель,
то и дело ловил свою душу на том, что, не давая мне тотчас
заснуть, в полусне, повторяясь, сбиваясь и начиная сначала,
она шепчет молитвы – в наивное искупленье чего-то, что было,
как видно, недодано ею Единству, –
и я, как извне, понимал, что это я сам в прерывистой и напряженной
дремоте, как в провинности перед Аллахом, повторяясь, сбиваясь
и начиная сначала, один за другим бормочу недосказанные, а
вернее, произнесенные ранее в смуте и спешке чужих расписаний
глаголы укороченных в буднях намазов, –
словно и в заслуженном всеми раденьями сне надлежал мне сей
наиглавнейший, неоплатный, неизбывный, признательный, истовый
и лишь нарастающий долг благодарностей и покаяний, –
и душа, помимо усталого тела, продолжала шептать и молиться,
в страхе Божьем даже во сне ужасаясь остаться одна.
Какой же проступок в забвении всех насущных повинностей века
не давал ей укрыться в доступные прежде безмятежности дремы;
какая вина не пускала ее в забытье всех вторичных сознаний?
Чего же она не свершила, что и на воле, и наяву, и во сне,
и в незримом приятии жизни, и в сверканьях кремнистых путей,
и в забвении не дано ей забыться желанным покоем свободы?
Я знаю ответ – да разве же я не знаю!?
«Жизнь!» – она ведь лишь зримое следствие – праздник для осязаний,
но листья и звезды, соцветья и ветер, ветви и травы, прекрасные
звери и всякие люди, птицы и муравьи, единение, непрерывность
и слитность, нераздельность и цельность обретают значенье
и смысл – как в любви – только в свете Единства Аллаха, –
но знаю, что именно этой, незатейливой как свечение
дня сквозь закрытые веки, этой первопричинной, изначальной
и радостной правды я, как должно, тебе не открыл, не сумел,
не поведал, –
и в смятеньях дремоты, в неискупимой вине душа опять и опять
бормотала во имя Аллаха, Милости и Милосердья:
Скажи: «Я ищу прибежища у Владыки рода человеческого,
Царя рода человеческого,
Бога рода человеческого
от злобы крадущегося злоязычника,
который нашептывает сердцам людей,
злоязычника из джиннов или рода человеческого.»
Как мне было сказать – так, что ты тоже знала, что
вот эта последняя сура Корана говорит обо всем, что действительно
есть перед всем, что лишь зрится? В ней, немногословной,
мерцающей светом из многих молчаний, проницается суть Единенья
и рок человеков, которые в шуме привычно глядят на гранитный
Чумной постамент, на ходу различая троичность изваянных в
камне фигур – бородатого Бога-Владыки, молодого Иисуса-Царя
и голубя – Духа Святого в решетке барочных лучей, но едва,
возведя очи к солнцу, хоть на миг затворяют глаза, как свечение
дня возвращает ему или ей осязанье Единства, где и Владыка,
и Царь, и Бог Дух Святой суть не разные свойства и не ипостаси,
но лишь титулы и имена в отраженье всеединой и неразличимой
очами природы Аллаха.
Не сторож я братьям и сестрам моим, – но душа, за всю жизнь
не сумевшая поделиться с тобою единственным, чем воистину
стоит делиться, все равно исступленно просила прощенья – просила
отсрочки, бормоча и во сне за двоих:
Скажи: Он есть Аллах, Единый,
Аллах, Независимый и Всеми Искомый;
Он не рождает, и не рожден Он,
И нет никого, равного Ему.
Эта истина, безыскусная, как вода посредине пустыни, и чреватая,
как слово «люблю», посильной работою сердца в свидетельство
и благодаренье, она ведь и есть Бытие вне и паче всех
прочих, и я ведал сквозь близко стоящие, нестыдные слезы,
что и во сне не уйду от доселе напрасных мытарств и терзаний:
все зримое недостоверно; все слышимое – лукаво, да и кому
не известно, что вчуже необъяснима она – любовь, лишенная
зримого образа и всякого изображенья, осязаемая только душой
и памятным зрением сердца?
Но не след унывать, – след вставать, и тягучим рывком подниматься
с колен, подобно заседланному, в стременах, дромадеру – боевому
верблюду священной синайской пустыни.
Не тому, белоснежному, с пушистою холкой, двугорбому, в красно-золотой
канительной уздечке и свадебной сбруе в игрушечных блестках,
– не тому, стало быть, что доставлен из Алма-Аты и безмятежно
возлег на стеклянном журнальном столике, словно холмик в цветущей
чимкентской степи, а вовсе другому, караковой масти, поджарому
и беговому, восстающему, напрягая на бедрах скульптурные мышцы.
Такой, с нежным взором миниатюрных влажно-черных очес, пребывает
в прихожей рядом с красной лягушкой с Тайваня, отражаясь в
зеркальном трюмо вкупе с человекообразным ее и улыбчивым ликом
и пестрою яшмовой вазой, и существуя тем самым в единстве
двух обоюдно-зеркальных, отраженных взаимно миров.
Я сторговал его в темной сумрачной лавке на тунисском острове
Джерба – как бы шутя и попутно: в красной вязаной шапке торговец,
азартно хватая меня за рукав и клянясь, что признал во мне
по глазам позабытого брата, а ценаде для американских туристов,
сперва скинул эту жуткую цену на четверть, а потом вполовину,
но и это не помогало: для чего дался мне этот нежноглазый,
но игрушечный и сувенирный тунисский верблюд в цену действенной
крепкозубой лошадки гденибудь в Зауралье, а то и в прикамском
Красном Бору?
“Так скажи же тогда свою цену!” – возопил продавец, и я, только
чтоб отвязаться, назвал цену в десять раз меньше первой. “Разорить
хочешь”, – уважительно молвил сей бодрый тунисец и, хватаясь
за сердце, крича и стеная, всучил мне верблюда за самую малую
цену, ничуть, я уверен, не оставшись при этом внакладе.
Карий, изваянный из блестящей коричневой кожи верблюд, приуготовленный
к ярому бегу и преодоленью, он напомнит мне море и остров
с самой древнею синагогой в арабском Магрибе; старые города
– Сусс, Кейруан и Тунис – величье мечетей и крепостных укреплений,
лепнину жилищ из золотой и стеклистой, мерцающей и отекающей
глины и крытые лабиринты старинных базаров, а еще – открытые
солнцу и звездам обиталища вольнолюбивых берберов, пещерные
соты, отрытые в желтом песчанике и сходящиеся в просторную
воронку двора, разверстую в небо.
Я припомню дорогу через сухое, сверкающее отложеньями соли
под солнцем пустынное озеро Призрачных Пальм, с его миражами
и большими песчаными розами красного, черного, синего, драгоценно
зеленого цвета, и оазисы, где журчат роднички, и, орошаемые
в песке кристально поющей водою, спеют под сенью пальмовых
листьев медовые гроздья янтарных, желто-коричневых фиников
и оранжевые померанцы, но и это мираж, чувственный отсвет,
блики желаний и марево воображенья, от века взыскующего плодоносящих
садов и других вертоградов для утешения и развлечения взора.
Пожившее сердце – оно лишь и ведает, как честна и правдива
пустыня, столь родственная по жизни пространству между сном
и трудом.
Вспоминаешь ли ты, как сойдя с настоящих шершавых и теплых
одногорбых верблюдов на окраине бесконечной Сахары, мы присели
с тобой на бархан, за которым, перемещаясь по наущенью неустанного
ветра, извилисто перетекали и нарастали валами до самого горизонта
белопесчаные дюны? Разверстый, распахнутый Богу простор не
рассеивал взора в то милосердное раннее утро, все постигалось
так ясно – и вечное перемещенье пустыни, и прикосновения призрачных,
легких рук ветра, и отчетливые арабески песков, и лютая даль,
а вблизи и вплотную – хрустальное, тонкое пенье чистейших
песчинок, струящихся сквозь наши пальцы, утекающих по откосам
бархана, как образ незамутненной воды, столь внятный тому,
кого хоть однажды поистине мучала жажда.
Я все еще слышу этот шелест и шепот осыпающихся и восходящих
песков, ощущая касанья пустынного бриза, осязая пугливой душой
эту подлинность мира, в котором и зелень листвы, и родник,
и цветные розетки соцветий совершенно нечаянны и возникают
внезапно, как чудо оживленья и одушевленья пустыни, в котором
лишь тот, кто доподлинно знает пески и безводье, в благодарных
слезах разумеет зеленую благость Аллаха.
Не видя и не осязая душою пустыни – как надеяться на преображенье?
Напрасна и мысль, что прообразом райского сада может быть
постоянный оазис. Вот, на юге Омана есть лютая местность Дофар,
– великая сушь, плато в каменистых уступах и истерзанных ветром
игольчатых скалах, омертвелая пустошь, испепеленная изнурительным
солнцем и иссушенная слепым суховеем до последней песчинки,
до последнего мертвого камня безводных долин и безжизненных
голых ущелий.
Круглый год среди редких, распятых, окостеневших деревьев
и скульптурных скелетных кустов беспредельно господствует
смерть, торжествуя над всякою жизнью, пересыпая песок с одного
пустыря на другой, из одной косной длани в другую, но все,
что ни есть, – лишь знаменья и знаки для сердца: даже смерть
и запечатленное ею отсутствие жизни.
Потому что однажды в году, за миг до того, как в этом пекле
отчаянья исчезнет надежда и грозно возропщет любое смиренье,
в одночасье меняется все: по предвестью и слову Аллаха пресекается
вдруг суховей аравийских пустынь, и незримо задует иной, океанский,
живительный ветер, называемый среди местных арабов «Ветр изобилья».
«Будь!» – промолвит Аллах, – и по-над выжженным насмерть гористым
плато, над распадками мертвых долин мгновенно и ниоткуда сгустятся
и сгрудятся кучевые, толпящиеся в небесах облака и клубящиеся
светоносные темно-влажные тучи, – и муссонные проливни, водопадами
рушась на сушь, за какие-то дни совершат чудотворное действо,
устраняя все прежние образы и впечатленья и преображая сухую
пустыню в зеленый цветущий Эдем с журчащими речками, птицами,
мотыльками, стрекозами; на обильную зелень с песчаных барханов
аравийской пустыни примчатся стадами газели, а над ними в
промытом хрустальном сияньи зашелестят своей жесткой листвой
дары полноводного, всеобъятного и всевышнего, зеленого милосердья
Единства, –
воскресшие и до боли живые растенья в сакральных ароматических
смолах, –
таящая в дуплах и трещинах пенную камедь абиссинская коммифора,
в надрезах сочащая благоуханную, застывающую розово-желтым
стеклом мужскую и женскую мирру, и коммифора бальзамная, чудный
куст, источающий прозрачные, золотые, янтарные слезы – предтечу
целительных меккских бальзамов;
и порожденное единственно волей Аллаха ладанное дерево Boswellia
sacra, чей томительный ладан, серожемчужная камедь, душистая
смолка – живица Аллаха, воскурится впоследствиивкруг множественных
образов и распятий в буддийских молельнях Киото и в храмах
Иерусалима, в индусских ашрамах и в монастырской обители Святой
Катерины под Синайской горой, в московских церквах и в православном
соборе на лондонской Эннисмо Гарденс.
Всего лишь три месяца благоденствуют в Дофоре муссоны, но
этого, как одной настоящей любви в человеческой жизни, довольно
для счастья и продолженья надежд, и всякий, кто сердцем провидит
цветенье и зелень в безводной скалистой пустыне, предчувствует
в том же и смысл своего бытия – до и после нечаянной и непродолжительной
смерти.
…прости и помилуй… Какой же восторг, какая печаль ожиданий
в предвестии Сада! Как милость и как милосердье в сыпучих
песках – водянистая свежесть струистых Твоих дуновений, касанием
ангелов охлаждающих щеки и лоб, заставляя поверить в предначертанную
переменчивость судеб…
Белый песок отекает по склону бархана, и покой предвещает
движенье; тихий ветер пустыни овевает лицо, позволяя и сердцем
увидеть просторы посильного существованья, одаряя и в пекле
пустыни тем мигом блаженства, в котором Тобою сокрыта и сжата
в секунду струящаяся прозрачной прохладой зеленая вечность,
тот Сад, прозреваемый сердцем в бескрайних песках, где у странствующего
человека нет ничего, что мешает движенью, а есть только воля,
молитва, душа и дорога…
Я не знаю другого столь явного и живого намека на земное присутствие
Рая, чем ежегодные воскрешенья пустыни. Так ли чистое чаяние
невзначай обернется небесным даяньем? Все, что ни есть, есть
знаменье и знак для людей, но не подвиг терпенья разумеет
первичные смыслы, а лишь самое малое, даже и вовсе ничтожное
одоленье себя самого.
Отоспавшись и взяв себя в руки, я стал выходить на проходки
вдоль уложенной в рукотворное русло, аккуратно бегущей по
каменным плитам реки, которая в городе лишь кажется прямотекущей,
а на деле легко извивается, вьется и кружит, и поэтому восходящий
на зеленые возвышения пряничный град по ходу прогулки тоже
как бы кружится – обращается вкруг собственной главной вершины,
увенчанной, словно державной короной, гостиницей Империал.
Спиральное круговращенье старинных подворий, отелей, курзалов,
церквей, колоннад, столпов, монументов, мостов и садов-вертоградов
чрезвычайно заметно, когда ты шагаешь, уже и не глядя под
ноги, но усердствуя взором, восходящим по заставленным особняками
ступенчатым склонам зеленой приречной теснины, –
и в этом, двойном и взаимном, упорствующем вопреки всем уныньям
и тяжестям сердца движеньи регулярные Карловы Вары, в молчаньях
действительности преображаясь и приветствуя в нас очевидцев
своих превращений, исподволь – миг за мигом – претворяются
в призрачный, истомляющий воображенье, классический и старопрежний
Карлсбад, предвещающий сердцу присутствие Гете, именно Гете,
а также Бетховена и Казановы, потому что сей крайний отметился
также и здесь, всей природой и жизнеописаньем легко умещаясь
в словарь иностранных словес:
аллегро, аббатиса, абордаж, абсурд, авантюра, автопортрет,
агрессия, ажиотаж, ажур, азарт, акробат, актер, альков, альфонс,
амурный, антре, антураж, аплодисменты, апломб, аффект;
бабуин, балаган, балдахин, банкрот, баркарола, барокко, бестия,
бижутерия, бисер, бисквит, блеф, бордель, бордюр, бравурный,
будуар, букли, бурлеск, бутафория, буффонада;
вакханалия, вандал, варвар, варьете, вензель, виньетка, вираж,
водевиль, вольтижер, вуаль;
гавот, гаер, галантерея, галера, галун, гамадрил, гарус, гастроль,
гениталии, гиббон, гинекология, гипнотизер, гипюр, глазет,
гном, гобелен, гондольер, гороскоп, горилла, гофре, гравюра,
гример, грот, гротеск, гурман, гяур;
дебил, дебош, деградировать, дегустатор, декаданс, декламатор,
декор, деликатес, демагог, демарш, демонстратор, депрессия,
деспот, диадема, дивертисмент, диктатор, дилетант, дисгармония,
диссонанс, дифирамб, доктринер, драпри;
евнух, ересь;
жабо, жанр, жаргон, жонглер, жуир;
зодиак, зомби;
идеолог, идиллия, идол, иллюзионист, имитатор, иммигрант,
импотенция, импровизация, импульсивный, индивидуалист, индульгенция,
инициатор, инквизиция, инкрустация, инстинкт, инсценировка,
интерлюдия, интермедия, интермеццо, интерпретатор, интерьер,
интим, интриган, инфантильный, информатор, инфузория, инцест,
ипохондрия, истерия;
кабаре, каббала, кавалер, каватина, каземат, казино, казус,
кейф, каламбур, калейдоскоп, калька, камарилья, камзол, камуфляж,
канкан, кантата, кантилена, капелла, каприс, каприччио, капуцин,
карикатура, карьерист, кастрат, катакомбы, китч, клавесин,
клеврет, клептоман, клише, клоака, клобук, кокотка, коломбина,
колоратура, колье, комедиант, комик, комментарий, коммерсант,
компенсация, компромат, комфорт, конкурент, контральто, контрамарка,
контраст, контур, конформизм, конъюнктура, кордебалет, корсет,
кортеж, костюмер, креатура, креп-жоржет, криптограмма, крупье,
крюшон, кузина, кулиса, кунсткамера, купюра, кураж, куртуазный,
куртизанка, куртина, курьез;
лабиринт, лакуна, лампион, ларго, легато, лейтмотив, ленто,
лесбиянка, либерал, либретто, лилипут, лоджия, ложа, ломбард,
лорнет, лотерея, люкс;
магия, мадам, мадемуазель, мадригал, мандрил, мазохизм, макака,
макет, макияж, макраме, мамона, мандолина, маневр, манеж,
манекен, маникюр, манипулятор, маньяк, маразматик, марафет,
марионетка, маркизет, мародер, мартиролог, маскарад, мастурбация,
матрона, медальон, меланхолия, мельхиор, мемуары, менуэт,
меркантильный, метаформоза, меццо-сопрано, мизантропия, микроб,
мим, миниатюра, мираж, миссис, мистерия, мистификатор, миф,
модель, модерато, монополист, монстр, моралист, муар, муляж,
мускус, муслин, мусс;
набоб, наркоз, наяда, неврастеник, неглиже, несессер, нимфоманка,
нувориш, нунций, ню;
обскурантизм, овация, одалиска, одиозный, оккультный, онанист,
опиум, оракул, орангутанг, оратория, оргазм, оргия, орнамент,
оркестровка, ортодокс, оттоманка;
паблисити, павиан, павильон, па-де-де, па-де-труа, палаццо,
панегирик, пансион, пантомима, папильотка, папье-маше, параноик,
парвеню, пария, пародия, партер, парфюм, пасссаж, пассия,
пасьянс, патетика, патронаж, пафос, педикюр, перверсия, периферия,
перлюстрация, персонаж, пессимист, петтинг, пигмей, пилигрим,
пиния, пируэт, пиццикато, плагиат, плебей, плейбой, плиссе,
плюмаж, плюш, позер, позумент, политеизм, полишинель, помпезный,
попурри, портшез, портьера, потенция, прагматик, прелат, прелюдия,
пресса, престижный, претензия, примат, примитив, приор, провокация,
прожектер, пролог, просцениум, протеже, профан, псевдоним,
психопат, пубертатный, пульчинелла;
рагу, ракурс, рампа, рандеву, ранжир, рантье, рапсодия, реверанс,
ревю, реглан, резонанс, резонер, резюме, реквием, реквизит,
реликвия, реликт, ренегат, реноме, репертуар, реприза, репродукция,
рептилия, ретушь, риторика, рондо, ротонда, рудимент, рулада,
рутина;
садист, сакраментальный, салон, сангвиник, сантименты, сардонический,
сарказм, сатир, сексапильный, сенсуализм, сентиментальный,
серенада, сибарит, силуэт, симулянт, синекура, скептик, сопрано,
спиритизм, спонтанный, стаккато, стриптиз, субъект, суррогат,
суфле, сюжет;
табу, таверна, талисман, тарантелла, тенор, террариум, террор,
тет-а-тет, тирада, тираж, тиран, титул, топаз, трагикомедия,
транс, трапеция, трафарет, третировать, трио, трубадур, труппа,
трюфель, турне, тюль;
увертюра, узурпатор, ультимативный, унисон, устрица, утопия,
утрировать;
фаворит, фагот, фактура, фаллический, фамильярный, фанаберия,
фантасмагория, фанфара, фатализм, фата-моргана, фаянс, феерия,
фейерверк, феодал, фетишизм, фиаско, фигляр, фикция, фимиам,
финал, фискальный, флейта, фолиант, форте, фригидность;
хаотический, харизма, химера, хиромантия, холерик, хорал,
хроника;
цейтнот, целибат, цензура, церемониал, цинизм, цистит, цукат;
(частность – чепуха – чушь),
шаблон, шагрень, шантаж, шарж, шарм, шевиот, шизофрения, шимпанзе,
шоу;
эгоист, эйфория, эклектизм, экспансивный, эксплуатировать,
экспромт, экстаз, экстерьер, экстремизм, эксцесс, эмигрант,
эпатаж, эпигон, эпилог, эрзац, эротика, эстет, эшафот;
юмореска;
якобинец...
Соблазнясь честной праздностью лазней, я облазил все
улочки и переулки Карлсбада, посетил все доступные парки,
сады, музеи и храмы; обозрел все витрины, где утешной возможностью
и искушеньем западали мне в память зазывно мерцающие в золотой
и серебряной скани темновишневые и рдяные гранаты – в пряденых
филигранных браслетах, кулонах, подвесках, колье, сережках
и перстнях; лепные цветки и бисквитные бабочки, румяные дамы
и лаковые кавалеры цветного фарфора;
морозные вазы – прозрачно-туманные, оплывающие, словно фигурные
свечи, и другие – резного стекла, с подобной узорному инею
алмазной насечкой, и другие, рельефные, с изображеньем выступающих
из хрустального льдистого тела деревьев, и вовсе другие, в
синей дымке которых заключены впечатлением вечного лета несравненные
темнокрасные птицы, цветы и стрекозы.
Но более всех искушений, которыми мог бы утешить тебя в часы
утесненья сердец, запомнились мне изумительные, в овальных
миниатюрных оправах, туманящиеся голубым и зеленым светом
камеи и геммы, в чистой дымке которых, в безграничности перспективы,
устремленной в сокровенные дали невесомого камня, в завитках
хрустальной резьбы и малейших деталях античных причесок проницались
в зачарованной мгле утонченные, серебристые, снежные профили
ангельских женских головок – младенческое целомудрие юности
и чистота идеала изморозно светились в глубине и сияли, являя
собою не прекрасное изображение женского лика, но бесплотное,
случайно угаданное впечатленье вовеки нетленной, в зеленой
и голубой этой дымке недостижимо и нежно мерцающей женской
души...
Это и был идеал, недоступный никаким макияжам, началообраз
Бессмертной Возлюбленной, сей мысленный образец совершенства,
таящийся и так по-разному преображенный в любом человеке из
тех, кто, испив целебной водички и не заглядываясь ни на что,
заранее почтенное недосягаемым, а потому и ненужным, прогуливался
по предписанью врачей мимо этих витрин по Лазненской улице
и по Старолужской набережной до роскошной гостиницы «Пупп»
и, по незнанью, не провидел на месте сего грандотеля старинного
дома по прозвищу «Божие око на Старом лугу», того самого ныне
незримого дома, в чьи комнаты из одного из подворий австрочешского
города Теплиц глухой и безумный Бетховен, терзая бумагу сумасшедшими
росчерками и вензелями карандашных каракулей, спешно писал:
6 июля, утро
Мой ангел, мое все, самое существо мое – Сегодня лишь несколько
слов, и при этом карандашом (подаренным тобою) – Только завтра
разрешится дело с моим постоем – какое бессмысленное расточение
времени – И зачем эта глубокая скорбь, когда царствует необходимость
– и наша любовь может ли выжить, если не ценою жертв, требуя
сразу всего от нас обоих; можешь ли ты изменить то обстоятельство,
что ты – не вовсе моя, а я не твой – О Боже, взгляни, как
прекрасна природа и утешь свое сердце тем, чему суждено непременно
свершиться – Любовь требует сразу всего без остатка, и это
лишь справедливо – так это со мной о тебе, и с тобой обо мне.
Но ты так легко забываешь, что я должен жить ради тебя и меня;
если бы мы жили в полном единстве, ты терзалась бы этою болью
так же мало, как я – Мое путешествие было ужасно; я прибыл
сюда вчера лишь в 4 утра. За недостатком лошадей почтовый
дилижанс поехал другою дорогой, и какой же кошмарной; на последней
из станций меня предостерегли от странствия на ночь, пугая
лесной темнотой, но это лишь придало мне охоты – и я оказался
неправ. Колымага, как назло, поломалась на клятой дороге,
той дороге в бездонной грязи. Если бы не сноровка бывших со
мною форейторов, я застрял бы на этом пути. Эстерхази, который
направлялся сюда обычным маршрутом, попал в такую же переделку
в запряженной восьмериком карете, в какой я побывал с четырьмя
лошадьми. – И все же я испытал удовольствие, как бывает со
мною всегда, когда удается пересилить препятствие. – Теперь
быстрый переход от обстоятельств наружных к вещам сокровенным.
Мы обязательно скоро увидим друг друга, и более того, сегодня
я не смогу поделиться с тобою имеющими касательство к моей
жизни раздумьями, что посещали меня в последние несколько
дней – Если бы наши сердца были всегда рядом, я бы не мучился
так. Мое сердце полно стольких слов, которые я должен сказать
тебе – ах – бывают мгновенья, когда я чувствую, что человеческие
речи ничего не значат – Но взбодрись – пребудь моим истинным,
моим единственным сокровищем, моим всем так же, как я весь
твой. Боги должны ниспослать нам покой, надлежащий и непременно
должный нам обоим –
твой верный ЛЮДВИГ
Вечер, понедельник, 6 июля
Ты страдаешь, драгоценнейшее мое созданье – лишь теперь мне
сказали, что письма следует отправлять очень рано утром с
понедельника до четверга – только в эти дни почтовая карета
отправляется отсюда в К(арлсбад). – Ты терзаешься – Ах, где
бы я ни был, ты повсюду со мною – я сделаю ради двоих нас
так, что мы сможем жить вместе. Какая жизнь!!! как сейчас!!!
без тебя –гонимая благом людей с обеих сторон – жизнь, какой
не желаю заслужить в той же степени, в какой я достоин ее
– Смирение людей по отношенью друг к другу – это больно меня
уязвляет – и когда я думаю о себе на фоне вселенной, сопоставляя,
что есть я и что есть Он – которого мы зовем наивеличайшим
– и все же – именно здесь заключено в человеке божественное
– Я рыдаю, когда вспоминаю, что ты, вероятно, не получишь
моего первого письма раньше субботы – Как бы ты ни любила
меня – я люблю тебя больше – но никогда не таись от меня –
доброй ночи – я должен лечь в постель, как предписано принимающим
ванны – О Боже – так близко! так далеко! Но разве любовь наша
не поистине небесное творение, и столь же прочное, как небесные
своды?
Доброе утро, 7 июля
Пусть я все еще в постели, но мысли мои летят к тебе, моя
Бессмертная Возлюбленная, летят то ликующе, то скорбно, в
нетерпеньи изведать, услышит ли нас судьба – я могу жить либо
всецело с тобою или вовсе никак – Да, я полон решимости блуждать
вдали от тебя так долго, пока наконец не смогу полететь в
твои объятия и сказать, что я весь с тобою как дома, пока
не смогу отослать свою душу, облаченную в тебя, в обитель
видений и духов – Да, это к несчастью так – Ты будешь более
сдержанной, когда узнаешь, насколько я верен тебе. Никто,
кроме тебя не завладеет моим сердцем – вовеки – вовеки – О
Боже, почему суждено жить в разлуке с тем, кого так любишь.
И все же, моя жизнь в В(ене) – это проклятая жизнь – любовь
твоя делает меня одновременно счастливейшим и несчастнейшим
смертным – в мои годы я нуждаюсь в размеренном, спокойном
существовании – может ли это быть с нами? Мой ангел, мне только
что сообщили, что почта уходит каждый день, поэтому я должен
тотчас поставить точку, чтобы ты получила это письмо немедленно
– будь спокойна, только покойными раздумьями над нашим существованьем
сможем мы достичь того, чтобы быть вместе – будь спокойна
– люби меня – сегодня – вчера – о какие слезы исторгает тоска
по тебе – тебе – тебе – жизнь моя – мое все – до свиданья.
О продолжай любить меня – вовек не усомнись в верности сердца
твоего возлюбленного
навек твой
навек моя
навек мы
Какая же неугасимая подлинность чувства, какой взрыв глухого
молчанья, – но сколько же умствований, сколько догадок вокруг
этих писем!
Джульетта Гвиччарди, чье имя навечно сопряжено с «Лунной сонатой»,
Тереза фон Брунсвик, которой Бетховен написал посланье «К
Элизе» – никого из них не назвал он Бессмертной Возлюбленной,
и только Антония Брентано, мужняя жена и мать четверых детей,
с которой Бетховен познакомился в Вене, могла получить эти
письма в Карлсбаде. Известный скандалище в Теплице, когда
мрачный Бетховен во время прогулки с Гете, едва тронув шляпу,
прошел сквозь окружавшую австрийскую императрицу великосветскую
гущу, в которой по придворной учтивости задержался великий
поэт, случился тем же летом. Подождав Гете в стороне от аристократических
толп, Бетховен промолвил: – Я дождался вас, поскольку уважаю
и почитаю, как вы того достойны, но вы оказали этим господам
чересчур много чести...
Такое анахоретство покоробило Гете и заставило его впоследствии
писать о «необузданном» характере Бетховена. Но сколько же
подлинной драмы может вместиться в два месяца существований!
25 июля, приехав из Теплица на свой концерт, назначенный на
6 августа, Бетховен остановился в том же пансионе «Божье око»,
что и семейство Брентано. 7 августа он отправился с этим семейством
во Франтишковы Лазни, где все они устроились жить в гостинице
«У двух золотых львов», а 8 сентября Бетховен в одиночестве
вернулся в Карлсбад, где сызнова встретился с Гете.
Антония Брентано, о которой известно так мало, покинула Вену
в конце того же 1812 года: она и Бетховен никогда больше не
виделись.
Печально? Но разве живая женщина могла бы снести такую безмерную
страсть и такое отчаянье? Доселе вокруг этой страсти можно
лишь строить догадки, домысливать, досочинять – но не мне:
редкой подлинности не испорчу случайным касаньем, и да светится
тайною имя Бессмертной Возлюбленной, как сияют в зеленой вуали,
в дымчатой и туманной чадре земные черты идеальной камеи,
как мерцает извечная музыка в журчании листьев и опаловых
струй сих таинственных Карловых Вар...
Эта подлинность, вдруг явясь из отчаяний мужского молчанья,
существует, продолжается и происходит независимо от времен,
обстоятельств и зрелищ: вчуже Бессмертной Возлюбленной не
надобно имя, и женщине, как душе, суждена недосказанность,
недоговоренность, недомолвка и неразглашенность: пусть же
мерцает она, как нечаянный взор из-под серожемчужной вуали,
как зачарованный взгляд из-под тонкой кисейной чадры, охраняющей
сердце и сберегающей тайну души.
Ведь и в тебе есть далекий секрет идеала, зовущая тайна, которых
никак не коснусь ни отчасти, ни сочиненьем – не все письмена
подлежат разглашенью, и секретные иероглифы сердца прекрасны,
как тайнопись света. Всякий прохожий, идущий вдоль Старого
луга, даже и тот, кто не видит исчезнувших ныне мостов с изваяньями
чешских святых и прежних беседок в античных колоннах, не видит
пропавших домов и не чувствует Божьего Ока, несет в своем
сердце хотя бы остатки, руины, следы, светлый прах изначальных
мечтаний, и лицо его, если вглядеться, вопреки этой жизни
сохраняет свеченье и лучезарные отсветы давно расточенных
и всуе растраченных чаяний сердца. И чудится им иногда и подчас,
что невысказанность предпочтительней слов, как подлинность
предпочтительней копий, и что все, что нараспашку открыто,
на деле крадет у души золотую таинственность жизни, давая
взамен только то, что легко увядает, подобно сорванным неразумно
и жадно цветам.
Так идея чадры и вуали есть возможность сберечь идеал, уворованный
у людей, позабывших, что женщина – это душа, и для души человека
открытость всегда уязвима, а тайна, скрывающая обнаженную
нежность, – лишь заступничество и защита, и Аллах заслоняет
лишь тех, кто сперва заслоняет себя, чтобы без страха найти
свое место в Единстве.
Но Бетховен, чей бронзовый памятник в зелени патины нашел
свое место в горном логу у излучины Теплы, в окружении краснолиственных
и серебряных буков и чудных черемух, он все идет, по-мужски
сжимая кулак и чуть сгорбясь под сумрачным ливнем, все идет
в направлении пропавшей гостиницы «Божье Око»; из его уязвленной
отчаянием души, разверстой в простор и давно уже ставшей простором,
исходит, как буря претворенного в неумелую нежность отчаянья,
неизбежная музыка исступленной и безответной любви к миру
и жертвенной мудрости, дарованная взамен простого человечьего
счастья...
Как же ты угадала его, идущего к Бессмертной и Безымянной
Возлюбленной, но, заблудясь, уходящего мимо – в вечность Единства:
Сочувствую Бетховену. Ему,
бегущему сквозь пагубную тьму
под грохот слухового водопада
по улицам уснувшего Карлсбада.
Невнятная, безумна речь его,
бегущего в ночи – ни для чего,
схватившего и сжавшего в кулак
пространство, измельченное во прах.
Его из этой бури не изъять:
там молнии скрутились в рукоять
гигантского, как смерч, коловорота.
В таких мирах для смертных нету брода.
Ночную мглу таранит глыба лба.
Сквозь молний шаровые колоба,
сквозь кожаные плети мощных струй,
гоним планидой, как солдат сквозь строй.
Промок зеленый ношенный сюртук.
Еще чуть-чуть и он услышит звук!
Вот грохот, шквал, потоп, обвал, облом...
Апплодисменты грянули, как гром.
О, просыпайся! И рукоплещи
Бетховену, бегущему в нощи [2].
Между тем в горных рощах Карлсбада и дуб, и каштан – оба буковые
деревья, а древесные листья бывают не только резные, но и
реснитчатые – что за нежное слово! У теневыносливых кленов
– супротивные, перистосложные листья, цветки желтовато-зеленые
в мелких кистях, а плод – двойная крылатка, подобная крыльям
стрекоз.
Облазив весь крошечный город во времени и в настоящем пространстве,
я совсем осмелел, и проснулся, и дерзнул углубиться в окрестные
горы по крутым, пусть и прежде исхоженным тропам. Начинаясь
от памятника, одна такая тропа, Бетховенова стежка,
убегает вдоль прижавшейся к горному подножию Теплы, а потом,
виясь через мост, взбегает на Буковую гору и очень, надо отметить,
крутенько.
Но полезно и малое преодоленье, тем паче, что, взойдя наконец
на ступеньку-вершину в младенческих елях и соснах, в серебристых
и нежно-зеленых мхах и кусточках черники, а выше – в просвеченных
солнцем буковых листьях, можно вполне отдышаться на сочувственно
поставленной обочь скамье, откуда стезя опять, зовя за собой,
убегает, но уже вполгоры и как бы горизонтально, с каждым
новым своим спиральным изгибом являя в обрамленьи разверзшихся,
снизу взмывающих в небо высоченных серебряно-буковых рощах
чудесные виды Карлсбада и дальнейших зеленых холмов и долин,
чья весенняя зелень в единстве столь разнообразна – изобильная
в соснах и черно-еловая, березово-светлая, светлейшая в липах,
пресветлая в буках и нежно-иная в разводах и дымке безвестных
кустов и дерев.
Отдышавшись, я нашел себе посох и двинулся в путь – в одиночку:
и вправду, сказал я себе, по-людски загордясь даже малым таким
восхожденьем, – одиночество и разлука необходимы мужчине,
как горний поход по горам, как будничный подвиг, поверяющий
силы любви. Да здравствует тихое, главное счастие преодоленья
– уже вот и ноги идут, и не заходится сердце, войдя в благодати
дороги, пусть исхоженной многими за века и столетья, но грядущий
впервые не знает, куда убегает стезя.
Стволы белых буков сокровенно сияют, и каждый – что леди Годива
в недосказанных сих светотенях как в чадре золотистого света;
ручьи, начинаясь на небе, упадают все ниже ступеньками мшистых
порожков; под теньканье чешских синиц воркуют безвестные горлинки;
гулкое тремоло дятла стремится, как звонкое эхо, в поднебесье
просторных лесов.
Шагаешь, – и в свежести горней медлительно сеются с веток,
кружатся золотистым рассеянным дождиком, упадают на почву,
на желто-зеленые кисти кленовых цветений уже и отжившие крошечный
век оболочки, скорлупки, одежки раскрывшихся лиственных почек;
кружатся и сеются предвестьем больших листопадов, но и смертью
своей свидетельствуют об уверенном нарастании жизни.
Ты знаешь, как в этих лесах синева повсеместного неба сияет
сквозь верхнюю зелень и высокие вехи стволов, и там, где видна,
изумительно ясно и густо – аквамарин? лазурь? бирюза? или
ляпис? – сияет в единственном счастье пути, в осязании преодоления
собственной плоти в подъеме к Единству, когда всем собой ощущаешь
лес, горы и воздух: то еже-мгновенное, круговое и вечное,
многократное жизнесвершенье: одуванчики зрелые возле стези
и таящийся в памяти ландыш.
И в довершенье всего – посередине пути – тот устроенный в
каменной нише, истекающий чистой хрустальной капелью родник
– малый ключик под названьем «Живая вода», неожиданный, но
долгожданный, как радостное пробужденье. Родниковая эта капель
и сейчас собирается в заботливо подставленной кем-то алюминиевой
мятой кастрюльке, всклень переполненной прозрачною влагой,
в которой, дрожа, отражался и светлый тот день.
В бережном прикосновении губ к ледяной животворной воде, во
едином глотке, как в детском восторге ничем не заслуженного,
но такого полного и ублаготворенного существованья, слились
в бытии и опять зазвучали возвратными осязаньями все утоленья
и утешенья былого – и та покупная, в полиэтиленовых штофах
вода на барханах тунисской Сахары, и муссонные тучи над скальной
пустыней Дофара, и луговые купели таинственных стариц, волжских
и камских, и осенняя свежесть Илети-реки, и сиянье марийских
озер; голубая телецкая влага и снежное, дармовое блаженство
отвесных алтайских ручьев в час доподлинного восхожденья на
плато Алтын-Туу, в альпийские облака и горную тундру в плетеных
узорах миниатюрной березки и хвойного стланика; и синее, ледяное
течение Роны под Папским дворцом Авиньона, и древний колодец
кордовской мечети, в чьем тихом от века зерцале колышется
солнце в ветвях апельсиновых и лимонных деревьев, и серебряное
журчанье изумленных собою фонтанов и прямых, как само благородство,
прозрачных струистых арыков испанской Альгамбры – во дворце,
в стрельчатых арках филигранно спряденном из каменных кружев,
гласящих, что нет на земле победителя, кроме Аллаха.
В этом кратком глотке состояли простая, великая правда дороги
и явная подлинность памятных существований: в незримом слиянии
и живом сопряжении прошлого, будущего и настоящего мига –
это ведь и была все та же земная вода, в безвременном круговращении
неделимая на колодцы, ключи, родники, моря, облака и дожди,
но отвечно единая в деле служения Аллаху путем продолженья
бессмертной и трудной, но происходящей осмысленно жизни.
Умывшись и вдруг пробудясь от дремотных сомнений, этот миг
утоления праведно нажитой жажды, этот миг утешительного омовенья
и согласья с Аллахом я вновь захотел наяву разделить между
нами, как живое Единство ислама в благорастворенных дуновеньях
весенних нагорий. Так, не чувствуя вспять никаких одиночеств,
я отважно молился об этом в богемских шумящих лесах, молился
и верил, что некогда буду услышан, потому что вокруг было
так нестерпимо светло и свежо, что понять и восчувствовать
смысл и значение малейшего действия жизни было, Господи, проще
простого, как выпить воды из сведенных горстью ладоней, как
выдохнуть благодаренье за главную истину человеческих судеб:
и во снах, и в трудах, и в терзаньях, и в долгах, и в любви,
и на воле – да станется воля Твоя.
ПРО
УДОЧКУ
Вскоре после того, как у Маши Баратынской умер муж, ей вспомнилось,
как в детстве она поймала рыбку на самодельную удочку. Муж
долго болел, в последние свои годы нуждаясь в каждодневном
уходе и пригляде. Никто никогда так обо мне не заботился,
говорила Маша на поминках, и это была правда. Он прожил пятнадцать
лет с искусственной почкой, а когда наконец нашлась настоящая,
пересадили и замечательно прижилась, вдруг умер от инсульта.
Это оказалось обидно – до слез.
Воспоминание случилось в октябре, как раз когда впервые всерьез
закапало и заморосило: налетающий – откуда ни возьмись – порыв
холодного воздуха вскидывал зажелтевшие и зардевшиеся ветви
бульварных деревьев, ерошил и ежил травку газонов. Но и деревьям
становилась как-то легче после московского суетного лета;
отшумев, отблистав, листья падали и прилипали к асфальту так,
что их можно было рассмотреть во всей разноцветной красе.
Были сначала похожи на школьный гербарий, а потом, нечаянно,
на перепончатые лапки гусей – такими большими они виделись
в дачном детстве близ Звенигорода.
Там был пруд, заросший по округлым краям густыми тайными травами;
с одной стороны стояли старинные клены, и, когда уже надо
было переезжать в Москву, огромные листья, кружась, облетали
с ветвей и ложились на эти травы. Листья предполагалось собирать
и мастерить венки на голову, как это делали случайные Машины
подружки. Предполагалось также играть в куклы, но Маше не
хотелось. Ей хотелось порыбачить, как это делали деревенские
мальчишки, но с ними было неловко – засмеют. Тогда она сделала
удочку сама.
Срезала ореховый прут. Нашла гусиное перышко – и стал поплавок.
Отыскала ржавую гайку – стало грузило. Сложнее было с леской.
На заборе, однако, оказалась старая капроновая авоська: Маша
разрезала ее ножницами и связала из кусочков леску. Крючок
тоже сделала сама – из обрывка проволоки. Нашла червячка.
И пошла к пруду – на ту его сторону, где были совсем еще зеленые
раскидистые клены и совсем не было людей.
Забросила удочку – гайка хлюпнула, а гусиное перо осталось
над водою. Настала тишина. Это было пополудни: огромные кленовые
тени ложились до самой середины пруда, а где не было теней,
сверкало на воде солнце и плыли кучевые облака. Это было как
второе небо, по которому, то и дело замирая, перемещались
паучки-водомеры, и не надо было задирать голову, чтобы догадаться,
что дождя и сегодня не будет, а будет теплый вечер, и в пронизанном
прохладой сумраке сада будут пахнуть цветы – белые, фиолетовые,
синие флоксы. Особенно сильно они пахли почему-то после бани,
когда Маша, обернув мокрые светлые волосы полотенцем, перебегала,
как какой-нибудь маленький Мук, в деревянный дом, сияющий
окнами во тьме. Флоксы пахли так, что хотелось непременно
остановиться, вдохнуть и всей душой услышать этот волнующий,
призывный и томный запах, которому не было ни конца, ни объясненья
– только желание жить счастливо и долго-долго, чтобы и завтра,
и всегда-всегда вдыхать запах цветов под мерцающими звездами
подмосковного лета.
А гусиное перышко вдруг закачалось и стало тонуть в воде.
Маша потянула – и вытащила рыбку! Серебряную рыбку, с глазами
как бусинки, красными плавничками и красным хвостом. Рыбка
была живая. Она соскочила с проволочного крючка и сверкнула
в зеленой траве. Маша растерялась. Ей ведь и не думалось поймать
что-то взаправду, и она оказалась к этому вовсе не готова.
Взяла рыбку в ладони: к серебристой чешуе и красивому оперенью
пристал травяной сор и сухие золотистые травинки. Если обирать
по одной – вместе с травинкой отлипали и перламутровые чешуйки.
Тогда она опустила рыбку в воду в сведенных ладошках: рыбка
полежала-полежала, а потом шевельнулась, медленно повернулась
серою спинкой кверху, встрепенулась и уплыла в секретную и
дымчатую глубину пруда. Так она отпустила свою рыбку и больше
не ловила уже никогда, чтобы вдруг нечаянно не поймать другую.
Маша Баратынская шла по бульвару, стараясь не наступать на
мокрые листья, чтобы не подскользнуться. Ей подумалось, что
осень взялась как-то сразу, а она как нарочно забыла в пустом
доме зонт, и вот теперь на лице блестят капли, те самые, что
скапливаются в листьях от мелко моросящего дождя, а потом
падают согласно закону притяжения земли. А плакать она разучилась
давно – лет, надо думать, десять тому назад.
VII. НИВЫ ДОРОТЕИ
Он ее не понимал, – непременно скажут впоследствии
и о нас, и будут в той же доле правы, в какой ошибутся.
Конечно же, понимать тебя, женщину, – как угадывать будущее:
безнадежное, в общем, занятье. Не зарекаясь от всяческих неизбежностей,
одно лишь скажу и о будущем, – с нами или без нас, ему суждено
продолжаться, происходить и свершаться в непрестанном движеньи,
ведь только движенье и кажется согласуемым с замыслом мира,
где притянуты друг к другу противоположности и отторгнуты
друг от друга тождественности в предначертанном миру балансе
сиюминутной механики звездных сфер и самозабвенных сердец.
Вот и я, упорствуя в ежедневном движеньи в надежде не выпасть
из ритма уверенно происходящей в Карлсбаде весны, обошел потихоньку
все окрестные холмогоры, чуть задерживаясь на попутных зеленых
высотах, а в конце – в три приема – взошел на последнюю круглую
вершину в черных готических елях, известную здесь как гора
Вечной жизни.
Взлез я туда от Термала, от мостика через Теплу, под которым
в темно-янтарной струе стоят неподвижные от легкого пропитания
карпы, а рядом, под старыми сребролиственными буками дворжаковского
сада, часто сидит человек, за отдельную мзду вырезающий из
черной бумаги очертанья и профили гуляющих по променаду современников.
Завлекая курортных прохожих к своему изощренному ремеслу малой
выставкой самых удачных теней, он трудится сосредоточенно
и в честности подражает натуре, избирая из множества причудливых
отличительных черт самые главные, так что становится ясно,
что разница между людьми в том, что касается отброшенной тени,
хоть и отчетлива, и многообразна, но легко различима и, коли
надо, запечатлится одним непрерывным и мастеровитым движением
ножниц.
А я замечаю: что некогда было искусством, становится с истечением
времени просто забавой, – вспомнить хотя бы из нашей библиотеки
тот веймарский квадратный альбом теневых силуэтов времени
Гете, тот элизиум и пантеон минувших навек очертаний. Искусная
точность сих контуров, абрисов, очерков, конфигураций, выявляющих
на белом поле всего лишь и только идеальную суть человека,
отвечало, как чудится, стремлению Гете к античной гармонии
жизни, тому ее звездному равновесью, когда можно пренебречь
житейскими малостями ради совершенного и во многом секретного
умолчанья о том, что лишь в грамотных недомолвках искусства
становится красноречием истинной правды.
Подобный театр силуэтов, героями которого в окружении Гете
были либо персонажи голубой крови, либо выдающиеся умы классической
этой эпохи, давно уже стал разночинным, как в пятидесятых
минувшего века, когда по кинотеатрам российской земли сидели
с теневою бумагой художники ножниц, работая, как и карлсбадский
умелец, точно и скоро, пока мода на силуэты не прошла и не
кончилось, как и все остальное, чтобы, как водится, где-то
возникнуть опять.
Конечно, всякому соблазнительно видеть собственное существованье
таким же законченным, завершенным и точным, соразмерным по
композиции и осмысленным по содержанью, как изящная жизнь
сих бумажных теней среди черных деревьев, греческих бюстов
и антикварной мебели эпохи герцога Карла-Августа фон Саксен-Веймар-Айзенаха
и его августейшей семьи, так любезно приветившей Гете. Но
в этот призрачный и зачарованный век, в котором, как предвестие
окончательной гибели запечатленного бога и всех гармонических
чувств, возник Казанова, не умели вернуться даже усердные
немцы Шопенгауэр с Ницше, что ж говорить о прочих, не менее
их разночинных, но менее даровитых вертерах, столь же трудно
изживших максималистские иллюзии юности и так же ударившихся
в изучение чувственных разочарований в том, что можно не только
увидеть, но даже потрогать?
Единство незримо, но если – толком – вглядеться во все эти
абрисы, тени, очертания и силуэты эпохи, то на карте ведущих
из золотого столетья дорог мы усмотрим развилку, где вконец
разойдутся пути Казановы и Гете – две стези, два маршрута,
два навеки чужих осязания мира, и жизненная стезя Казановы
истает в служебных покоях желтостенного замка Духцов, в пустых
коридорах с гравюрами утраченных мест пребыванья – Венеции,
Лондона, Парижа и прочих ненужных столиц, в грустных комнатах
приживальческой старости с портретами подлинных знаменитостей
века и теневыми портретами обольстивших и обольщенных любовниц,
с предметами, сутью которых является лишь обладанье: китайскими
бело-синими вазами, часами с фигуркою усатого турка с чубуком
– долгодлинною трубкой; с окнами, выходящими к воротам барочного
замка, возле которых стоит непременный в Европе Чумной постамент.
Сочинителю собственной жизни, как ему не моглось в тишине
и молчаньи с божественным и утешительным видом через замковый
парк на далекие Крушные горы, а горы – тому свидетель Вольтер
– Казанова всегда ненавидел, как всякие виды природы ненавидит
озабоченный лишь собой и своим естеством обыватель, который
и на водную гладь глядит лишь затем, чтоб увидеть свое отраженье.
Посему я не думаю, что, присутствуя в Карловых Варах, забирался
он ради зрелища окружающих кряжей и на склоны горы Вечной
жизни, где на первой ступени подъема устроена видовая площадка
с беседкой камеры-обскуры, а на второй – стоят высоко три
креста в ознаменованье победного возвращенья католицизма в
пределы чешских гуситов, вдохновивших Сметану на создание
гимна отечеству – «Влтавы». Вряд ли сюда восходил Казанова
– по старости ли, по нелюбви ли к природе или же лишь потому,
что на первой площадке возвышалась в те ушедшие годы городская
виселица, я не знаю. Да и потом, его все тянуло в другую беседку,
пониже – над приречным утесом, в ту, что и посейчас привлекает
к себе влюбленные пары.
Возведенная графом Кристианом Клам-Галасом во имя любви к
княгине Доротее Курляндской, эта круглая беседка-ротонда над
журчанием Теплы подарила названье всей краткой чудесной долине,
соединяющей старый Карлсбад (и дом Божье Око) с Почтовым двором,
и с 1791 года именуемой в неутраченной местной истории не
иначе, как Dorotheen Au – Доротеины нивы. В том самом году
умер Моцарт и был наспех закопан в нищенской безымянной могиле;
Шиллер приехал в Карлсбад; Гете, возвратясь из служебной поездки
в Венецию, стал директором герцогской библиотеки и музейных
собраний, а Казанова, духцовский нахлебник, был поколочен
на улице Духцова палкой, и не из ревности, а вследствие несносного
высокомерья, склочности и самохвальства.
Ты же видишь, как над Нивами Доротеи, в старинной, в колоннах,
ротонде, крючковатым своим подбородком опираясь на трость,
он согбенно сидит, Джироламо Джакомо, он же некогда толстогубый
Якобус Казанова де Сейнгальт, печальник, недолюбленный матерью
– театральной актрисой и отмстивший за это всем женщинам трагикомедии
собственной жизни, убухавший бедную искру таланта на попытку
блистать там, где было довольно подлинного и гениального света;
печальный и злой самолюб, чья хваленая любвеобильность не
оставила миру даже малой беседки, где можно усесться вдвоем,
а только духцовское кресло в полосатой потертой обивке, в
котором он умер, как жил, – в одиночку.
Но сколько же разноязыких туристов, сколько мужчин, посещающих
духцовский замок, норовят суеверно коснуться подлокотника
смертного кресла, чтобы вдруг обрести легендарную обезьянью
сноровку сего мизантропа, и призрак его, сбежав из барочных
покоев, уже навязал свое наваждение жизни большинству христианского
мира, забывшему настоящего Гете! Тень Казановы – она
торжествует в любом самолюбии и любых плотоядных соблазнах,
в любом попирании духа, в любом возвещеньи, что не трудное
постиженье друг друга, а простое желанье является ныне уставом.
Стезя Казановы, – она ли не стала ведущей в безверие и обреченность
столбовою дорогой, уводящей весь чувственный мир вспять от
Единства в сиюмгновенной истерике плоти, осиротевшей без осязанья
души? Как отлична она от дороги, начертанной Гете, той дороги,
начало которой он в естественной скромности гения приписал
не себе, а суфийской стезе осязаний Лоренса Стерна:
«Все происходящее, проистекающее в настоящем, нам кажется
вполне естественным и неизбежным; однако мы попадаем на перепутье,
и именно потому, что теряем из виду тех, кто нас направил
на верный путь. Вот почему я хочу обратить ваше внимание на
человека, который... положил начало и способствовал дальнейшему
развитию великой эпохи более чистого понимания человеческой
души, эпохи благородной терпимости и нежной любви». А если
припомнить, что и Радищев обязан своим путешествием Стерну,
то вся изначальная русская проза предстанет слияньем двух
истых душевных движений, двух краеугольных и первообразных
жанров, они же – вспоминания Аввакума и стернов «рассказ ни
о чем»…
Но какою же страшной насмешкой в той духцовской библиотеке,
которую Казанова, несмотря на свою синекуру библиотекаря,
так и не привел в порядок за неименьем желанья к полезной
для кого-то другого насущной работе, звучит теперь для туристов
и посетителей замка моцартова «Лакримоза»... А впрочем, на
то он, Моцарт, и солнце, чтобы сочувственно греть все живое,
точно так же, как лучи натурального солнца проницают дубовые,
березовые, сосновые и еловые купы, пятнисто светясь на песчаной
тропе, в лесах восходящей все дальше по горе Вечной жизни
– с остановкою у Трех Крестов.
Я дошел и дотуда, и кресты, высокие, как сочиненные человеком
деревья, оказались пустыми, словно в ожидании новых распятий.
В нечаянном размышлении (уже так хотелось мне пить от ходьбы
и предчувствия новых подъемов) я подумал, что если бы поднимался
лишь к этим карлсбадским крестам, чтобы в финале узреть пустоту
на проходной и безводной вершине, то смущенную душу и сердце
постигло бы разочарованье, – так правдивы были они безо всяких
распятий в исламском единстве всех прочих деревьев, как силуэтные
тени и четкие абрисы в упрощение существований, как нарочитое
причастие речи к несказанным безмолвьям природы; как досказанность
– там, где все сказано Богом одним равновесьем молчанья; как
искусство, взыскующее очеловечить и без того совершенно живую
и даже – без нас или с нами – совершенно бессмертную жизнь.
Однако и эти кресты не случайно стояли на моей мусульманской
дороге к Единству, знаменуя собою не окончанье стези, но очередную
ступень восхожденья по пути пониманий.
Настоящее, в котором мы сетуем на всякие несовершенства, слишком
часто построено на фундаменте суеверных и пристрастных понятий,
на обожествлении собственной национальности и на противостояниях
культур, со временем коварно превращающихся в нечто само собой
разумеющееся.
Но что может разуметься само собою сегодня – когда весь мир
перевернулся вверх дном, и легенды уходят, хотя мы в отчаяньи
поздних прозрений и пытаемся остановить их, хватая за края
развевающихся на ветрах истории одеяний? Мы боимся расстаться
со своей главной легендой, ибо что нам останется, когда уйдет
и она? Но истина только потому ведь и истина, что едина для
всех: и разве не справедливо исцеленье, вернувшее радость
единства?
Но как же нам тяжко смиряться с тем, что наше чувство истории
так часто навеяно мифами и что проистекающая из них нравственная
культура может иметь, наряду с привычными, и совсем непривычные
корни! Ведь совсем недавно еще можно было, подобно осудившим
Сократа античным грекам и одержимым идеей государственного
порядка древним римлянам продолжать настаивать, что иной миф
дороже истины, поскольку обеспечивает покой и преемственность
в обществе и держит чернь в узде привычных понятий. Так легенда,
освященная временем, становится паче сердца и разума, служить
которым она была предназначена, и лучшие умы человечества
уверяются, что национально-традиционное чувство нравственного
и есть последняя истина. Об этом ли чувстве нравственного
говорил и античный Гете – за год до смерти в разговоре с Эккерманом?
– Вообще же, – сказал я, – Евангелия, когда в них вчитаешься
повнимательнее, полны отклонений и противоречий, Бог весть
какие превратности судьбы испытали эти книги, прежде чем они
были собраны воедино и приведены в тот вид, в каком они нам
известны.
– Поставить себе задачей историко-критическое исследование
этого вопроса – все равно, что вознамериться выпить море,
– сказал Гете. – Куда разумнее без долгих размышлений принять
все как есть и усвоить из этого то, что содействует нашей
нравственной культуре и укрепляет ее. Вообще-то, конечно,
хочется представить себе еще и местность [3]...
Да, – и местность… Кому хочется пить, – не забудет о существованьи
пустыни, где Аллах напоминает о Себе колодцами и родниками.
Так – от начала времен – в земле Мадиамской, в гористой пустыне,
где, замысленная в четвертом столетьи, с шестого века воочию
высится монастырь святой Екатерины, есть древний пастуший
колодезь, напояющий ныне монахов и сад зеленеющих богоданных
маслин в той каменистой и желтой долине под Синайской горой,
– жизнетворный колодезь, близ которого поселился Муса-Моисей,
впервые бежав из Египта. Это здесь, по монастырской легенде,
он спас иофоровых дочерей и среди них свою суженую Сепфору;
здесь же, невдали от колодца, Аллах безымянно явился ему неопалимою
купиною в горящем кусте, ныне схороненном в часовенном
каменном гроте, зарешеченном от погод и многоликих туристов,
средь которых и мы покорно блуждали по ступеням священных
пределов, пытаясь сквозь говор двунадесяти языков услышать
сущий голос единящего всех нас Молчания:
«О люди Писания, придите к речению, общему между вами и
нами: не поклоняемся мы никому, кроме Аллаха, и не приобщаем
мы никого как равного к Нему; и одни из нас не принимают других
за владык наряду с Аллахом.» [4]
Как же соединить в осязанье единства то, что миру кажется
свято только в сплошном разделеньи? В синайской обители и
доныне хранятся бесценные сокровища мира – арабские мозаики,
иконопись византийского, русского и греческого письма, церковные
чаши и кубки в драгоценных камнях, с инкрустацией, и прочая
утварь, но главное – второе в мире после Ватикана собранье
иллюстрированных манускриптов на греческом, коптском, арабском,
армянском, еврейском, церковно-славянском, сирийском, грузинском
и многих других языках.
Но там же, в монастыре Святой Екатерины, в святом полумраке
каменнодревних покоев, висит на стене копия Закона Свободы,
дарованного монастырю святым Мухаммадом – Пророком ислама
[5].
Благодаря этому свитку с отпечатком ладони Пророка, и стоит
этот монастырь сквозь века и невзгоды, даже в годы мусульманской
междоусобицы охраненный от разора и запустенья, стоит, как
все святоотчие храмы в исламских владеньях вопреки многим
россказням о нетерпимости веры в Единство Аллаха:
«Се – документ, написанный по повеленью Мухаммада, сына Абдуллы,
Пророка Аллаха, Предостерегателя и Носителя Благой Вести с
тем, чтобы идущие вслед не искали себе оправданий.
Я повелел записать сей документ для христиан Востока и Запада,
для тех, кто обитает вблизи и для жителей дальних земель,
для христиан ныне живущих и тех, кто придет после них, для
христиан нам лично известных и тех, кого мы не знаем.
Любой мусульманин, преступающий и нарушающий сей канон, будет
сочтен преступающим Божий Завет и согрешит против Божьего
Обетованья, и таковыми деяньями навлечет на себя гнев Аллаха,
будь он монархом или простолюдином.
Я сим обещаю всякому монаху и страннику, взыскующему нашей
помощи в лесах, пустынях или местах населенных, или в местах
поклонения Богу, что враги его будут отбиты мной, моими друзьями
и помощниками, моею родней и каждым из тех, кто исповедуется
в том, что следует мне, и мы всюду обещаем им нашу защиту,
ибо они суть участники моего завета с Аллахом.
И я охраню сих завещанных мне от всяких гонений, увечий и
преследований со стороны их врагов в ответ на подушный налог,
который они согласились платить. Если они предпочтут защищать
себя и свои владения сами, (без уплаты налога), они
обладают сим правом, и в отношении этого права никто не принудит
их ни к каким неудобствам.
Ни единый епископ не изгонится из своей епархии, ни единый
монах из своей обители, ни единый священник из храма, и ни
единый паломник не встретит препятствий на пути поклоненья.
Ни одна из церквей и других христианских храмов не подвергнется
разоренью или уничтоженью. Ни единый камень из церковных строений
не пойдет на строительство домов и мечетей, и любой мусульманин,
преступивший запрет, сочтется отступившим от Бога и Пророка
Его.
Епископы и монахи не подлежат обложенью налогами, живут ли
они в лесах и на реках, на Западе или Востоке, на Севере или
Юге. В сем я даю им свое слово чести. Отныне они живут под
охраной моего обещания и завета, и пользуются совершенной
защитой от всяких мирских неудобств. Всякая помощь будет предложена
им в деле починки церквей. Они сим освобождаются от военного
дела. Они отныне живут под защитой мусульман.
Никто да не преступит указаний сего документа до самого Судного
дня.
Мухаммад,
Вестник Аллаха»
Этот завет был записан в Медине в предсмертный год жизни Пророка,
год его последнего паломничества в Мекку, когда с горы Арафат
обратился он с собственным словом ко всем, кто был близко
– в надежде, что будет услышан и нами:
«И помните – все вы равны. Все люди, к какому бы роду-племени
или к расе ни принадлежали и какое бы ни занимали положенье,
равны... Никто не владеет правом и превосходством над остальными.
Вы отныне как братья, и все, что сказано мною, вы должны разнести
на все края земли. Быть может, тот, кто сегодня не слышал
меня, извлечет из сказанного более благодати, чем те, кто
слышал.»
В пределах монастыря Святой Екатерины стоит спокон века и
небольшая мечеть – для тех мусульман, что берегли обитель
от разбойных набегов и сопровождали в пути монашеские караваны.
В суете посещенья и в сутолоке народа не удалось мне добраться
до этой давно уже в склад превращенной мечети, и свой страннический
намаз совершил я на склоне ущелья под горой Моисея с видом
на монастырскую крепость с высоченными стенами и на орошаемые
священным библейским колодцем масличные рощи и фруктовые вертограды,
вкруг которых возвышаются остроконечные кипарисы – благородное
древо победы над смертью, царственное древо безмолвий,
– и все это в гомоне туристических групп, ожидающих очереди,
чтоб пройтись по отполированным временем плитам, заглянуть
там и сям, сфотографироваться у часовни с неопалимой купиною
и вернуться в прохладу автобусов, не забыв прокатиться за
пять египетских долларов на желтом бедуинском верблюде, чтобы
еще достоверней запечатлеть свои ощущенья, в которых воспомнится
все, кроме в своей сокровенности мало кем учтенной, отмеченной
речи и неисчислимой музыки Молчания.
За разговорами – не услышать Аллаха.
Но разве в словах нет собственных таинств? Бывает, всего лишь
одно из сотен заденет неизвестные струны, – и привнесет в
существованье какую-нито необходимость и щемящее откровенье
былого. Так вот и кипарис, живое реченье, незримым
звучаньем своим, в каковом сочетаются свет и рисунок вкупе
со светлыми струями ветра, и неувядание зеленоплоских ветвей,
и мускулы слитых в единую плоть многосложных стволов, и стреловидность
стремящихся в небо отвесных вершин, вдруг явится зрелищем
сердца, и тогда, где бы ни был, где бы ни свершал подвиг будничной
жизни, услышишь, – но что? – пряную тишину кипарисовой, восходящей
на гору аллее в абхазском, всуе утраченном Новом Афоне, или
шум Средиземного моря невдали от руин Карфагена в тунисских,
но тоже достойно молчащих своих кипарисах и туях, а то и взмывающие
в драгоценных садах, как редкий в благородной беседе восклицательный
знак, кипарисы Альгамбры и Кордовы, но это потом, в истомляющих
разум слезах напоследок, – а ныне одно: утверждение неумирающей
и побеждающей время любви, той любви, растворенной в Единстве,
для которой порою довольно единого слова, ибо в нем, как в
самомалейшей частице творенья, заключится тогда белый свет,
пронизанный судьбоносными связями сердца и сердца. И если
без каверзной спешки мирских любомудрий попытаться извлечь
этот свет, как урок из жертвенных бескорыстий природы, поймется,
быть может, что не самому человеку, а лишь заключенному в
нем бескорыстью, а также и взгляду любви, устремленной сквозь
предмет удивления на Бога, надлежит оставлять по себе земные
следы.
А чтобы не наследить понапрасну, полезно держаться стези,
которою может предстать и тропа теренкура, уходящая сквозь
тесные сосны и ели на макушку горы Вечной жизни, зовущуюся
в местном путеводителе Гетева выглядка. Стезя, и особенно
в горных пределах, не пустяк: попробуй пойти напрямик, и помимо
напрасных трудов, тебя ожидает прямая опасность. Опавшие,
буро-блестящие, гладкие листья, устилающие подножья серебряных
буков, лишь издали кажутся безобидным покровом, но лишь поспеши
и сойди со стези, как сухая листва заскользит под ногой и,
если не сверзишься, рискуя вконец ободраться, то уж точно
утратишь и благость пути, и привычное равновесье.
Ты ведь знаешь, что я не зову к проторенным путям, а всего
лишь – к осязанью и осознанью дороги, когда она есть под ногами.
Поднимаясь к Гетевой выглядке, я однажды свернул со стези,
легко соблазнясь одним лесным возвышеньем, на котором примнилось
мне какое-то псевдоримское капище в обломках рифленых колонн,
оказавшееся вблизи руинами античной беседки. Я все думал о
Гете, чьей излюбленной местностью в Карловых варах были вовсе
не эти холмы и даже не пик Вечной жизни, но простор, шелест
листьев и речное журчание Нив Доротеи, где и нынче дорожка
к Бетховену именуется тропкою Гете; я все думал о том, что
в постигнутом сердцем единстве не бывает чужого, если это
«чужое» подвигается поиском смыслов. Поднимаясь наверх по
скользящим, каверзным листьям, я хотел раскурить свою трубку,
присев на поваленной навзничь колонне, однако и тут жизнь
вмешалась в мое расписанье, – средь руин, словно повторяя
сюжет стародавней карлсбадской гравюры, лежала в обнимку влюбленная
юная пара, и мне, случайному здесь, осталось разве лишь отвести
глаза и срочно спуститься по противоположному склону, настолько
крутому и коварному, что тут я и посетовал на свое искушенье
всуе сойти со стези.
На горе Вечной жизни, меж тем, меня постигло разочарованье.
На плоской площадке, обсаженной высокими, предзакатными –
как на саксонских полотнах Каспара Давида Фридриха – разлапистыми,
черно-гигантскими елями, в чьих куполах и шпилях то внезапно
шумел, завихряясь и спиралями снисходя до земли, то внезапно
стихал-обрывался верховой ветер, стояла безлюдная башня в
развлекательном псевдоготическом стиле с запертым – за неименьем
желающих топать пешком на вершину – кафе, так что надежда
на утоление жажды была тотчас забыта, и печаль отчужденья
снизошла дуновеньями ветра и на меня, стоящего на вершине
горы Вечной жизни среди остроконечных чернеющих елей, шумящих
и шумящих в своих исподволь вечереющих высях.
Уже и смеркалось: готическое сооружение Гетевой выглядки,
плод праздного архитектурного вымысла, молчало без смысла
в своем запустеньи и сливалось с другими тенями в настающем
здесь царстве теней, превращающем мир из цветного, светящегося
плеском листьев и солнечным отсветом хвой, в непререкаемый
и безусловный черно-белый макет, безнадежно усвоенный воображеньем
тех, для кого и ступавший здесь Гете – всего лишь классический,
категорически западный, псевдоготический призрак, бумажная
тень, привиденье былого, силуэт в сюртуке в обрамленьи античных
плоеных колонн и аллегорических статуй... Чур нас! – неужто
же все восхожденье затеялось ради дежурных, само собой разумеющихся
слов и понятий?
Господи, что мы знаем – что помним о Гете, завороженные одной
лишь магией великого имени?
«Горные вершины спят во мгле ночной...»
«Уже написан Вертер»!
«Это сильнее, чем «Фауст» Гете»...
Ну, а то, что Гете по духу был – мусульманин? Не дико звучит?
Античный язычник? Уже и милее иному сердцу. Но – собиратель
камей, гипсовых медальонов и памятных медалей, копий античных
скульптур, знаток гравюр и живописных пейзажей, обладатель
дома, простого до скудости, во что верил Гете?
29 июля 1782 года. Гете – Лафатеру, автору трактата «Понтий
Пилат»:
«Хотя я и не противник христианства и не антихристианин, но
все же я решительно не христианин, поэтому твой Пилат и все
прочее произвели на меня отвратительное впечатление.»
Не христианин – так неверующий? Вот уж нет. Прилежный очевидец
последних лет Гете, Эккерман, свидетельствует, что Гете был
глубоко верующим человеком.
Воскресенье, 4 января 1824 года.
«Я верил в Бога, в природу и в победу добра над злом; но нашим
благочестивцам этого было недостаточно, мне еще следовало
знать, что троица едина, а единое – трояко, но это шло вразрез
с моим правдолюбием, вдобавок я не понимал, чем мне это может
быть хоть сколько-нибудь полезно.»
Гете, говорят, верил в разум. Неужели же его вера, как и вера
римских стоиков, покоилась на уверенности, что душа, лишенная
страстей, блаженна и бессмертна, тогда как в истовости утрачивает
свойства бессмертия – каковой, скажем, полагал ее в своих
записных книжках великий римский император-философ Марк Аврелий:
173-180 годы нашей эры.
«Какова душа, которая готова, когда надо будет отрешиться
от тела, то-есть либо угаснуть, либо рассеяться, либо пребыть.
И чтобы готовность эта шла от собственного суждения, а не
из голой воинственности, как у христиан, – нет, обдуманно,
строго, убедительно и для других, без театральности.»
Но стоицизм Марка Аврелия вполне сочетался с полезной ему
идеей многобожия римского пантеона. Гете же, и в глубокой
старости подверженный благотворным страстям своего поэтического
сердца, исповедовал единобожие. Однако, при всем его нравственном
уважении к христианству, ему было тесно в догматике церкви,
как впоследствии Л. Толстому, который тоже зачитывался размышлениями
Марка Аврелия.
Для Гете, как и для Толстого, Иисус – человек в его идеале.
Понедельник, 28 февраля 1831 года.
«Христос исповедовал единого Бога и наделил его всеми свойствами,
которые в самом себе воспринимал как свойства совершенные.
Этот Бог был сущностью его прекрасной души, был благостен
и любвеобилен, добрые люди могли доверчиво ему предаться,
восприняв саму идею такого Бога как сладостную связь с небом.
Но так как великое существо, которое мы именуем Богом, проявляет
себя не только в людях, но также в многообразной могучей природе
и в грандиозных мировых событиях, то, разумеется, представление
о нем, основанное на человеческих свойствах – представление
недостаточное, и вдумчивый человек немедленно наткнется на
провалы и противоречия, которые повергнут его в сомнения,
более того – в отчаяние, если он не настолько мал, чтобы успокоить
себя надуманными увертками, или не настолько велик, чтобы
подняться до более высоких воззрений.»
Но под сказанным с легким сердцем подпишется любой думающий
мусульманин, для которого христианство самого Иисуса, нигде
и словом не упоминавшего о Троице, является неизменной составной
частью его духовного исламского мировоззрения. Честный, по-немецки
тщательный Эккерман продолжает:
«Противники часто обвиняли Гете в отсутствии веры. Но он только
их веры не имел, слишком она была мелка для него. Если бы
он открыл им свою, они были бы поражены, однако уразуметь
ее все равно бы не сумели.»
Но что это была за вера? Мудрый, искушенный в политике жизни
Гете нигде прямо не говорил, что эта вера – ислам, но в своих
веймарских разговорах вновь и вновь возвращался к Пророку
и мировоззрению ислама, в изучение которого углубился в годы
сочинения своего «Западно-восточного дивана». Уже в самом
названии этого последнего великого стихотворного творения
Гете заложена мысль о родстве идей ислама с выстраданным великими
умами Запада пост-христианским мировоззрением.
Среда, 11 апреля 1827 года.
«Очень интересно, с каких наставлений магометане начинают
воспитание детей. Первооснова религии, которую внушают молодому
поколению, – это вера в то, что ничего не может встретиться
человеку на жизненном пути, что не было бы предназначено ему
всеведущим божеством; тем самым молодежь на всю жизнь вооружена,
успокоена и ничего больше не ищет.
Не будем вникать, что в этом учении правильно или ложно, полезно
или вредно, но, по правде говоря, что-то от него заложено
во всех нас, хотя никто нам подобных идей не внушал. ...
Обучение философии магометане начинают со следующего положения:
не может быть высказано ничего, о чем нельзя было бы сказать
прямо противоположного. Они упражняют ум своих юношей, ставя
перед ними задачу: для любой тезы отыскать антитезу и устно
ее обосновать, что должно служить наилучшим упражнением в
гибкости мысли и речи.
Но поскольку каждое положение опровергается противоположным,
возникает сомнение, и оно-то и есть единственно правильное
из этих тез. Но сомнение непрочно, оно подвигает наш ум на
более глубокие исследования, на проверку, проверка
же, если она произведена добросовестно, создает уверенность,
которая является последней целью и дарует человеку полное
спокойствие.
Как видите, это учение закончено в себе, и мы со своими системами
не смогли его превзойти, да его и вообще-то превзойти невозможно.»
В этих речениях Гете – суть ислама, высказанная если и не
думающим мусульманином, то уж несомненно исламским философом.
Да Гете, для которого культура ислама лежала, конечно,
больше в области этнографии, особенно и не скрывал своего
согласия с духовной сутью этой веры, в которую начал углубляться
в 1813 году после того, как некий немецкий солдат привез ему
из Испании старинную арабскую рукопись с последней сурой Корана,
«Ан-Нас»:
Во
имя Аллаха Милостивого, Милосердного.
Скажи: «Я ищу прибежища у Владыки рода человеческого,
Царя рода человеческого,
Бога рода человеческого,
От злобы крадущегося злоязычника,
Который нашептывает сердцам людей, –
Злоязычника из джиннов и рода человеческого.
В этой суре, завершающей чудо коранического откровения, утверждается
Единство Бога, Который один обладает титулами, в христианстве
отнесенными к различным ипостасям Троицы. Зачем разделять
эти ипостаси, вопрошает Коран, если Аллах в своем дающем прибежище
Единстве и согласуемой с разумом Единственности единовременно
и Владыка рода человеческого (Бог-Отец), и Царь, которым церковь
называет Иисуса, и Бог Дух Святой – единственная в мире святость?
Но нашептывают, нашептывают сердцам людей люди и джинны, главной
целью которых является и далее разделять-раскалывать мир,
посягая на абсолютную неделимость Божьего Бытия. Вот над чем
задумывался Гете, переписывая эту суру и считая ее появление
в Веймаре особым божественным знамением. Лишь человек его
масштаба и мог, наверное, выявить в своем княжеско-бюргерском
окруженьи общечеловеческую, вселенскую суть исламского Благовестия,
так часто скрытую в фольклорной красочности зримых материальных
культур.
5 января 1814 года. Гете – Требру:
«Говоря о пророчествах, должен тебе сказать, что сегодня
происходят такие вещи, которые ранее пророкам не позволили
бы даже и произнести. Кто бы позволил еще несколько лет
назад высказать предположение, что в нашей протестантской
гимназии может проводиться магометанское священное богослужение
и будут читаться суры из Корана. И все же это произошло,
и мы присутствовали на богослужении у башкир, видели их
муллу и приветствовали их князя в театре. Из особого расположения
ко мне, на вечную память мне были подарены лук и стрелы,
которые я повесил над своим камином. А некоторые из наших
особо религиозных дам даже заказали в библиотеке перевод
Корана.» [6]
И вправду, не тот же мусульманин, кто наденет на всеобщее
обозрение халат и тюбетейку, а тот, кто признает и восславит
Единство Аллаха, которое, повинуясь Божьим установлениям,
ему становится необходимо отразить в единстве своей души
и единстве мира. Это и есть ислам, и в этот ислам, призывающий
ум и сердце к познанию природы и к убежденности в абсолютной
логичности установлений Бога, бесспорно и безусловно верил
Иоганн Вольфганг фон Гете.
Narrish,
dass jede in seinem Falle
Seine
besondere Meinung preist!
Wenn
Islam Gott ergeben ist,
In
Islam leben und sterben wir alle.
Не
чушь ли – все в тщеславии убогом
Суть
под себя лишь тщатся подогнать!
Когда
Ислам и вправду послан Богом,
Нам
всем в Исламе жить и умирать. [7]
Как же созвучно это речению Пророка
ислама, который сказал, что всякое дитя рождается в исламе,
и только родители и окружение делают из него христианина или
иудея! Гете, которому еще в 1772 году, до Вертера, не удалась
драма «Магомет», не занимался стилизацией в своих исламских
стихах. Он жил в духовной реальности ислама.
19 сентября 1831 года. Гете – Адель Шопенгауэр: [8]
«Мы все живем в исламе, какую бы форму ни избрали для того,
чтобы ободрить себя.»
20 сентября 1820 года. Гете – Цельтеру:
«Таким образом, мы должны остаться в исламе (то есть в полном
подчинении воле Божией... К этому не могу добавить больше ничего.»
Можно было бы привести еще многие высказывания Гете о его духовной
близости к исламу. Они с неизбежностью разрушают миф о великом
гражданине мира как о поклоннике исключительно человеческого
разума, да и многие другие представления о нем. Например, то,
что Гете считал герцогство Карла-Августа, в котором жил, совершенным
государственным устройством. Только человек, согласный с прозвучавшими
исламскими убеждениями Гете, может постичь всю глубину его отношения
к вечным проблемам сиюминутной политики – его слова, набатом
звучащие на развалинах нашей, а не какой-то придуманной страны:
Воскресенье, 4 января 1824 года:
«Поскольку я ненавидел революции, меня величали другом существующего
порядка. Достаточно двусмысленный титул, отнюдь меня не
устраивавший. Конечно, я бы ничего не имел против порядка разумного
и справедливого. Но так как наряду со справедливым и разумным
всегда существует много дурного, несправедливого и несовершенного,
то «друг существующего порядка» почти всегда значит «друг устарелого
и дурного». ...Для каждой нации хорошо только то, что ей органически
свойственно, что проистекло из всеобщих ее потребностей, а не
скопировано с какой-то другой нации. Ибо пища, полезная одному
народу на определенной ступени его развития, для другого может
стать ядом. Поэтому все попытки вводить какие-то чужеземные
новшевства, поскольку потребность в них не коренится в самом
ядре нации, нелепы, и все революции такого рода заведомо обречены
на неуспех, в них нет Бога, ибо участвовать в этой нелепице
ему не пристало. Если же у народа действительно возникла потребность
в великой реформе, то и Бог за него, и удача будет ему сопутствовать.
Бог был за Христа и первых его последователей – ибо впервые
возникшая религия любви являлась тогда насущной потребностью
народов. Был Он и с Лютером, так как в лютерово время люди уже
стремились очистить это исковерканное попами учение. Но ведь
вдохновители обоих этих мощных движений не были друзьями существующего.
Напротив, ои были убеждены, что надо вылить старую закваску,
что не должно в мире оставаться столько неправды, несправедливости,
порока.»
Какое же это счастье, что истинные мысли Гете остались запечатленными
на бумаге! Перечитывая его ныне, я словно читаю современные
книги Ахмадийского ислама, в котором сегодня много природных
немцев. И всеже, даже при наличии полного жизнеописания, книг
и рукописей, продолжает жить миф о Гете как исполине, которого
Европа может противопоставить «темной силе ислама»... Но нет
в мире иной темной силы, чем тьма бесчувственности невежественного
сердца, и такое сердце чуждо любой вере: «ведь не глаза слепы,
но слепы сердца, которые в груди,» – горько говорит Коран.
Хмурые и бородатые неомусульмане считают, что Аллах на
их стороне – на стороне принципиального неприятия других культур.
Но нет и не может быть ислама в невежестве: остается оболочка,
обрядность – исчезает дух, стремящий мир к Единству.
Почему же тогда различны народы, почему различны их нравственные
культуры? Бог ислама, христианства и иудаизма, Бог Будды, Кришны,
Конфуция и Сократа отвечает – и это исчерпывающий ответ:
Аль-Худжурат: 49:15
«О род человеческий, создали Мы вас из мужчины и женщины и сделали
вас народами и племенами, чтобы вы могли познавать друг друга.
Истинно, наиболее достойный среди вас в глазах Аллаха – тот,
кто наиболее праведен среди вас. Истинно, Аллах – Ведающий,
Всеведущий.»
Кто же восчувствует зрячим сердцем и разумом, разочарованным
в средствах мира, что настала судная эпоха – Эпоха Познания!?
Если не станем познавать в любви – познаем во крови и скорби.
Но познаем, ибо так судил Бог.
Не победит никакой герой и витязь, если он не праведен, а праведный
– это стремящийся к Единству через познание и сострадание. Не
понявший этого – осужден скитаться в порочных кругах истории
– с оружием мести и собственным национальным кодексом чести,
подобным кодексу бедуинов времен Пророка. Аллах ведал, что будет
в наши времена воинствующий и нетерпимый псевдоислам;
не потому ли тотчас после айята о познании говорит Он:
Аль-Худжурат: 49:15
«Кочевые арабы говорят: «Мы веруем.» Скажи: «Не веруете вы;
скажите лучше, «мы приняли ислам», ибо Вера не вошла еще в сердца
ваши. Но если вы повинуетесь Аллаху и Посланнику Его, не умалит
Он ничего из деяний ваших. Истинно, Аллах Наибольше-Прощающ,
Милосерд.»
И тотчас дальше:
Аль-Худжурат: 49:16
«Верующие суть только те, которые веруют в Аллаха и Посланника
Его, и затем не сомневаются, но подвизаются имуществом своим
и жизнью своей во имя Аллаха. Такие люди – искренни.»
Веруют в Аллаха – в Милостивость и Милосердие. Веруют в Пророка
– посланного как «милость для всего человечества», зовимого
ко взаимному познанию в любви. Вы говорите – ваххабизм, талибы,
вы говорите – ислам утвердится силой оружия и эпической силой
кровной мести? И тотчас, в следующем же айяте отвечает Аллах
– наставлением Своему Пророку:
Аль-Худжурат: 49:17
«Скажи им: «Хотите ли вы познакомить Аллаха с верою вашей, тогда
как Аллах ведает обо всем, что есть на небесах, и обо всем,
что есть на земле, и ведает Аллах все сущее?»
Это тем, кто кроит ислам под себя, тем, кто использует ислам
в мирских целях, в первую очередь направлены завершающие речения
суры Аль-Худжурат – суры Эпохи Познания. Вы поднимаете ислам
как политическое знамя в защиту собственных родовых мифов? Вы
думаете, что допустимо жертвовать людьми во имя вашей веры?
Аль-Худжурат: 49:18-19
«Они считают, что они оказывают милость тебе тем, что они приняли
ислам. Скажи: «Не считайте принятие вами ислама милостью мне.
Нет, это Аллах оказал милость вам тем, что Он наставил вас к
Вере, если вы искренни.
Истинно, Аллах ведает тайны небес и земли. И видит Аллах все,
что вы делаете.»
Вера входит в сердца искренние и наивные, как сердце ребенка.
Невежество же порождает только бесчувствие. Но людям свойственно
привязываться к мифам, и даже руины мифа бывают им милее неузнанной
правды и Божьего промысла, ведущего к единению – сокровенному
смыслу всех великих и малых движений.
ЛЕСТНИЦА
В НЕБО
(Шавкату Абдусаламову – отшельнику Таквашу)
...брат мой, я искренне пытался и наконец оставил попытки объяснить
тебя словами. Поделись со мной молчанием. Не объяснить мне того,
что содержится в немом согласии между братьями.
Люди вообразят тебя пророком. Люди совместят горькие слова твоих
притч с нежной точностью твоих линий, и заплачут от состраданья,
от которого нет в пустыне укрытия.
Люди удивятся. Люди скажут тебе, откуда ты, как будто они знают.
Я же не знаю, откуда ты, и мне вовеки не дано узнать, но я знаю,
что ты брат мне, и через много пустынь вижу твое созидательное
одиночество, врачуемое светом небес. Вижу тебя и труд твой,
труд Мастера, которому в утешение дана благодать, а во испытание
– зрячее сердце. При свете вижу тебя.
Аллах есть
Свет небес и земли.
Свет Его подобен нише, в которой поставлен светильник.
Светильник горит в стекле.
Стекло подобно сверкающей звезде.
Засвечен он от благословенного древа, маслины,
ни с Востока, ни с Запада,
масло которой горит почти что без прикосновения огня.
Свет на свете.
Люди скажут тебе, откуда ты,
как будто они знают. Я хочу любить их, так же, как ты, но
так же боюсь кропотливой запечатленности их суждений. Увидят
ли, разглядят ли они, что на твоих полотнах – во всей прописанности
болящего земного бытия – ничто не остановлено, и все движется
и течет к тому пределу, откуда возвращается обратным движением?
Не всякий, кто рвется уйти, знает, что уже вернулся из своего
побега. Все существует сейчас и здесь, и все существует в
вечности, и нет в пустыне жизни ни Востока, ни Запада. Есть
только свет и упорный труд при свете.
Светом полны твои полотна, Шавкат. Кого единожды коснулся
Бог, тот всю жизнь потом ищет касание Его руки среди людских
касаний и думает, что сиротство – от людей. Как же мало и
тщетно то, чем мы обладаем в этой пустыне, но и среди этого
малого самое нужное – это лестница в небо, которую не к чему
прислонить, и древесные крылья, которые пригибают нас к земле.
Тяжесть символов. Бессмысленность земных координат. Крик поезда,
уходящего на Запад, чтобы тотчас появиться с Востока. Ты знаешь,
что это один и тот же поезд, брат, на котором нельзя никуда
уехать, чтобы тотчас не вернуться. И ты знаешь, что воистину
движется только тот, кто знает, где именно пребывает в покое.
Но как же трудно оставаться на месте, подобно горе, вечно
ждущей к себе пророка! Он не приходит, но являются в неприступное
одиночество иные гости – призраки, мифы, легенды и другие
печальные, озаренные отраженным светом Аллаха придумки легковерного
человечества. Ты просишь их поселиться на твоем пустыре и,
подобно миражам, они на время остаются с тобою, чтобы ты мог
увидеть в них себя.
Но, утомясь людским разговором, они всегда уходят, откуда
пришли, – ведь это всего лишь волхвы, бредущие за звездою,
которая никогда не стоит на месте.
И лишь твоя святая Марьям со своим ребенком, единственная
сущность среди множественных миражей, живет и живет, перебиваясь,
на краю каменистого пустыря отчуждения, которым кончаются
и начинаются все пустыни мира. Там, где в редких кустах и
одиноких травах летают своенравные библейские удоды и нежные
небесные бабочки, все живет и живет она в своем продуваемом
ветром жилище из кривых жердей и тростника, ибо если бы и
она, забрав сына, ушла в сердцах за горизонт, кто бы продолжил
в мире дело непорочности и целомудрия?
Да и куда можно уйти отсюда, из скудной, но ведь и единственной
подлинности человеческой жизни? Только мать знает, что бесполезно
гнаться по пустыне за бабочкой, если она сама не прилетает
к тебе с небесных лугов, цветущих нетленно, как твое сердце,
– цветущих как Молчание, Которое только потому и молчит, что
не хочет всуе расплескать воду истины.
И мальчик ее, гололобый ее мальчик с трогательным нимбом свежего
утреннего солнца, забравшись на низкую тростниковую крышу,
сидит, невесомый, болтая босыми ногами и улыбаясь, и улыбка
его, как бабочка пустыни, нечаянна и бессмертна.
Куда ни посмотрит он со своей лестницы в надежде угадать,
откуда придет отец – всюду горизонт, всюду немилосердные дали,
откуда приходят и куда удаляются волхвы и кругосветный поезд,
странствующие в поисках новых звезд и миражей, но всегда и
непременно возвращающиеся на твой пустырь отчуждения.
Среди прохожих пустыни нет и не будет отца, но кто-то ведь
должен ждать его, иначе зачем стоит на ветру жилище, и в сложенном
из камней тандуре испекается нищий хлеб жизни?
Однако мудрость всегда приходит лишь впоследствии, а детство
никогда не умирает. Кто не наследует в пустыне жилища, наследует
лестницу и сколачивает себе крылья из пустых ящиков, потерянных
поездом.
Если нет отца на земле, то он непременно на небе: надо всего
лишь найти его и подставить ему лестницу – как ему иначе спуститься?
Но небо велико, Шавкат, а в нашей пустыне зима дольше лета.
И сколько заботы даже в странствиях поддерживать вечный огонь
в тандуре, чтобы могла обогреться мать, и отец, когда вернется,
мог согреть руки горячим хлебом!
Ведь возвращается все – даже отец. Он вернется – и вода, для
чего-то ведь журчащая в незастывающих родниках сердца, пригодится
оживить земную пустыню.
Когда я думаю о тебе, брат, я думаю об Аллахе, подарившем
нам сиротство ради непрестанной памяти о Себе.
Поделись со мной молчаньем, Шавкат. Возьми меня, чтобы поддержать
твою лестницу в небо.
Это ведь я иду издалека, боясь неловким словом спугнуть удода,
сидящего на ее вершине.
VIII. «КОТОРЫЙ ПЛАЧЕТ»
Когда отшельник Такваш, великодушно даря мне свой рисунок,
собственноручною надписью причислил меня к странникам мира,
я вдруг возомнил. Я в одночасье сделался тщеславен. В мгновенном
порыве сего тщеславия я даже пожелал подарить какому-нибудь
музею свой портрет, чтобы люди помнили, какими они бывают,
странники мира.
О подобном портрете незачем было просить Такваша. У меня уже
и есть одно такое изображение. Когда смотришь на него, возникает
впечатление, что человек на портрете плачет.
Но это, если приглядеться, не слезы. Это всего лишь капли
дождя, наискось упавшие на лицо. Ведь на картине всегда идет
дождь, взметаемый вихрем неподвластной жизни, – тем самым,
что возносит, низвергает, да и уносит прочь, за прямоугольную
раму, блескучие и мокрые, еще живые листья, пузырьки воды,
а также мелочные обрывки всяческих вечных соцветий, так что
и не понять, какое время на дворе – весна или осень. Это очень
живописный портрет, однако в нем только по настроению узнаешь
самого себя – как в любом зеркале.
Между тем Таквашу ли отшельнику было не знать и не догадываться,
как меня когда-то тешили и утешали странствия – налегке, в
полном беспамятстве прошлого. Живые картины проходили по обочинам
долгой дороги; люди, исполненные собственной жизни, проходили
как бы сквозь меня, не побуждая моих воспоминаний. Я и сам
не помнил почти ничего, мня найти себя иного и обнаружить
истину жизни в этих поисках, не обремененных никакой поклажей
памяти. Но земля оказалась, как и рассказывали, кругла, и
поневоле приходилось возвращаться, и тогда во всей нелицеприятности
окружающих меня реальностей я понимал, что жизнь, какая ни
есть, продолжается, и нарочитым забвеньем минувшего никак
нельзя обмануть даже и самого себя.
Поэтому недолговечно тщеславье, как и всякое утешение. Что
бы ни думали люди, только сам странник знает, какова цель
его скитаний – разве лишь неверный и вечно ускользающий покой
души.
Настоящий мудрец – он сидит на месте: истина сама приходит
к нему. Кто же вечно странствует – не обретает, но только
и делает, что теряет, наживая лишь сожаленье об утраченном.
И отчего же ускользает из души покой? Отчего среди ясности
и определенности жизни то и дело наступает и вторгается в
душу нежеланное смятенье, избавиться от которого на малое
время возможно лишь самозабвенными трудами, частыми странствиями
или иною беспамятною жертвой?
Я ведь и сам думал когда-то, что в скитаньях ищу свой дом,
но не тот, где все еще обретается мой портрет, а другой, еще
неведомый, но мой – всем воздухом, заключенным в его
стенах. Он мнился мне на высокой лесистой горе, под солнцем
и звездами, чтобы из широкого окна всю жизнь виделись мне
странноприимные дали. И вот однажды такой дом был дарован
нам с тобою, а к нему был дарован и маленький сад, где по
вечнозеленой траве в солнце и ненастье гуляет рыжая кошка.
В саду я посадил куст сирени, а кошку нужно кормить. И поскольку
наш дом волею судеб случился в Англии, которой, кроме как
во сне, никогда не видел честный отшельник Такваш и множество
других людей, которых я в порыве одинокой нежности называю
своими друзьями, кошачий корм полагается закупать в супермаркете,
куда нужно ездить хоть раз в неделю на автомобиле. Эта пища
заключена в жестяных баночках, и набираешь их сразу с дюжину,
а затем берешь еще одну – для того, который плачет.
Который плачет – он изображен на особом ящике рядом
с кассой, куда просят благотворительно жертвовать корм для
приютских и вовсе осиротевших котов. Это черный котик, словно
бы изображенный детской рукою, и вот он плачет, потому что
одинок и ему нечего кушать. Он бездомный, и у него нарисованы
слезы. Раз в неделю я всегда бросаю для него баночку, но это
не утешает душу, и я, не излечившийся от страсти к скитаньям,
почему-то постоянно помню о нем. О том, который плачет.
Ведь кота, как и человека, всякий может обидеть. И не только
такую чересчур доверчивую нашу рыжую кошечку, которую я назвал
Мумзик, еще котенком приняв ее за кота. Вернее, за сто граммов
кота, потому что ты подобрала это сиротливо мяукнувшее тебе
навстречу существо совершенным крошечным заморышем и очень
волновалась, что вдруг не вырастет хвост.
Хвост вырос, пушистый. Кошка тоже выросла, но не очень. Это
маленькая кошка. По вечерам она сидит на каменном заборе и
ждет меня с работы. Она мяукает, когда ей чего-то хочется,
и я не сразу понимаю, чего она хочет. Ведь даже кошку нужно
научиться понимать.
Ты помнишь, мы взяли Мумзика вопреки моим резонам. Во-первых,
у нас еще не было, да и не предвиделось своего дома. Во-вторых,
с кем было ее оставлять во время наших частых отлучек из Англии?
Но Мумзик осталась, потому что кота всякий может обидеть.
Даже такого, как Данте.
Данте – это черный кот, итальянский. И не просто кот. Это
– черный, как смоль, агромаднейший котище, весом чуть ли не
в целый пуд. Он живет в городе Турине, в трехзвездочной гостинице
«Астория» близ центрального вокзала Порта Нуова и спит в одном
из кожаных кресел в маленьком вестибюле. Люди входят и выходят,
въезжают и выезжают, а он, уж на что свой и привычный, все
равно посматривает на каждого с опаской. Так же он посмотрел
и на меня, и во все три дня нашего общения так и не переменил
ко мне своей подозрительности.
Это было, когда я однажды уехал по делу в Турин. Уехал – улетел,
через город Франкфурт-на-Майне, чей когда-то поразивший меня
международный аэропорт стал ныне напоминать некогда столь
же привычное московское Домодедово – обилием траченых трудной
жизнью лиц, чемоданов, узлов и баулов. Увы! И здесь ведь пропало,
делось куда-то ощущение новизны и предвкушение неведомого,
то самое, что так светло охватило меня в мой первый прилет
сюда – годы и годы назад. Врата в закрытый некогда мир стали
проходными, и многочисленные беженцы и скитальцы ежедневно
проходили сквозь них в поисках счастья, которого как не было,
так и нет ни у кого на родине. Все ехали куда-то, как на переполненных
российских поездах. Все искали счастья и благополучия – никто
не искал ни воли, ни покоя.
За стеклянными стенами этого немецкого аэропорта тогда тоже
была весна: я смотрел на бледно-голубое небо и думал, чего
– чего же не хватает мне, чтобы опять переполниться ожиданием
неведомого? Неужели и я не заметил, как, притворяясь зрелостью
души, почти вплотную подкралась ко мне старость, забрав у
меня глупое счастье вечного удивления взамен на пресный вкус
изведанности и поселив в моем сердце непременное человеческое
возмущение тем, что жизнь прошла так быстро?
Чего же не хватало этой весне, чтобы, как прежде, возрадовалось
и взыграло сердце?
Лета мои подбирались тогда к пятидесяти, и радость всяческой
новизны исподволь сдавалась на милость печали. Не той печали,
что, сладко щемя сердце, так зазывно плещется в золоте и багрянце
лесов, отзываясь на всякое дуновенье осеннего ветра, а другой,
печали несметной усталости, когда и навечное прощание с самою
жизнью мнится облегченьем от поденной работы, не имеющей ни
конца, ни края, ни самоочевидной цели.
Я тогда погряз во многих одновременных трудах, проистекавших
один из другого, и не было им завершения, а душе моей – исцеления
и умиротворенья. Эти труды поднимали меня на первой заре,
как настойчивый плач младенца, и не подняться было никак нельзя,
и забота эта продолжалась при свете до самой вечерней зари,
когда сами собою смыкались веки, и тело становилось ватным
и совершенно уж бесполезным. Я засыпал, как падал в обморок
– без памяти, и мирская усталость победительно торжествовала
надо мною, пока заря опять и очень скоро не начинала брезжить,
и все не начиналось сызнова.
Иногда, пробуждаясь и вставая затемно, в приступе сиюминутного
малодушия молил я прекрасную неизвестность о том, чтобы как-то
выйти, выскочить из этого затверженного наизусть порочного
круга, – бросить, оставить все ради звенящей пустоты и вольной
воли первозданного, с чистого листа, созиданья, чтобы явленная
на рассвете единая мысль подвигла наконец на единственный,
подлинный, во исполненье земного моего назначения труд, навсегда
исцеливший бы меня своей неоспоримой нужностью, даровав покой
и долгое счастье свершенности.
Так жил я тогда, рабски склонясь над поденными трудами, а
когда поднимал голову и глядел на мимотекущую жизнь, она казалась
мне чужою и странною, как собственное имя, произнесенное вчуже
– посреди полного молчанья. Сквозь живые картины окружающей
заморской действительности, сквозь возникающие и увядающие
по сезону цветы маленького, по праву принадлежащего лишь рыжей
англичаночке Мумзик сада только и проникали в эту тишь, что
непонятная виноватость за зримое мое благополучие, повторяющиеся
воспоминания о потерянных в скитаниях друзьях и другой утраченной
второпях жизни. Это было нехорошо и смахивало на греховное
унынье, но я исправно молился Богу – и дома, и в белой Ахмадийской,
самой старой в городе Лондоне мечети, вокруг которой до января
цвели разноцветные розы и курчаво зеленели, а то и стояли
в нестыдной наготе столетние грушевые деревья.
Там, в мечети, и явился однажды ответ на мечтанья моего рассветного
малодушия. В минуты вечерней молитвы, когда я в земном поклоне
простирался на чистом зеленом ковре, вдруг прозвучали в голове
моей нечаянные слова. Сказано было: «гость случайный». И я,
услышав, тотчас повторил их, чтобы не забыть, ибо ясно стало,
что сказано было не зря.
Но о чьей случайности сказано было это? О моей разве? Где
же я был случайным – в моей мечети? В мире? Однако человек
верующий, к каким я теперь смею причислять и себя, с достоверностью
знает, что не бывает в мире ничего случайного. Все создано,
чтобы свидетельствовать, что мир един, и единство его сцеплено
любовью.
Любовью?
Да и конечно же – человек неслучаен лишь настолько, насколько
способен любить, а все, что помимо любви и жертвы, есть пустая
и никчемная трата дарованных сил. Так не застал ли и меня
Аллах в пустоте дарованного благополучия, как Иисус смоковницу,
не указал ли мне намеком на мою мирскую случайность, как мало
и скаредно умею я – любить?
А где мало любви – там торжествует унынье, и прошлое грустно
застит будущее, не умея подсказать его. Да и как любить, не
возлюбив сперва Единства? Ведь любовь к человеку и труду и
в самом подвиге жертвенности бывает слепа, иногда прозревая
только вместе с любовью к Создателю. Для безбоязненной любви
и в тот миг понимания недостало мне благородства, но мир вокруг
осветился тайным замыслом, не перестав, однако же, покамест
и тяготить меня.
И вот, новое состояние мое, запретив самомненье и самолюбованье,
не избавило от ответственности свидетельствовать. Чему-то
истинному суждено стало свершиться, и я вновь, как новичок,
предался дороге, на обочине которой так тягостно унывал о
своей ненужности ни себе, ни Богу, ни людям...
Я летел в Турин. Розовые Альпы проплывали под крылом самолета
в облачных разрывах: чужие горы. Опять, как в полете над нищим
и обманутым Кавказом за два месяца до того, белели подо мною
на горных кряжах снега, и льды сияли под нечаянным солнцем;
тени облаков передвигались по каменистым склонам медленно,
и там, где завершалась тень, становилось ясно, что горы –
они коричневые и зеленые. Но это самолет уже подлетал к Пьемонту,
смеркалось, а потом полет прекратился, и вот я уже ехал в
итальянском такси по ровной, как Араратская, долине реки По,
и горы полукругом уходили на запад. Потом, в наставшей темноте
мы въехали в Турин, и только здесь, глядя на высокие савойские
аркады, нависающие каменными сводами надо всеми главными тротуарами
города, понял я, чего же мне так не хватало в этой европейской
весне.
Не хватало капели. Звона ее – тонкой музыки былых моих весен.
Ни единой хрусталинки не свисало с крыш и аркад, ниоткуда
не капало; никак не звенела и не журчала эта прекрасная, но
молчаливая весна.
Где не бывает сугробов – нет и вешних вод. И нечего опять
вспоминать о Казани, об апрельской улице Аэропортовской, с
ее мерцающим, тонко выпряденным хрусталем над сверкающими
и бурлящими от восторга ручьями; Бог с ними, с пудовыми сосульками,
хлопающимися, как бомбы, под ноги прохожим, и хорошо, если
только под ноги! Услужливая память, она ведь выбирает только
самые светлые блики детства: сверкающие ручьи, струящиеся
по ледяным руслам по улице Гастелло, а потом, как сама Волга,
поворачивающие чуть ли не под прямым углом на юг и бегущие
к нашему «финскому» университетскому домику, а за ними бегу
и я, пустивший по течению не помню уже что, наверное, самодельный
кораблик или резинового попискивающего клоуна, которого я
прозвал, по одноименному фильму, Пархоменко…
Дома вокруг избяные, с резными ставнями и деревянными воротами:
это предместье, и здесь страшновато по ночам. Но когда светло,
и на солнце журчат ручьи, вовсе не страшно, и не пугает даже
крышка гроба, выставленная у соседских ворот. На этой крышке
– черный крест, наверное, самый первый крест и самая первая
смерть, которую я помню в жизни. Но больше помню ручьи, золотой
их блеск.
Взрослым эти ручьи не по нраву, как не по нраву и просевшие,
уже обуглившиеся по краям сугробы, потому что они заранее
предвидят грязь и распутицу, а я-то никакой грязи еще не предвижу.
Они журчат, ручьи. Ледяные, ажурные забереги сияют, и у меня
впереди еще целая жизнь, чтобы рассматривать эти тончайшие
пластинки льда, столь похожие на крылья больших стрекоз, что
летом замирают в воздухе над белыми кашками и розовым клевером
зеленого, ах, какого же просторного и зеленого самолетного
поля! У меня есть все время на свете, чтобы разглядывать сосульку
и видеть, как набегает на ее острие прозрачная капелька, а
потом срывается и падает, если, конечно, не успеет застыть
и смерзнуться. Сосульки вырастают каждое утро, и каждое утро
начинается с капели и журчанья воды.
Да, и это было в Казани, к которой с предреченной неизбежностью
возвращаются и возвращаются мои воспоминания – так же, как
и к другим краеугольным камням этих вынужденных совестью писем.
Вот и думаю порой, уж не утратил ли я сиюминутного себя в
лабиринтах избирательной памяти? Но нет – как в душе человека,
пусть даже и беспамятно сохраняющей главное направление жизни,
ничто не забывается окончательно в завещанном нам Гете, Моцартом
и другими истинными мастерами искусстве композиции, и не удаляется
навсегда из подлинной творческой тревоги никакой мотив, пусть
порою и уходящий в неузнаваемые вариации, но непременно возвращающийся
в новом обличии и новых обстоятельствах сердца.
Ведь сердце – оно живет и понуждает жить, и ему чужда сухая
последовательность и рассудительность заранее распланированного
воображения: зрячее, оно видит собственные пути, не всегда
видимые человеку. Потому что сердце – оно всегда ждет, что
вот наконец отзовется в окружающейся жизни ритм его собственного
биения, – оно, невразумленное сердце, и увлекает человека
в странствия, чтобы где-нито снова услышать эту гармонию и
понять, что живет не напрасно и не вовсе уж самозабвенно.
Тем более, что для сердца все происходит здесь и сейчас,
и нет для него никакого времени и пространственного расстояния
между библейской правдой и текущими новостями Бибиси, и всякое
обрамление совестной мысли – это и вправду лишь картинная
рама, которая самый простой пейзаж и самого невыдающегося
человека превращает в произведение искусства, умея прямоугольно
и зримо выделить его из привычности окружающего бытия. В таком
обрамлении более зримы и выпуклы становятся самые незначительные
подробности, существенны становятся самые ничтожные детали
и делается ясно, что ничто – да, ничто не случайно в мире,
кроме самого человека, когда не умеет понять, зачем живет
на свете.
Но я – разве не стараюсь я понять это? Неужели же это когда-нибудь
удастся и мне, Господи? Неужели же и я сподоблюсь наконец
обрести предназначенное место в стремнине Единства, порою
струящейся мирно и спокойно, а порой бьющейся в теснинах людских
представлений, заставляя терять уже заслуженный, казалось
бы, покой, –
в стремнине, возжигающей неведомой силой сердце, как бы обвивая
его вдруг палящим, жгучим, очистительным пламенем нестерпимой
совести, а упокоенной было душе вменяя в обязанность задыхаться
от глупой запальчивости, столь мешающей действительной надобности
делиться тем, что она, душа, полагает истиной, и только потому
и полагает, что так долго и нестерпимо пылает эта истина вовне,
лишая того покоя, ради которого, казалось бы, и послана?
Любовь моя, кому же я мню растолковать все это? И где? В лукаво
ускользающем от нас мире, во всем многообразии его, где я
оказываюсь здесь или там как бы и нечаянно, везде грезя закрепить
свое существование памятью о своей и чужой земле и воспоминанием
о людях, касанием и словом удостоверивших мое собственное
присутствие в мире, которого я сам мог бы и не заметить и
во многих странствиях не замечал так часто.
Ведь небеспечально сознавать, что жизнь твоя есть просто часть
чьей-то, и вовсе не твоей собственной истории, в которой тебя
могло совсем не быть, – часть неведомой истории, которую не
только можно вполне беспристрастно разложить по датам и событиям,
но и убедительно переврать, над чем ты вовсе уже не властен?
И почему должен, почему обязан человек, хоть и случайный,
вмещаться со своим кровным существованием в закосневшую последовательность
произошедшего, тогда как все существо его, в непостижном трепете
подлинной и неугаданной жизни, убеждено, что ничто в мире
не коснеет и не кончается, но пребывает в странном движении,
подобно стае осенних птиц в закатном просторе над большой
рекою?
Что же изменяется в происходящем, помимо отчетливых очертаний
этой птичьей стаи, мятущейся в небе перед зимними холодами,
порывающейся по ветру и скользящей по незримым струям пространства,
словно и неспособной решить, какой из берегов ей милее? Что
изменяется во времени, которого нет?
Разве не происходит все, хоть как-то увязанное с нашим все
еще текущим наличием в мире, именно здесь и сейчас,
– разве есть воспоминания, не имеющие отваги быть прилюдной
реальностью, а не всего лишь тайной пищей неутолимой и чересчур
усердной совести? Особенно, когда и Конец света – всего лишь
привычное осязание свершающегося повседневно.
И вот, Который плачет, он напоминает мне о том, как
стыдно сознавать себя добрым, и не о сострадании и жалости
напоминает он, хотя, наверно, только состраданье, сочувствие
и совестная жалость все еще соединяют и связывают нас с иначе
вовсе уж отчужденным миром. Не жалость к живому понуждает
мои действия в напрасных грезах и стремлениях раствориться
в незримой красоте мира, но вечная виноватость перед чужим
горем и чужою слабостью, та детская виноватость, которая за
жизнь претворилась в неискупимую и непростительную вину –
ведь и я, как всякий человек, добавил этому миру беды и горя.
Но блажен-таки тот, кто не сознает причиненной другим боли,
а меня мучает и истязает она порою, та вина, которой уже не
отпустят люди, и которую только Единство может простить, если
пожелает.
И вот, Который плачет, своей детской наивностью так
уязвивший меня, всякий раз приводит на ум самые странные вещи
и самых забытых людей – хоть бы и казанского поэта Гену Капранова,
в свои сорок лет убитого на волжской рыбалке молнией в
сердце, и вновь, разве можно сочинить такое? И
Гена, разве сочинил, а не просто выдохнул свое самое совестное
признание, секретной печали которого я не умел понять тогда
–
«Дайте с вами поделюсь я этой малостью:
настоящая любовь приходит с жалостью»?
О, я давно перестал смущаться своими перемещениями по свету,
утрачивая в пути сторонний стыд перед несправедливой и совестливой
нуждою, что привязывает другого человека к месту крепче всяких
цепей! Годы идут – я преуспеваю в этом.
Это раньше, в девяностом году прошлого века, первая в жизни
зимняя земляника вдруг обретенного мною Франкфурта на Майне
не лезла в горло, зацветающие желтым пухом ивы Тюбингена над
ледяным прозрачноструйным Неккаром у башни Гёрдерлина позывали
к немедленному коленопреклоненному покаянью, и неистребимая
скудость Москвы отравляла вид на блаженный закатный океан
с прибрежных скал Сиднея; это раньше исходил я стыдом заемного
благополучия в розовых вишнях Лондона, и всякий влажный ветер
чужбины мучал и терзал меня, как незаслуженная благодать.
Это еще раньше, в первой юности, смущался я перед менее благополучными
моим товарищами тем, как милостива ко мне жизнь, совестясь
не мною созданного благоденствия родительского дома. Я придумывал
себе горести и, прости Господи, в удачливости своей занимал
у собственного далекого будущего исступленные терзания мирского
сиротства, страдания непонятого одиночества, горечь грядущего
трудного хлеба и тоскливое осязание осени, и все равно мучал
он меня, стыд очевидного благополучия. Дав ему волю, я едва
не соскользнул в кромешную тьму, нарочно изобретая для себя
все новые терзанья и надевая одну за другой подлинные вериги
совести, словно ища себе проклятья за то, что впустую растрачивал
дар простого человеческого счастья. Но я еще не умел делиться
счастьем и полагал, что делиться несчастием много естественнее
и честнее.
Что же он сделал со мной, стыд совестный и неразгаданный?
В какие дебри нераскаянного одиночества затолкал он меня,
так что и выбраться из них в первоначальный свет стоило половину
земной жизни, предназначенной, как оказалось, для неуязвимой
радости труда и посильной мудрости виноватого сострадания?
Он забился ныне, стыд этот, в густые светотени души и живет
там, прячась и щурясь на нечаянные лучи бескорыстного весеннего
света, невечерние эти лучи, ниспадающие сквозь облака и деревья
из мирских небес, раскроенных по живому, как и вся земля,
на национальные, государственные, языковые вотчины. Все мирское
по справедливости поделено ныне и во мне, и если и осталось,
чем делиться, так разве что вот этим самым никак не неумирающим,
едва укрощенным стыдом.
Ведь все прочее, как и прежде, занято в грядущем, – теперь
я знаю, сколь нечестно разделяться долгами.
Так вот и километрах в двадцати от Турина, на горе Сан Джорджио,
от скальных альпийских подножий которой далеко-далеко зеленела
в извивах реки По весенняя Пьемонтская долина, без особого
замешательства и смущения предавался я прежним умствованиям,
сопровождавшим и туринские мои занятия. Был среди них и званый
обед в средневековом, по самые зубцы багровых квадратных башен
заплетенном зазеленевшими плющами замке Пиоссаско: на открытой
шахматной террасе шевелились косматые тени кипарисов и пиний,
а также и серо-зеленых магнолий, на голых сучьях которых уже
порывались раскрыться сиреневые остроконечные бутоны, таящие
в сокровенности своей ослепительно белые, чуть мокрые, сияющие,
эфемерные цветы очередной непостижной весны.
Ни тебя, ни Мумзика не было рядом, когда мы поднялись к этому
замку пешком, рассеянной толпой внимая рассказу о происхождении
цитадели и угнездившегося в ней ресторана «Ai Nove Merli»
– «У девяти дроздов». Подробности этого повествования я, уже
сидя в ресторане, вычитал в роскошно изданном меню, к гербовой
обложке которого был по этому случаю приклеен прозрачной смолкой
продуманный букетик живых цветов. Пока разносили по круглым,
на восемь кувертов столам и раскладывали по серебряным приборам
долгий этот обед –
салат из куриной грудки с артишоками, аспарагусом и свежими
помидорами,
эскалоп из лососины в тесте с легким соусом из анчоусов,
равиоли в соусе из лесных грибов, посыпанные черными трюфелями,
запеченная телятина по-пьемонтски с гарниром из цветной капусты,
слегка подрумяненные оладьи со сладкой подливой на мускатном
вине,
кофе и выбор вин из подвалов замка, –
я успел обогатиться умозрительными познаниями о том, что сей
замок Пиоссаско впервые упоминается в 1090 году, когда незнамая
нами маркиза Аделаида из королевского Савойского дома уступила
его со всеми прилежащими владениями некоему благородному рыцарю
Мерло – ломбардского, как думают, происхождения. Вследствие
этой сделки в ходе Первого Крестового похода 1096-1099 годов
на знамени сего рыцаря уже красовался, говорят, герб с черным
дроздом на белом поле. Потомки Мерло, чья итальянская фамилия
по-русски означает просто-напросто птицу дрозд, в совокупности
своей притязали на замок и вели как борьбу с Савойским домом,
так и многовековую междоусобицу, которая завершилась лишь
в 1340 году, когда герб замка стал представлять собой, по
числу подписантов полюбовного родственного соглашения, уже
девять черных дроздов в двух накрест пересеченных серебряных
полосах на красном овальном поле. История графов Пиоссаско
тем не менее печально прервалась в 1933 году со смертью последней
в роду графини Габриэллы ди Ноне, и многажды перестроенный
замок ныне представляет собой собственность местной муниципальной
коммуны и туристическую достопримечательность с рестораном
и гостиницей.
Дойдя до признания замка туристской достопримечательностью,
я потерял к нему всякий интерес, и лишь беспредметная увязка
его происхождения с Первым Крестовым походом задела тогда
память. Отобедав и утратя время в светских беседах, я вышел
на обсаженную кипарисами и магнолиями террасу и снова увидел
громоздящиеся чуть обочь снежные вершины Альп и, много ближе,
распахнутые в небеса зеленые пространства Пьемонта с его виноградниками,
желтыми домами и возвышенными колокольнями-кампаниле.
Вольно же было этим кипарисам и магнолиям, и даже уверенно
зацветающим лозам альпийских виноградников твердо, всем непрекращающимся
ростом и свершением, знать побудительные причины и мотивы
собственных сейчас и здесь, словно за них и впрямь
все было издавна продумано, и оставалось им разве исправно
исполнить.
Но и это было не так.
Ведь и вертограды дичают без исторического человека, который,
вопреки ежедневным необходимым трудам и обиходам, никак не
может постичь, зачем живет и мучается, и самым страшным испытанием
бытия почитает ту минуту праздности, когда нечаянно задумается
о том, зачем все это? Впрочем, и на это есть приставленный
пастырь – он объяснит, а человек поверит, успокоится и продолжит
безмерно утруждаться ради насущного хлеба, и выйдя в начале
весны на свой виноградник, словно впервые увидит, что толстые,
многолетние, задеревеневшие плети его увязаны над почвой горизонтально
и вбок, так что очертаньями своими непременно напоминают распятие,
и чудное набуханье черных почек, слабый гул воскресающих соков
в древесной плоти лозы опять утешит и укрепит его для новых
терзаний.
Дул ветер, и воздух дрожал и расплывался в быстро остывающем
солнечном свете. Это был мой последний день в Пьемонте; нечаянный
праздник нечаянно и завершился, а что увозил я с собой, помимо
послевкусия званых обедов да излаженной в виде иконки фотографии
Туринского Образа, которую купил я для тебя у черно-белых
монашек в католической лавке на углу Виа Гарибальди и улицы
Двадцатого Сентября? Но, с другой стороны, что должен был
я увезти? Все было во мне в этот миг скитальческих прощаний,
– усталый восторг существованья и память новых зрелищ, но,
увы, не новое осязание все так же тревожащей воображение подлинной
истории.
Я уже знал, что бесполезно на стезе неназываемых человеческих
исканий вчитываться в толстые и сколь-угодно умные книги,
пытаясь согласовать образы, события и даты: они, едва взметенные
порывами скоропытливой любознательности, тут же и осаждаются
в душе недвижно, как архивная пыль незапамятных столетий.
Многожеланные эти познания, льстящие всякому разуму, не задевают
воспалившегося сердца, которое если и стремится к чему-то,
так это – ко всецелости осязаний мира: легко обретенные «что»,
«когда» и «как» нарочитой учености так же легко, если и не
вовсе бесследно исчезают в таковом сердечном пламени, возгоревшемся
только ради «почему».
И правда ли, что на вопрос «почему» природа не дает ответа?
Но зачем тогда предчувствие, предощущение, предвестие, приносимые
ветром весны, так быстро превращающемся в ветер осени? Зачем
предреченность и абсолютная истина твоего собственного заключительного
претворения в природу? Так, в неизреченности терпеливых ожиданий,
всякая безысходность ложна, потому что если не получается
достичь чего-то, всегда остается вариант стать
этим непостигаемым и утешиться, если утешение возможно, а
до того просто дышать, пока дышится, свежестью начинающихся
трав и листьев и обливными струями воздуха, которые одни,
иногда превращаясь в ветер, попирают всякие человеческие границы
и всегда умеют зазвать тебя за грань твоего собственного бытия.
Удивительная прозрачная тишина настаивалась тогда в Пьемонтской
долине, подобно запахам еще не рожденной травы. Видно было
далеко и ясно, и тем паче странным было это осязание прочного
мирского покоя, что не давало оно ответа на прямой вопрос,
зачем страждут люди в исканиях благодати, зачем прячется от
них истина в необъяснимых кружилах и круговоротах истории,
которая и сама теряется в догадках о побудительных причинах
своих, при всех буйных свершениях оставаясь ничем иным, как
всего лишь ожиданием окончательной свершенности, вопрошением
и мольбой, надеждой на совершенное объяснение мира – из Первых
уст.
О – приблизить смысл, слить воедино множественность человеческих
правд, каждая из которых похожа на птицу в мятущейся и вечно
меняющей свои объемные контуры стае, ту птицу, что, будучи
в клетке, тотчас и утрачивает единственное предназначение
своей пернатости – светлую летучесть! Стая мечется по ветру,
ниспадает и вздымается в воздушных потоках, разделяется и
тотчас сходится вновь, и хотя суть ее бездумных перемещений
остается загадкой, одно в ней бесспорно, – всецелость единства,
вне которой сама множественность полетов есть лишь идея, представление,
напряг воображения, обман зрения, очередная придумка жизни.
Но разве лишь откровенье приближает к смыслу, разве лишь откровенье
может отозваться на сердечный вопрос «почему», ведь ничей
отягченный познаньями разум уже и не ставит таких неумных
вопросов? И однако...
Почему может человек бросить свой вертоград на произвол стихий
– всего лишь ради идеи и собственного представления о единстве
против кого-то, тем паче именно тогда, когда идея устала
от ожиданий, а Единство совсем позабыто? Что заставляло рыцарей
замка Пиоссаско, как и сотни других сиятельных, голубых кровей
крестоносцев Ломбардии, Бургундии, Лангедока и прочих земель
податься незнамо куда, что за ветер сдувал земледельцев с
земли, мастеров выносил из цеха, а торговцев из лавок – что
заставляло бросать нажитое ради освобождения дальнего Гроба
Господня?
Что заставило потомков этих рыцарей и смердов с тем же неистовством
законной веры накинуться через полтораста лет уже не
на далеких неверных, но утопить в пенной крови дивную альбигойскую
культуру Лангедока и Прованса, культуру, которая дала Европе
трубадуров и менестрелей, идеалы просвещенного рыцарства,
культ Прекрасной Дамы, легенду о Святом Граале – ту проистекшую
от непосредственной близости к мусульманской Испании культуру,
которая на триста лет предвосхитила Европейское Возрождение?
Почему же люди так пристальны к своим различиям, и так бессмысленно
пренебрежительны к тому, что объединяет их? Или только я,
как случайный и потому не знающий светских приличий гость
в ребяческой наивности предчувствую, как изучение и подчеркивание
различий, на которых стояла и которыми держалась едва минувшая
эра, перевоплощается в эру взаимного познания, когда главным
будет радостное осознание родства, узнавание себя в другом,
естественное осязание общности Единства?
Никто из званых на обед гостей при всей своей учености не
мог бы ответить на пытливость сердца, потому что оно дотошней
пытливости разума. Я и не совался к ним с глупостями неуместного
любомудрия.
Отвечало – Молчание.
Насыщенный ожиданием воздух наставшей весны струился, тек,
переливался в закатном свете в сообщающихся сосудах вневременных
вселенских пространств, и в прозрачном просторе савойского
Пьемонта отзывались на зов неусыпного воображенья и заново
жили исторические миражи Ломбардии, Авиньона, Кордовы, Гранады,
Венеции, Рима, запредельного Сараево и заальпийского Прованса.
Происходящая жизнь и все еще действующая история сливались
воедино и оставались неразличимы, пока существование продолжало
происходить и свершаться, – отрадные отроги Альп, мускулистых
гор, обнимающих Италию с севера и запада и заодно с Апеннинами
оставляющих ее сперва наедине с Адриатическим морем и вечно
мятущимися Балканами, а потом сопрягающие с Провансом по извилистым
ущельям и лазурному побережью Средиземного моря, манили чистотою
поднебесных снежных кряжей, одно зрелище которых отбивало
всякую охоту к скрупулезному архивному начетничеству, лишь
замутняющему разум, не по своей воле взыскующий истины.
Ведь лишь после того, как откровение явится сердцу, ищет оно
примирить узнанное с разумом, и всякое знание есть лишь поверка
откровения, но не его предтеча.
Так Альпы – не преграда, но сопряжение.
Так время – не разделение, но целокупленье событий.
Так молчание – вяще всех побуждений речи.
Если что и говорили своим сияющим молчанием эти альпийские
вершины, то лишь одно, неизреченно-подлинное и посему весьма
простое: мы здесь были всегда, говорили они, а поэтому все,
что связано с нами и обнимающим нас единым воздухом человечества,
тоже происходит всегда, здесь и сейчас, как человеческая душа.
Все, что в остатке, – лишь случайность, шанс, игра воображения
и лукавство исторической науки, тщательные изыски честных
очкариков и совокупная душность академического беспристрастия,
обретшего все, но в хождении по своим геометрически правильным
корридорам ненароком утратившей ощущенье свидетельского
присутствия.
И вот, на арочной террасе замка Пиоссаско, на скальном уступе
сияющей поднебесными снегами горы Сан Джоржио, я просто дышал
пока дышится, и не мог надышаться, и молча говорил себе, исчезающему
из собственных осязаний: что же происходит, когда, казалось
бы, ничто не свершается? чем одно мгновенье зримой обыденности
отличается от другого? какая тайна, загадка, какая ненаучная
мистика разлита в заманчивой и неподвижной, как туристическая
открытка, Пьемонтской долине, в снежных кряжах, горных расщелинах,
сокрытых пещерах, скальных ущельях столь изученных туристами
и буквоедами Альп?
Или для того, чтобы человек осознал происходящее, действительно
нужны ему только могучие и необъяснимые перемещения людских
масс, великие катастрофы и крушения, гремящие кони Апокалипсиса,
грядущие со снежных ледников в виноградную тишину долины?
Или нужно человеку, чтобы однажды ткнули его носом в невероятное
чудо существования и тотчас же пригрозили отнять это чудо;
или потребны ему иные чудеса и невозможности, чтобы внял он
происходящему и понял, что ничто, даже и среди глубокого покоя,
не происходит напрасно?
Пусть не верит он во внезапную конницу Апокалипсиса, в громах
и молниях сходящую с заснеженных альпийских кряжей, но если
бы явились ему – и не весной, а изобильною осенью – не только
многие кони, но и чудовищные боевые слоны, с гневным ревом
нисходящие с горы Сан Джорджио, чтобы растоптать и рассеять
зрелые винограды беспечного Пьемонта, – что же, и тогда бы
не уверовал он в то, что в мире содержится нечто большее,
чем его собственная скука?
Но ведь и это в незримой подлинности и неостановимости жизни
происходит воочью, и снова – казнящим откровением с
неба – поражают разум и зренье древнеримских виноградарей
карфагенские войска Ганнибала, где-то здесь и перешедшего
Альпы со своими боевыми элефантами; ведь и это было в Пьемонте,
где в том октябре 218 года до Рождества Христова случалось
среди белого дня нечто вовсе, абсолютно, еретически невозможное...
Слоны Карфагена, укрощенные где-то в Марокко или Тунисе, разве
могли они переплыть Гибралтар, прошагать всю Испанию, пересечь
по приморским ущельям гряду Пиренеев, форсировать буйную,
синюю, неукротимую Рону, с боями взойти по диким камням на
снежный венец альпийской Монте Женевры – почти два километра
над уровнем моря – и спуститься в долину Пьемонта не только
живыми, но и готовыми к бою? Настолько готовыми, что ни до,
ни после никто не нанес Риму такого поражения, как Ганнибал
в ту Вторую Пуническую войну.
Но свершилось и это. С той только разницей, – ибо разница
есть, – что тогда никто не воспринял заоблачное нисхожденье
слонов как начальное светопреставленье: никто в античном Пьемонте
еще не знал и не догадывался, что окружающему миру может наступить
такой необычный конец. Еще не рождался пророк Даниил, еще
не рождался Мессия Иисус – тот самый, который в еретическом
евангелии от Фомы так потрясающе отвечает на вопросы апостолов:
«Скажи нам, когда же наступит Конец?»
«Да разве же вы уже отыскали Начало, что ныне ищете Конца?
Видите ли, Конец – там, где Начало.»
И другое сказал он:
Если спросят вас, «что в вас от Отца?», отвечайте: «Движение
и покой».
Но эти слова будут забыты на две тысячи лет, как будет забыто
и многое иное из первых веков христианства. Потому что не
только слоны и войска Ганнибала перешли через Альпы в Пьемонт,
– перешли на пятьсот лет позднее британские легионы императора
Константина, а вместе с ними – и идея забвения прошлого, новая
правда империи, пришедшая с Запада и вскоре вступившая в схватку
с мучительными правдами Востока. По легенде, именно по пути
из Британии на Рим, в провансальском Арле на Роне явилось
Константину знаменье Креста и глас, сказавший «Сим победиши!»
Здесь, в момент императорского откровенья, зачалось католичество;
отсюда, сплетясь с идеей государственного единства, оно дотянулось
до нового Рима на брегах золотого Босфора, а затем заплело
всю империю багряными, пышными, единообразными лозами государственного
канона. o:
Но и вот парадокс: именно там, где христианство стало державной
идеей, впоследствии произрастали и путешествовали через сопряжение
Альп все главные ереси, веками сотрясавшие Рим. И правда,
люди мусульманского Востока, что по-арабски звучит как «шарыкин»,
те самые сарацины рыцарских легенд, не представляли для католического
Рима и малой части прельстительной религиозной угрозы, какой
расцветали тогда же все пограничные с испанскими маврами альбигойские
страны – Арагон, Наварра, Тулуза, Прованс, Лангедок.
Оказалось, что правды Востока могут придти с Запада, и необязательно
вдоль северного побережья виноградного и масличного Средиземноморья,
ибо море никогда не разделяет, но напротив – объединяет свои
берега. Так – не только через Балканы, но и через Африку и
Испанию – веками переходили к подножиям Альп и Пиренеев могучие
учения первохристианских гностиков, постоянно меняя свои имена
и очертания, называясь то манихейством, то арианством, то
богумильством, то альбигойской ересью. Эти учения обрастали
собственной философией и обрядностью, но движителем их вне
зависимости от времени и страны представало то, главное и
первородное стремление лично познать суть и природу Бога.
Этим гностикам, «познавателям», было извечно тесно в назначенных
канонических пределах веры, они миновали всякую опосредованность,
даже если это кончалось для них в этой жизни костром и иным
невыразимым по жестокости мученичеством.
Можно легко запутаться в существе этих первоучений, тем более,
что до нас дошли только отрывки апокрифических писаний, чудом
избежавшие огня инквизиции и в некоторой полноте явленные
миру лишь в 1945 году после обнаружения в Египте, близ города
Наг Хаммади, клада древнейших рукописей. Их обнаружил не рыцарь,
не монах и не пытливый ученый, а простой египетский феллах,
неученый крестьянин. Он всего лишь окапывал в поле валун,
когда мотыга его чиркнула по огромному красноглиняному кувшину,
в котором, к его разочарованию, нашлись не монеты или драгоценности,
а сокровища, которых он оценить не мог и не умел. Это были
древнейшие папирусы с античными текстами апокрифических писаний.
Ныне полагают, что они были спрятаны в 390 году монахами близлежавшего
монастыря Святого Пахомия и тем самым схоронены от безжалостного
уничтожения, которому подверглись все неканонические христианские
тексты вслед Никейскому собору 324 года, впервые под опекой
и надзором императора Константина канонизировавшему идею троичности
Бога.
Вскоре после того, как эти тринадцать папирусов попали наконец
в руки исследователей, обнаружилось, что начертанные на них
пятьдесят два священных текста – не что иное, как считавшиеся
навсегда пропавшими «Гностические евангелия», последнее очевидное
свидетельство вероучения, с которым так нещадно и державно
боролась ортодоксальная церковь.
Свидетельство – такое же, как кумранские рукописи и туринская
плащаница Иисуса.
Так не есть ли свидетельство – ключевое слово духовных терзаний?
Можно честно свидетельствовать церкви и собственной исторической
культуре, опосредованно связующей тебя с истоком мира, но
можно и напрямую свидетельствовать Богу, и здесь уже не может
быть даже и нечаянного лжесвидетельства.
Как давно обнаружили это люди! Уже из первых христиан выделялись
люди, которые заявляли не только о вере в Христа и его Благовестие,
но и о том, что им дано вне общего Причастия и свое особенное
«свидетельское откровение», прямое осязание и знание Божественного,
гносис.
Именно это «личное осязание истины» отличало для них подлинного
верующего от верующей толпы. Они верили, что такое прямое,
личное и абсолютное в своем единстве знание подлинных правд
существования доступно для обыкновенных людей. Более того,
что обретение такого знания в свидетельском присутствии должно
и обязано составлять наиглавнейшее достижение человеческой
жизни.
Господи, да не это ли суть и ислама!? Случайно ли, что земли,
где более всего и коренилось гностическое мироощущение – Ближний
восток, Иран, Афганистан, Египет и страны африканского христианства
– так естественно перешли к мироощущению Ислама, в котором
нашлись вдруг прямые ответы на все вековые вопросы и умственные
терзания гностицизма? Такие ответы, которые естественно соединили
воедино разорванную было ткань цивилизационной наследственности
и дали такой колоссальный толчок человеческому разуму, вдруг
увидевшему мир, где Аристотель и Платон, Моисей и Иисус стали
красноречивыми современниками всех жителей начального Омейядского
Халифата, не говоря уже о позднейших величайших гениях мусульманского
ренессанса испанского времени?
Так не есть ли гностицизм – духовный, исторический мост из
христианства в ислам, не есть ли это та незримая связь эволюции
человеческого духа, той ведущей во всеобщее Единство эволюции,
ради которой только и существует Вера? И не об истинности
существующих ныне религий эта речь. Во второй половине двадцатого
века и года не проходило, чтобы не появлялся на свет новый
труд на тему историчности Христа и, как следствие, духовной
истинности самого христианства. Большинство этих книг, однако,
неизлечимо больны главными недугами века – сенсационностью,
пседоисторичностью и желанием сотрясти основы.
Но – Бог помилуй сотрясать основы, ибо как раз основы-то ни
в чем не виноваты. Что общего имеют скрепленные святою ложью
мифы с действительными основами веры? Этот риторический вопрос
с одинаковой силой приложим ко всем мировым религиям, в том
числе к сегодняшнему исламу. Во все времена находилось довольно
желающих уравнять веру с догмой, но подлинность жизни рано
или поздно растворяет всякую догму и претворяет ее в струи
свежего ветра, веющего предвестием истины.
Для каждого
народа установлен срок,
и когда придет срок их,
не смогут они отстать ни на минуту,
и не смогут они опередить срок свой.
(7:35)
Чем свежее ветер, дующий в
лицо, тем вернее слезятся глаза, привыкающие к новому зрелищу.
Помнишь ведь и ты тот ветер зеленокаменных холмов Андалусии,
на вершинах которых стоят с мусульманских времен белые поселения
– те самые, которые вокруг Кордовы зовутся альпухарами? Гаснут
дальней альпухары золотистые края... – как увидел это
Пушкин в подлинной, незримой реальности жизни?
А мы – счастливее Пушкина? Мы, чьи лица овевал не только неистовый
мистраль Авиньона, но и тихий утешный ветер, струящийся с
холмов собственным прозрачным струеньем по-над суглинистыми
водами Гвадалквивира и, завихряясь в тесных улочках еврейского
и мусульманского кварталов исторической Кордовы, залетающий
мимо неподвижных кипарисов вечности в просторный двор великой
Кордовской мечети и шелестящий там живой листвой апельсиновых
и лимонных деревьев...
Мы бродили с тобой по древним кварталам города, в котором
некогда зародилось, но и погибло единство человечества; шли
мимо белостенных арабских и иудейских строений, завитых лозами
винограда, плюща и иных цветущих древесных плетей, проходили
под арками в старинные дворы в прохладных изразцах и цветочных
горшках вокруг низких округлых фонтанов; заглядывали в ремесленные
лавки, в одной из которых достался тебе священный, подобный
цветочной завязи серебряный браслет традиционной иудейской
работы со светящимся фиолетово-опаловым камнем... Мы шли вдоль
восьмисотлетней городской стены, возле которой стоят теперь
памятники Маймониду и Аверроэсу, гениям утраченной цивилизации,
подобной которой не было и нет на земле.
С восьмого по десятый век мусульманская Кордова была величайшим
и самым большим городом Европы, и не дворцы, даже не освещенные
фонарями опрятные улицы были ее славой, а устроенная гражданская
жизнь, основанная на главном из прав любого человека – свободе
совести, о которой британский ученый Мухаммад Мармадьюк Пиктхолл
в 1930 году писал:
«В глазах истории религиозная терпимость является высшим свидетельством
культуры народа. Западные народы стали терпимыми не прежде,
чем отказались от закона своей религии, а народы ислама перестали
быть терпимыми только тогда, когда отказались от закона своей.
Прежде пришествия ислама, свобода совести никогда не проповедовалась
в качестве важнейшей части веры в Бога.
Если бы средневековая Европа столько знала об исламе, сколько
мусульмане всегда знали о христианстве, эти безумные, авантюристические,
иногда рыцарственные и героические, но совершенно фанатичные
войны, которые известны под именем Крестовых походов, не имели
бы места в истории, поскольку движущей силой их было абсолютное
заблуждение.
Неисчислимые монастыри, общее благосостояние которых, как
сосчитано, доходило до ста миллионов фунтов стерлингов, пользовались
благодатью Хартии свободы, посланной Святым пророком Мухаммадом
монахам Синая и были религиозно почитаемы мусульманами. Самые
различные секты и школы христианства были представлены в Совете
халифата своими патриархами, а на провинциальном и областном
уровне своими епископами, тогда как на уровне сельских собраний
своими священниками, слово которых принималось мусульманами
без обсуждения, когда дело касалось внутренних вопросов христианских
общин.
Терпимость в исламе не имела и не имеет параллелей в истории;
различия по классам, расам и цветам кожи не существовали в
исламе совершенно.
В Испании под властью Умайядов и в Багдаде при аббасидских
халифах христиане и иудеи наравне с мусульманами принимались
в школы и университеты; мало этого, они жили в учебных общежитиях
за государственный счет.
Мусульманам прошлого достаточно было коранического увещевания,
что в вере нет принуждения. Люди сами избирают свои пути –
в исламе или вне ислама – и достаточным наказанием для них
служит то, что, избрав неверный путь, они удаляются все дальше
и дальше от света истины.
Но мусульмане настоящего часто забывают, что тот же самый
закон относится и к свободе убеждений среди самих мусульман,
поскольку законы Аллаха всеобщи; и нетерпимость одних мусульман
к верованиям и убеждениям других – достаточное свидетельство
того, что они сами забыли величественность и милосердие того
образа мира, который дан людям в Коране».
«В вере не должно быть принуждения. Истинно, ясно стало
ныне различие между добром и злом; итак, тот, кто оказывается
следовать за грешниками и верит в Аллаха, истинно, держит
он в руке крепкую рукоять, которая не сломится вовеки. И Аллах
– Всеслышащий, Всевидящий.» (2:257)
И правда: Святой пророк ислама уступал собственную мечеть,
когда христианской делегации из Сирии настало время помолиться.
При вступлении в Иерусалим, второй праведный халиф ислама
Омар, который совершил мусульманскую молитву рядом со всеми
святыми местами христианства, отказался совершить молитву
внутри церкви Гроба Господня, говоря, что какие-нибудь невежественные
мусульмане будущего потребуют этот храм для себя на том основании,
что здесь молился праведный халиф ислама. И он совершил намаз
у входа в храм.
С тех пор церковь Гроба Господня навсегда осталась христианским
храмом. Единственное, что сделали мусульмане в отношении христианской
свободы совести, так это позаботились о том, чтобы любая секта
христиан имела возможность молиться в этом храме, и не одна
из них не установила своей монополии на Гроб Господень. То
же самое было сделано для церкви Рождества в Вифлееме и для
других храмов, имеющих особую святость для всех христиан.
Когда крестоносцы взяли Иерусалим и учинили в городе страшную
резню, они предали огню и мечу и мусульман, и христиан восточных
толков без всякого разбора, и те из них, которые не ушли вслед
за отступавшей мусульманской армией, превратились в религиозных
отщепенцев, в еретиков, и были лишены всех прав, которые дал
им ислам.
То же самое повторилось и в Испании, где для истребления последних
духовных следов этой величайшей в истории цивилизации зародилась
и пошла свирепствовать по всей Европе инквизиция, когда с
взятием Гранады была окончательно и беспамятно уничтожена
вместе с людьми единая мусульманская, христианская и иудейская
культура, давшая немытой тогда Европе основополагающие идеи
античной и исламской философии, математики, географии, химии,
медицины, ботаники, гигиены, самой науки как рода деятельности,
гражданского градостроительства, мореплавания; сами понятия
книжного магазина, библиотеки, больницы и университета, но
главное – заповедь уважения к чужим верованиям и свободе совести,
о которой вспомнил и я, когда, вытирая нечаянно вызванные
андалусским ветром слезы, вошел с тобою в великую Кордовскую
мечеть и счастливо утратил себя в ее дивном просторе –
среди подобных цветущим красно-белым деревьям столпов и арок,
пряденых узорами потолков и золотых мерцающих росписей михраба,
в бесконечности ее внутреннего мира, во всем подобного внешнему,
если человек и во внешнем мире находит покой и счастье в точном
осознании своего места на земле по отношению к Единству Бога.
В Кордовской мечети как туристической достопримечательности
запрещают молиться, и я сотворил свою молитву тайно, словно
совершал наказуемый властями поступок. Но я не сетовал – нужны
ли сетованья по частным поводам реальности?
Находясь в архитектурном пространстве, самой сутью которого
было растворенные в воздухе единство и равновесность, я твердо
помнил коранический девиз испанской династии Насридов, вплетенный
в тончайшие каменные узоры словно бы сталактитовых ниш и ажурных,
сквозных дворцовых стен и повторяемый журчанием вод в бесконечно
происходящих и продолжающихся исламских садах неувядаемых
в моей плачущей душе Гранады, Кордовы и Севильи, –
тот девиз, который повторил эмир Гранады Абу Абдалла, сдавая
город христианнейшему королю Фердинанду V и королеве Изабелле
Католической в обмен на обещание, что мусульмане Гранады навсегда
сохранят свою веру, обычаи и собственность:
«Нет Победителя, кроме Аллаха».
Очень скоро после завоевания Гранады никаких следов живого
присутствия мусульман и евреев не осталось во всей Испании,
казненные или высланные из страны, они оставили по себе только
память о сияющем прошлом и гениальную архитектуру, которая
и сегодня привлекает туристов со всего мира. Инквизиция
уничтожила людей, но не сумела уничтожить свидетельства, в
которых всякий ищущий взгляд и сегодня провидит провозвестие
грядущего величия Единого Божьего мира.
В Кордове, уже в 1523 году, доминиканцы пытались покончить
даже с архитектурным наследием мусульманской культуры. Испросив
разрешения у тогдашнего короля на строительство храма в центре
великого города, они на деле разрушили центральную часть уникальной
Кордовской мечети и встроили в нее католический собор в стиле
барокко, который и теперь находится внутри мечети, возвышаясь
над нею своими куполами и нефами и поражая сердце пустой и
такой привычной эклетикой насилия над формой ради идеологического
содержанья.
Рассказывают, что когда король Карлос Пятый увидел, что рьяные
строители сделали с жемчужиной андалусской архитектуры – Кордовской
мечетью, он в отчаянии схватился за голову и воскликнул: «Господи!
Вы разрушили нечто не имеющее сравнения в мире ради того,
что могли запросто построить в любом другом месте!»
И не будем больше сокрушаться о прошлом, когда оно даже католическому
королю так жестоко и непоправимо уязвило сердце.
О другом думаю я, уже и завершая эти долгие, но еще не отправленные
никуда письма – об образе мира как образе церкви внутри гармонии
и равновесия исламского храма, в великой простоте своей пережившего
века гонений и потому содержащего в сопряжении своих разделенных
лишь воздушными границами пространств завязь единого для всех
нас будущего, потому что иного быть как бы уже и не может.
И теперь, по мере сил глубоко заглянув в зерцало собственного
молчания, я начинаю догадываться об ответе на вопрос, разлитый
в сих печальных и в печали этой радостных письменах и словосочетаниях,
в которых, о Господи, не судил ли Ты хоть хоть той честной
и зеркальной подлинности, в которой могут узнать себя знакомые
и незнакомые мне бессмертные люди?
Если всякое жизненное событье и даже приближение его наяву
– в слезах или в последней решимости сердца – суть лишь малые
частности вселенского армагеддона каждой усердствующей на
земле и в небесах жизни, то разве имеют они собственное значенье
помимо всеобщей, незапечатленной, несочиненной, незримой и
единственно подлинной этой битвы, свершающейся в честном молчании
любви и грядущих покаянных подвигах взаимного постиженья друг
друга?
Ведь все истинное, как оказалось, действительно происходит,
когда кажется, что не происходит ничего, –
эта извечная битва любви против многоликого лицемерия и разврата,
эта глубинная, сокровенная и потрясающе бесконечная драма
людей, ради Тебя взыскующих истины и в отчаяньи отбивающихся
от правдоподобнейшей лжи!
И когда ничего не случается в зримой реальности, в главной,
незримой подлинности мира не свершается ли эта постоянная
во времени и всевозможных пространствах драма поиска Единства,
в которой нет прошлого и нет сочиненной и извращенной во благо
истории, но длится и длится, и победительно происходит один-единственный
и бесконечный Судный день, и все честное, великое и неслучайное
происходит здесь и сейчас, уже изначально содержа в себе все
смерти и все бессмертия будущего и Молчанье Твое – вяще любого
ответа?
Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного.
Когда придет помощь Аллаха и победа,
и увидишь ты,
как люди огромными массами принимают веру Аллаха,
превозноси ты славу Владыке твоему, хвалою Его,
и ищи прощения у Него.
Истинно, Он есть неоднократно возвращающий с милостью.
(110:1-4)
СЕКРЕТНЫЙ
ЛАНДЫШ
Она его не понимала.
И это была трагедия.
Не то, чтобы она считала его каким-то там обыкновенным, хотя
и это было бы для него нестерпимо. Она, как мнилось ему, полагала
его совсем никаким, то есть, по сути, совсем даже и несуществующим.
Но ведь он же существовал! Ярким, хотя, по правде сказать,
и единственным доказательством этого факта была очевидная
любовь к нему родителей и, местами, прочей родни, и потом,
он же и сам чувствовал, что существует. Он вообще-то всегда
чересчур много думал и чувствовал, и от этого влюбчив
был до чрезвычайности, но ведь от ощущения до печального понимания
пролегает обыкновенно целая жизнь, а жизнь, говорили ему,
была вся впереди, поэтому чего было терзаться и расстраиваться?
Но он, бедный, жутко расстраивался, и все норовил улизнуть
из печальных обыкновенностей своей действительности в чудные
грезы, в которых тогда яснее всего проявлялись мечты о южных
морях и мореплаваниях, почерпнутые то ли из Джека Лондона,
то ли из «Одиссеи капитана Блада» – нынче уже и не разобраться.
И то, много позднее своих двенадцати лет, когда довелось ему
однажды посидеть, как в натуральном раю, на белом перламутровом
песке в тени развесистой пальмы на берегу иссиня-зеленого
Карибского моря и сквозь полусжатые веки поглядеть на то,
как оно, флибустьерское море, лукаво искрится и приливно журчит
между черными островками отживших свое коралловых рифов, нечаянно
пришел и ему срок понять, что никакой жизни впереди
не бывает, а бывает она только в настоящем, и молодец тот,
кто умеет ощутить ее именно тогда, когда она дается в руки.
Там и тогда, окончательно отчаясь осознать себя как данность
воплощенной детской мечты, и догадался он, что настоящее,
если и было когда-то, то происходило как раз в тех-то самых
ребяческих расстройствах и терзаниях, когда, кроме
родных, никто во всем белом свете не отмечал его наличия в
мире, а паче всего та, которую любил он безответно и без памяти,
что было так зрело, болезненно и так изумительно прекрасно,
что вся, как говорится, дальнейшая судьба его руководима стала
неугасимым осязаньем этой сокровенной непоправимости.
После этого нечаянного, но пребывшего с ним откровения и давешнее
прикосновение босых ступней к такому холодному в тени песку,
и необязательное зрелище переливающегося искрами моря, и осязание
морского бриза обожженными на солнце плечами, все это вкупе
с сиюминутным ночным перемещением по провинциальному английскому
шоссе А3 – с работы домой – показалось ему бесконечно
случайным, не дающимся никакому осознанию, безотчетным, беспричинным
и таким при всем том безнадежно реальным, что никак не вплеталась
эта совокупность ощущений в ту ажурную паутину иллюзий, каковою
всю жизнь пытался он уловить настоящее, чтобы наконец взять
его, как живую стрекозу, в руки, обстоятельно рассмотреть
во всех секретных подробностях и, досконально поняв, с легким
сердцем отпустить в уготованное всему, что летает, синее-синее
небо.
Теперь уже он и сам себя не вовсе понимал. Сбывшиеся мечты
вроде двухнедельного отпуска на пиратском Барбадосе или работы
заграницей, ставши привычностью жизни, уже не умели подсластить
действительности, в каковой, покорный ежедневной рутине, поздним
и мокрым январским вечером возвращался он из старинного английского
городка Гилдфорд, где располагалась лаборатория биопластмасс
нанявшей его японской фирмы, в городок Петерсфилд, где жил
и перемогался он ныне.
Перемогался? Он бы, может, и выбрал другое слово, но в последние
месяцы он и наедине с собой как-то не по делу прибеднялся,
и долгое сложное беспокойство никак не оставляло его. Вопрос
с продлением контракта все затягивался, да и продление намечалось
всего-то еще только на год, так что долгого будущего в существующих
обстоятельствах он представить себе не мог, и от этого маялся
противной неопределенностью и нерешительностью, уже чуть ли
не воочию предвидя в случае потери работы множество возни
с купленными в рассрочку домом и машиной, и прочим нажитым
уже в Англии барахлом, а в конце этой возни светило одно –
последний в жизни ярлык неудачника и понурое возвращение к
разбитому корыту в Россию.
Стараясь выслужить хоть сколь-нибудь долгосрочный контракт,
он задерживался в лаборатории допоздна, однако начальство,
видя в его талантливом бесправии прямую для себя выгоду, не
давало никаких обещаний и ничем не поощряло его трудов, хотя
и платило, по российским, конечно, меркам, сверх крыши. Работал
он быстро и споро, за троих, если учесть, какие на его взгляд
простенькие ставились на день задачи, что определенно не нравилось
коллегам, которые промеж собой прозвали его, Рашида, – императивом
“Rush it!”, то есть, «давай вали, бери наскоком!» Имя подвело
еще и тем, что слишком звучало в нем слово Russia со всеми
невеселыми ассоциациями, но уж тут что поделаешь.
Между тем петерсфилдский дом, даром что в семидесяти милях
от баснословно начетистой столичной недвижимости, высасывал
заработки, как хороший пылесос, а всему миру известная британская
дороговизна не оставляла надежд скопить хоть малость на черный
день. Словом, он работал только на то, чтобы жить в Англии,
как говорится, from hand to mouth, а в перспективе, пусть
и не шибко близкой, даже в случае маловероятного постоянного
контракта маячила старость с крошечной по здешним ценам и
накладным расходам пенсией, которой все равно не хватило бы
на то, чтобы продолжать выплаты за дом, не говоря уж о том,
чтобы наслаждаться заслуженным покоем. Поэтому собственный,
а на деле принадлежащий банку дом, где ждала его жена, готовая
к его приходу затолкать в микроволновую печь какую-нибудь
очередную замороженную лазанью магазинной готовки –
она в упор отказывалась готовить сама, пока не перепробует
всех этих заморских харчей в затянутой заиндевевшим целлофаном
фольговой посуде, а у него от одного взгляда на эти ледяные
яства перехватывало спазмом желудок, –
словом, и дом, и хозяйство, если и умиротворяли его, то нечасто,
в дни перечисленья на его текущий, как вода сквозь пальцы,
банковский счет помесячного жалованья и премиальных – к Рождеству.
Но и об этом забыл бы он в профессиональных трудах и осознании
своей удачливости по сравнению с оставшимися в полуживом московском
НИИ друзьями, если бы не это скверное одиночество, не улыбчивое
безразличие коллег ко всему, что хоть краем выходило за пределы
лаборатории. Весьма любознательные до самомалейших деталей
его действительно интересной научной работы, они не проявляли
ни малейшего сочувствия к нему чужестранцу, учтиво отказываясь
от приглашений и его никуда с собой не приглашая – даже в
местный паб на пинту пива по случаю окончания рабочей недели.
Были на его памяти научные работники из России, которые едва
не рехнулись от вынужденного и непривычного одиночества этих
академических кругов отчуждения, а один от полного отсутствия
всякой привычной душевности так и вправду чокнулся, заболел
манией преследования. Однако при том, что в России, не говоря
уж о печальной зарплате и двухкомнатной хрущевке, его научная
тематика давно за безденежьем накрылась медным тазом, он вопреки
превратностям своего окружения ежедневно утешался по-настоящему
любимой работой, а коллег называл про себя биороботами, с
которыми за дверьми лаборатории ему при всем желании уже не
найти было ничего общего.
Тем удивительнее было нынче слушать из автомобильного приемника,
навечно настроенного на волну классической музыки «Classic
FM», как бы совсем настоящий концерт по заявкам: британские
мужья просили исполнить что-то для жен, британские любимые
– для возлюбленных, а британские дети – для родителей, что
неопровержимо доказывало, что за гранью его собственного отчуждения
существовала и здесь своя душевная жизнь, в которой неявно
присутствовали и чувства, и взаимная любовь, и дружеское участие.
Особенно поразила его одна просьба, о которой с чрезвычайным
тактом и участием поведал диктор, потому как свидетельствовала
она, как сказал он, о секретной любви одного банковского клерка
к своей сослуживице, которая не только не знала о том, что
ее любят, но и не должна была узнать. Это уже была не заявка,
а целая повесть в трех предложениях, завершившаяся бурной
третьей частью бетховенской «Лунной сонаты», и светлая трагичность
этой просьбы безнадежно влюбленного человека растревожила,
надо полагать, не его одного, устало сидящего за рулем в ночной,
раздвигаемой по обе стороны от дороги пристальным светом фар
зимней, но вовсе бесснежной и мокро-туманистой мгле. Но если
английские водители, тоже спешащие по домам, подумали о чем-то
своем, английском, то его мысли ушли вовсе в сторону, и он
отчего-то не захотел их подправить, как поправлял курс машины
одним лишь механическим движеньем чуткого руля.
Итак, она его не понимала.
А чего там было понимать, разумно спросится, но ведь у него,
как у всего живого, уже и тогда была своя история, сложившаяся
из множества первичных соприкосновений с реальностью. Кто
с ней разберется, с первой любовью, отчего она происходит,
но, быть может, именно эта неповторимая личностная история,
эта переполняющая разум и сердце копилка сопряженных друг
с другом открытий, приближений истины, томительных ожиданий,
честных восторгов и правдивых осязаний и требовала от него,
чтобы он поделился с кем-то своим богатством? И потом, разве
любовь не в том и состоит, чтобы делиться подлинностями жизни,
которые, светясь и мерцая в памяти, тем самым пособляют жить
и в любой тьме возвращают смысл и радость существования, но,
только тебе во всей сокровенности и принадлежа, никем не узрятся,
если ты сам бесстрашно ими не поделишься?
А вообще-то всякая мелкая данность, даже и спрятанная от мира,
влечет за собой множественные жизненные последствия, – как
тот потаенный ландыш, который ведь был, рос и цвел, но так
и остался ненайденным в густой, тенистой, в белых звездочках
и подвижных солнечных зайчиках майской траве изрезанного глубокими
узкими оврагами и поросшего матерыми деревьями городского
парка, куда, зима, весна или осень, их выводили на уроки физкультуры...
Господи, как мечталось ему найти этот ландыш и тем выделиться
из толпы одноклассников, чтобы и она вдруг увидела его с этим
стебельком, унизанным крупными, снежно-свежими, душистыми
колокольчиками; как мечталось осмелиться и подарить ей этот
единственный ландыш в широких глянцевитых листьях, но этого
не случилось, и не нашел он этого ландыша, Господи, а другие
ведь находили. Но другие и прыгали дальше, и бегали быстрее,
и ростом были выше, и лучше понимали жизнь, и блистали остроумьем,
вовремя находя слова там, где они казались и были к месту,
а он, круглоголовый и малорослый, молчал, только воображая
в уме все необходимые разговоры и события, только выстраивая
их в бесконечных фантазиях, почерпнутых из книжек и исторических
кинофильмов.
Почему же решил он, что она должна его понимать? Потому ли
только, что и она, белобрысая, мгновенно и густо пунцовела
от всяких смущений и замешательств, или потому, что в школьном
сочинении на свободную тему взяла и написала про игру в классики
– да так, что на годы вперед запомнил он весенний, расчерченный
меловыми клетками асфальт; сверкающие ручейки, журча бегущие
из-под провалившихся, обугленных солнцем сугробов; небо над
городом, прозрачное, голубое, в пушистых облаках, и то предельное
откровение, что в классики играют только по первой весне,
когда городские деревья, тополя и клены, еще не распускались
и тянутся голыми прутьями в прозрачный струящийся воздух,
и городские садовники, стоя на специальных башенках, водруженных
на грузовые машины, ножницами-секачами срезают лишние ветки
вместе с набухшими почками, и они потом ворохами валяются
на тротуаре, и можно, пока их не прибрали и не увезли, выбрать
себе прутик по душе, чтобы идти из школы и, выбивая звонкую
дробь, везти этим прутиком по черным, в чугунных завитушках,
копейным оградам, которых так много было в том старинном городе
всеобщего детства.
О, он много уступал ей и в наблюдательности, да и удивительно
ли, если жизнь его протекала в молчаливом воображении, часто
вызванном самыми обиходными вещами, а чаще – книжными картинками
и даже почтовыми открытками, которые он, помнится, стал покупать
в ближнем к школе газетном киоске по три копейки, экономя
от двадцати, что ли, копеек на школьный завтрак.
Этот киоск стоял на углу маленького сквера, в центре которого
стоял бюст великого писателя, и удивительные сказочные рисунки
на открытках, их краски, линии и очертания, искусно изображающие
то, чего не существует в действительности, щемили и волновали
его небольшую душу, как будто за ними, за этими картинками
и образами, стояло и содержалось нечто гораздо большее, нечто
всеохватное, прекрасное и томящее, способное наполнить будничную
– в школу, из школы, – жизнь совершенно необыкновенным
и ликующим содержанием.
Именно всякая необыкновенность томила его, такого во всем
обыкновенного, запросто отвергнутого и потому мучительно истязаемого
ребяческим честолюбием, от которого предстояло ему впоследствии
натерпеться и не такого горя.
Открытки с иллюстрациями из сказок потом наскучили ему, но
изображения далеких гор, морей и саванн еще долго заменяли
ему вид из окна, и не случайно увлекся он собиранием почтовых
марок, в перфорированных по краям прямоугольничках которых
вдруг начинал сиять и светиться голубым свечением тропический
лес, а на переднем плане замирал живее живого в голубом этом
мареве огнисто-желтый леопард, и эта крошечная картинка, став
целым событием, не давала ему заснуть и все стояла перед глазами,
заставляя еще сильнее биться вечно влюбленное сердце.
Но то – леопард, а вот почему тревожили его воображение тщательно
выписанные заросли туманно-зеленого бамбука и прочих искусно
изображенных кустов и деревьев из цветной книжки про китайских,
а может, и корейских партизан; почему запечатленная цветной
тушью, клубящаяся хвойная ветвь, каждая иголочка которой так
взаправду осязалась, как будто и не была просто нарисована
на гладкой белой бумаге, почему ветвь эта так стремилась поведать
ему что-то, так беспокоила его, словно от необходимости расслышать
эту подсказку зависело превращение обыденности в самую что
ни на есть изумительную необыкновенность?
Он ведь и сам не понимал побудительных причин такого ожидания
и таких несказанных надежд, не умел объяснить ничего, но иные
картинки казались ему вкусными и хотелось еще и еще,
как, допустим, праздничного торта с кремовыми цветами или
той памятной газировки прозрачно-красного, на свет прямо-таки
рдяного цвета в круглом, нарезном хрустальном бокале, которою
угостили его в день рожденья родители, и было это в полумраке
парохода-ресторана «Маяк», пришвартованного к берегу у длинного
моста ввиду белокаменного волжского кремля, и широкий речной
плес искрился и сверкал за окном в кружевных занавесках. Но
этот мир, где родители, был внутренний, – мир всепрощения,
покоя и бескорыстной привязанности: из этого мира он ничего
не мог вынести наружу, чтобы тут же не быть осмеянным за бытность
существом слишком домашним, каким он и был на самом деле,
бесконечно стесняясь этого тайного стыдного обстоятельства.
Да и о чем из этого мира мог он ей рассказать? Не о том же,
что вот возили его в раннем детстве на Черное море, где он
бегал по батумскому пляжу и теплому мелководью вовсе голышом,
и как, барахтаясь и стуча по воде ногами, плавал на надувном
резиновом круге, и как ел золотую вареную кукурузу, которую,
за неимением соли, просто ополоснули в морской воде, и есть
сразу стало противно? Или о том, что взяли его гулять в знаменитый
ботанический сад, где было жарко, влажно и душно, где впервые
увидел он, как растет бамбук и толстые восково-зеленые сочлененья
его, и ощутил ужас от пряного и живого мрака, шевелящегося
и клубящегося под нисходящими ветвями в корнях неизвестных
тропических кустов и подножиях мохнатых пальм, заросших в
комле жестким конским волосом. Там же навеки поразили его
широкие и круглые, как ресторанные подносы, листья тропической
водяной лилии, Виктории регии, лежащие на черной глади отведенного
для них бассейна.
Отец, молодой, как сама жизнь, поднял его и поставил на одну
из тех широких зеленых тарелок с загнутыми краями, и водяной
лист выдержал невеликую тяжесть, и ему, который в этом рассказе
за негероической обыкновенностью своей не заслужил даже отдельной
фамилии, не говоря уж об отчестве, совсем не пришло в голову
поплыть в неизвестность на этой зеленой тарелке, потому что
он был еще крайне мал, да к тому же был известный трусишка,
что еще раз подтвердилось во всей подлинности, когда отцу
вздумалось разыграть его, оставив в одиночестве на белой гравийной
дорожке этого приснопамятного ботанического сада.
По рассказам, едва он оглянулся и ощутил, что остался в этом
мире совсем один, такое недоумение и такой ужас отразились
на его круглом лице, что отец выскочил из своего укрытия раньше,
чем он заревел и прежде, чем пролились первые испуганные слезы
минутного этого сиротства.
Об этом ли должен он был с ней говорить? Но она и сама была
наверняка переполнена такими же крошечными, но ведь собственными
печалями и радостями, и нешто понял бы он ее, заговори она
об этих величайших сокровенностях всякой подрастающей души?
Но она-то как раз была умнее: с кем не надо, не откровенничала,
и умела, когда надо, гордо молчать. Вместе с тем, что и жила-то
она за высокой, каменной, крепостной стеной на недоступной
территории областного артиллерийского училища, делало ее в
его глазах настоящей зачарованной царевной, а то и принцессой
из рыцарского замка в духе Айвенго.
Зачем же было разрушать эти чары?
Да и разве меняется что в мире от крайней откровенности сердца?
Вот и ландыш секретный, который в неисчезающем прошлом по-прежнему
ждет, что его найдут и оценят, по-английски называется еще,
быть может, и чудесней – lily-of-the-valley, лилия долин,
но не вызывает он в здешних людях никаких особенных эмоций,
потому что растет, как и прочие лесные и полевые цветы, на
ухоженных клумбах частных садов, и как вид уже вовсе исчез
в живой природе, где только и умеет он, майский ландыш, по-настоящему
ворожить своим свежим ностальгическим запахом – тем летучим
и щемящим ароматом невозвратности.
Почему же не отыскал он сей ландыш – почему не вручил его,
хотя б для того, чтобы завязать вокруг него такой же разговор
обо всем и ни о чем, в каких преуспевали его более спортивные
сверстники? Может быть, в этих легких разговорах и развеялось
бы мучительное чувство отверженности, и затеялась бы какая-никакая
романтическая дружба, о которой, может, и не вспомнил бы он
потом никогда. Но этого не случилось, а случилось совсем другое,
куда более тягостное, – если и не трагедия, то уж точно драма,
ибо всякая драма не состоит ли в том, что тайное становится
явным, и одна решительная откровенность роковым образом тянет
за собой другую?
Ох уж эти саратовские страдания в пустоте родительской
квартиры после школы, эти кислосладкие терзания под музыку
«Лунной сонаты», а чуть позднее под «Голубую рапсодию» Гершвина,
которую от частых повторений выучил он настолько, так что
мог бы, наверное, продирижировать. Он воображал себя высоким,
красивым и знаменитым, но никаких специальных талантов в себе
не находил, и тем более маялся невыразимым, сосущим сердце
честолюбием. К тому времени страсть к цветным открыткам сменилась
особенной охотой до едва возникших в природе шариковых авторучек
и маленьких блокнотов, которые покупал он в киосках и центральном
писчебумажном магазине, гордясь, что что-то может уже и купить.
В одном из этих блокнотов, вернее, в записной книжке – совсем
крошечной, но толстенькой, в желтой пупырчатой обложке под
кожу, он даже завел дневничок, но, не имея тогда никакого
систематического упорства и усердия, писал от случая к случаю,
детскими каракулями – и почерк у него был безобразный – занося
на разлинованные арифметическими квадратиками странички свидетельства
своих безумных и никем не разделяемых мучений.
И наступил-таки день, когда, вовсе измаясь от своей любви,
решился он перелезть через каменный забор и прямо явиться
перед ней со всеми своими чувствами.
Так совершил он самый решительный в своей жизни шаг, и никакие
другие шаги его не могли и впоследствии тягаться с этим по
отчаянной решимости. Это было поздней весной; небо было синее,
в перистых облаках; вновь распустившиеся листья уже шелестели
на ветвях тополей и кленов; вея от городской реки, посильно
дул чуть влажный ветер, – и чудо, о котором он и мечтать не
мог, свершилось: она согласилась пойти погулять вдвоем, заинтригованная
тем, что он грозил поговорить с ней «о чем-то серьезном».
Предвкушая каждый свое, пошли они вместе по весеннему
городу, но шли недолго: и здесь погубили его торопливость
рвущихся на волю эмоций, а также мальчишеская несдержанность
и поспешность чувств, от которых с трудом отучался он и теперь,
годы и годы спустя. «Ты разве не знаешь, что я в тебя дико
влюблен?!» – он сказал ей что-то вроде этого, и на всю жизнь
запечатлел на себе ее недоумевающий взгляд, изумленный, казалось
бы, такой откуда ни возьмись нелепой отвагой, но ведь и втайне,
совсем нечаянно, засиявший победительным женским восторгом.
Но что было ее удивленье и все разумные увещеванья о том,
что в их-де возрасте любви не бывает, по сравнению с возликовавшим
в его душе восхищеньем – тем самым, щенячьим, которое в зените
своем не предвидит ни малейших последствий, и упоенно живет
всего лишь и только собою – словно и солнечный, в новых сверкающих
листьях, мир, и вся жизнь со всеми ее людьми и сотворены-то
были только ради этих восхищенно прекрасных и восхитительно
неповторимых часов и минут. В наставшей внезапно полноте существованья,
в порыве доверия, которого ждал и чаял он так одиноко и долго,
он напоследок вручил ей свой маленький желтый дневник – и
этим-то все и испортил, потому что ничто не должно быть слишком
и чересчур, и не все должно быть сразу, но ведь этой главной
жизненной мудрости и сейчас ему недоставало.
Они расстались, как ему показалось, друзьями, условясь не
разглашать ничего, но наутро о его нелепом признании и о существовании
дневничка уже знала вся школа. Она, как теперь понимал он,
раззвонила об этом совсем не со зла, а просто не выдержала
пристрастных расспросов подруг, и это подруги уболтали ее
прилюдно вернуть ему роковой дневничок, но его так потрясла
унизительный реализм еще вчера такой возвышенной и восторженной
жизни, что и под музыку «Classic FM» на ночной английской
дороге его просто-таки передернуло от скверного осязанья тех
былых уязвлений.
Так стал он посмешищем, но и этого его оскорбленной и грубо
поставленной на место душе оказалось мало, словно нужно было
ему достигнуть предела своих унижений, утонуть в этой тьме
до самого липкого дна – в неотрезвленном стремлении к «слишком»
и неосознанной светлой надежде, что оттуда, со дна, остается
лишь один достоверный и неотвратительный путь – наверх и обратно,
к утраченному свеченью заветных иллюзий.
И вот, черпая гордость в самом униженьи, стал он давать свой
маленький, желтый, перепончатокрылый дневник на прочтенье
всем, кто хотел, а хотели довольно. Он смотрел, как случайные
по этому поводу люди, одноклассники, одноклассницы, поспешно
читали письмена, иероглифы, почеркушки, каракули сокровенных,
мучительных, неповторимых и глупых его причитаний, и понял,
что это не страшно, а страшно другое, невидимое и недоступное
для других: невозвратность и неповторимость разбитой мечты.
Она его не понимала.
Но теперь, слегка пристыженный благородной безымянностью музыкальной
заявки безнадежно влюбленного клерка, вспоминая, как жадно
и торопливо читали чужие глаза записанные им для себя самого
откровенья, он сквозь усеянное мельчайшей водяной пылью ветровое
стекло все вглядывался в эту банальную фразу, как в зерцало
своей изначальной души, пока наконец не постиг ее вчуже и
потрясенно не понял, какой же несусветной, наглядной и ничтожной
низостью завершилась тогда его первая в жизни любовь, ибо
суть ее, любви, как оказалось, вовсе не в том, чтобы тебя
понимали, а в том, чтобы того, кого любишь, стараться понять
самому.
Он ведь ни разу и не подумал о том, что чувствовала тогда
она, вдруг оказавшись в центре событий, над которыми не имела
никакой власти, ибо воистину, на чужой роток не накинешь платок,
и особенно тогда, когда ты не при чем.
Что чувствовала она, еще и не зная, и в кошмарных снах не
догадываясь, что, как в сочиненном кем-то романе или бытовой
драме двадцать лет спустя он, опустошенный и измочаленный
очередной трудной любовью и очередным женским непониманием,
нечаянно женится на ней, а потом так же нечаянно и порывисто
разведется, и уедет на край света, и все опять будет обыкновенно
и как у всех: новая семья и встречи раз в год, а то и в два,
с подрастающим без него сыном, белобрысым и круглолицым, в
чьих глазах он встречал иногда знакомое удивленное недоуменье
и в чьей душе, как подозревал он тревожно, мог гнездиться
все тот же полученный от него по наследству вулкан мучительного
самолюбья, сердечных терзаний и неутолимых страстей?
Но поскольку это было обыкновенно и как у всех, не так уж
часто это его и тревожило, – и не было в нем никакого ностальгического,
а то, страшно сказать, и совестного разлада. Только однажды,
правда, совсем недавно, приснилось ему, что вот он выпрыгивает
из поезда на каком-то смутно знакомом, зимнем, в снежных сугробах
полустанке, и по пояс проваливается в белый, пушистый, веющий
ярой чистотою и ослепительной, ядреной свежестью пахнущий
снег, и проснувшись, понял, что плачет.
Но и это отнес он за счет нервной усталости и общей неопределенности
жизни, и отмахнулся от воспоминаний о снеге, понимая, что
сейчас хочет только одного – ехать и ехать все дальше по темному,
мокрому и пустынному шоссе, ехать бесконечно, не останавливаясь
и наивно надеясь, что оно, это механическое движение, и есть
поступательное движение жизни. Однако знал он, что если проскочит
на скорости свой Петерсфилд, где жена, наверное, уже доставала
из морозилки очередную заледеневшую пиццу для разогрева на
ужин, то достаточно скоро дорога А3 упрется в скучный, как
сама обыденность, Портсмут и там оборвется у чужого и вечно
холодного моря – на том самом распоследнем краю света, о котором
так горячо мечтал он когда-то.
ПОСТСКРИПТУМ
Мне снится дом. Во сне, в ускользающем, я не вижу его во всей
желанной и лишь потому прекрасной доскональности, но знаю,
что он просторный и светлый, и неотделанные бревенчатые стены
его пахнут свежей сосновой древесиной, и смолистый этот запах
сливается в ощущениях сна с веяньем другой свежести, и я понимаю,
что эта другая свежесть – от близости шумящего леса и большой
воды, но не знаю, широкая река это или какое-то море в неутомимом
движении дышат у порога, однако чувствую во сне тот утешный
покой востребованности, который всегда охватывает тебя в кругу
людей родных и близких, не требующих никаких ежедневных доказательств
особенных твоих дарований, способностей и общей пригодности
к жизни.
Вот и не знаю, возвращаюсь я восвояси или ухожу прочь, поднимаясь
каждый вечер сквозь закатный Даличский лес на вершину Сиденамского
холма после смены на Бибиси, проведенной в истовой гонке за
последними новостями планеты. Ведь и вправду всякий день в
мире случаются громкие, – и чем страшнее, тем громче, – вещи
и происшествия, и весь радио-мир по расписаниям сеток вещанья
как о чем-то единственно важном
говорит,
говорит,
говорит,
говорит,
говорит,
говорит
о вещах, о которых назавтра уже никто и не вспомнит, кроме
тех людей, с кем они на беду приключились.
Пока, прерываемые большими событьями мира, о которых
исправно вещал я невидимым людям, как бы и сами собою писались
эти долгие письма, незаметно свершилась весна, и вот оказалось,
что уже завершается август. Между тем и в нашем саду, который
и нынче застану я уже в загустевающей тьме, были за лето собственные
происшествия.
Например, зацвел и отцвел у каменной стенки забора жасминовый
куст, и его снежно-белые, тонко пахнущие цветы, – как крупные
известковые брызги на фоне темно-зеленого плюща – в прозрачных
сумерках невечерней зари так светло и отчетливо сочетались
с густо-красными, а также и желтыми розами, и кустами камелий
с глянцевитыми, словно бы вечно влажными листьями.
Обитающие на садовом клене бельчата, совсем осмелев предо
мной, истуканом в ташкентском халате с дымящейся чешскою трубкой,
по утрам на глазах таскали из грядок клубни отцветших весною
тюльпанов и луковицы гиацинтов, а рыжая, с золотыми глазами
кошка Мумзик однажды нашла в расщелине старого пня огромного
и совершенно живого жука-оленя.
Я спас от кошки жесткокрылое то насекомое. Сей жучище, Licanus
cervus, рогач в подвижно сочлененном панцыре, с лапками в
сильных зубцах, хищными оружейными челюстями и сложными своими
глазами, казалось, рожден был лишь царапаться и ползать, однако
и он, помедлив на моей ладони, с неожиданной грацией развел
жесткие щитки медноцветных надкрылий и, расправив кисейные,
жилковатые крылья, тяжело загудев, воспарил, а потом улетел
– ввысь, выше беличьего высоченного клена – да так далеко,
что вскоре исчез и стал вовсе невидим.
Когда идешь, за день опять переполнясь тревогами Судного дня,
дубрава в смеркании солнца чудится более емкой, чем утром;
лучи заката, пробиваясь сквозь листья, красными бликами, пятнами,
отсветами и отблесками своими расцвечивают песок, траву и
морщинистые стволы широко отстоящих друг от друга дубов, и
чудится мне на песчаной тропе пятнистый олень, непуганый зверь
английских парков. Но это только мираж и видение, и оленей
в Даличском лесу давно нет, если и были когда, но вот славный
серебристо-серый ежик, упорно семеня, наяву переходит тропу,
направляясь на ночную свою работу в ту самую пору, когда я
бреду со своей.
Все, происходя без меня, изменялось – и вот изменилось: кустистые
заросли ядовито-целебной цикуты отцвели, поржавели и стали
сухими; на дубах вызрели желуди, и осенью веет уже отовсюду,
хотя вдруг с чего бы, когда по эфирным прогнозам и в этих
краях ждут бабьего лета, которое по-английски зовется «индейским».
Это названье пришло из Америки, где первые колонисты полагали
самих индейцев и все индейское чем-то весьма ненадежным, а
раньше, до засилья из-за океана, бабье лето прозывалось здесь
«лето Святого Луки» или «лето Святого Мартина», а то и вовсе
«лето Всех Святых», All-Hallown summer:
«Farewell, thou latter spring; farewell, All-Hallown summer!»
–
возвышенным слогом прощаясь с весною и бабьим летом, восклицал
Вильям Шекспир, которого, может, и не было, как не будет и
нас, да вот останется ли от нас хотя б одна строчка в грядущих
молчаньях?
Хотелось бы, конечно, но мало ли кому чего хочется – особенно
в наполовину примнившихся предосенних пространствах, в пути
по дубовой, невесть почему загадочной роще, где, как красный
отсвет заката, вдруг мелькает лиса между кустами колючей омелы,
и зеленеет ряской прудок в ограде из маленьких бревен, а на
островке, поросшем по краю зарослями саблелистых желтоцветных
ирисов, укоренились два дуба, один из которых живет, а другой,
с облезлой корой, умирает в непостижных справедливостях мира.
Потому что во всем – своя справедливость, и вступая, мимо
красноплодного боярышника и дремучих, унизанных красными и
сизо-черными ягодами кустов спеющей ежедень ежевики, –
вступая на единственную в этих пределах поляну с цветущим
кипреем, шиповником розовым и бело-пушистыми в прощальном
солнце ковыльными травами, я опять понимаю, что в Единстве
ничто не случайно, и всякая категоричность пуста и фальшива
уже потому, что противна Единству.
Когда над поляной, шелестя августовской листвой и колыша созревшие
опушенные травы, веет призрачный ветер заката, я винюсь перед
старожилами этого леса – винюсь и за то, что на памятных деревянных
скамейках поминал об алтайской тайге, как об ином и совсем
недоступном им мире. Ведь не в семи часах беспрерывного полета
отсюда, но всего в четырех упорных часах езды на машине существуют
уэльсские горы, куда нынешним летом мы однажды сбежали от
чужих расписаний.
Ты помнишь, как в наступающих сумерках, на петляющей среди
рощ и мшистых валлийских болот узкой дороге мы вдруг увидели
каменный коттедж – одинокую хижину под взмывающей к небу горою,
и остановились здесь на платный постой, не умея уехать от
прекрасного совершенства: не только увитые фиолетово-синей
глицинией стены из дикого камня, но и сад поднебесный, взбирающийся
по откосу удивительный сад с журчащим, отвесно бегущим по
скальным ступеням прозрачным ручьем пленил нас с тобою в то
предвечернее время.
Наученные нашими хозяевами Анной и Аланом, мы немедля отправились
на прогулку, уже и заслыша в близлежащем ущелье гудение сильной
реки. И вправду, река, Афон Гаслин, могучим потоком струилась
по желто-пятнистому скальном руслу промеж каменных глыб, под
нависающими со склонов ущелья таежными лапами елей; то билась
и брызгалась, утесненная скалами, то свободно лилась с водопадных
ступеней стеклисто-прозрачной струей, вздымая отвесным падением
пенно-бурлящую кипень, и мы, пробираясь по трудному берегу,
понимали, что и в дальнем Уэльсе настигло нас зримое осязанье
незабытой отчизны, и такою неистовой памятью пронизало мне
душу, что я в ту же минуту взмолился Аллаху – взмолился о
том, чтоб попасть на Алтай, вполне сознавая и зная, что в
моем подчиненьи чужим расписаньям это совсем и никак невозможно.
Невозможность – непререкаемость – недоверье – наивная глупость.
Если что-нибудь нужно Единству – все свершается и происходит
как это должно.
Не через две ли недели после того, как, прощаясь с Уэльсом,
мы стояли с тобой на верхней площадке цветущего горного сада
и глядели на голые, в отдельных соснах вершины гор Сноудона,
–
я опять пребывал в небесах – на кедровом, в багульнике и кустах
таежных пионов Каспинском перевале, где стоял вместе с сыном,
а также и старым товарищем, когда-то утраченным в странствиях
и ныне вот вновь обретенным; и дождевые просвеченные облака,
перемещаясь над беспредельным простором Алтая, туманными рассеянными
краями задевали за ближние горы, за которыми и ныне струится
Катунь, обтекая зеленовато-синей, мылистой, стремительной
и животворной водою скалистые, хвойные свои острова.
И воздух Алтая, пропитанный моросью облачных капель и безобманной,
неповторимой, воскрешающей всякое существованье свежестью
первозданного мокрого ветра, обнимал нас, даря осязание мира
как единой отчизны, –
даря осязанье, какого ежедневно ищу и в любви, и в трудах,
и в беспрекословных печалях...
Но разве же, возвращаюсь или прочь ухожу, и ныне оно не дается
в молчаньях Единства?
На вершине очередного холма, с которого виден весь мерцающий
в сумерках Лондон, закрываю глаза, и живительный ветер Каспинского
кряжа, несказанно шумя в чужеземных деревьях, касается лба,
сопрягая в биении сердца свое вечно живое движенье с прозрачным
потоком всеобщего существованья, в котором пред Богом нет
малого или большого, но есть всеединство надежды –
надежды, что и тебя наконец-то поймут, особенно те, кто сказанному
предпочитает молчанье, и неизреченную речь не боится прервать
на любом полуслове...
Март-август 2001 года
[1] Стихотворение Лидии Григорьевой
[2] Стихотворение Лидии Григорьевой
[3] Перевод Н. Ман
[4] Священный Коран, 3:65
[5] Вот
что пишет об этом документе православная писательница
Валерия Алфеева в книге «Паломничество на Синай: «Большой
лист с потрепанными краями и оборванным углом оказался
копией знаменитого ахтинаме, дарованного самим Магометом
отцам монастыря в 624 (622 – Р. Б.) году, – по
некоторым свидетельствам, к тому времени в горах Синая
обитало около семи тысяч пустынников. Это завещание основателя
ислама и его пророка – удивительное свидетельство его
веротерпимости, обещает монастырям, инокам и христианам
не только неприкосновенность и защиту во всех пределах
Синайской пустыни (и не только – по всей планете, Р.
Б.), но и особые преимущества, вроде освобождения
от податей даже в военное время, неприкосновенность владений
и помощи в обновлении храмов. Подлинник ахтинаме с рисунком
маленькой мечети на полях, исписанный сплошной арабской
вязью, утвержденный подписями двадцати одного свидетеля,
и – вместо печати – отпечатком всей приложенной в нижнем
углу правой руки Магомета, хранится в сокровищнице султана
в Константинополе.»
[6] Ряд цитат приводится по статье «Гете и ислам» доктора
филологических наук Ашика Саида Конурбаева в журнале «Мусульмане»,
1 (4), февраль-март 2000 г. Статья написана в связи с
тем, что шейх Абдулкадыр аль-Мурабит, после изучения в
1995 году в Веймаре письменного наследия Гете, вынес фетву
о признании Гете мусульманином.
[7] Перевод мой
[8]
Там же |