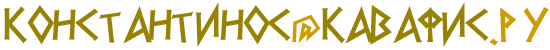Молодой
офицер стражи просит хозяйку господского дома принять
его. Отец офицера с детства работал в поместье и сделался
в доме своим человеком. Теперь уже старый, больной, он
посылает сына с корзиной фруктов, с горшком базилика и
с поручением передать от него нижайший поклон госпоже,
последнему отпрыску некогда славного и богатого рода.
Госпожа принимает его. Молодой офицер, сильный, красивый,
в пригнанном ладно мундире, сердечный чисто по-гречески,
что идет от его деревенских корней, но обладающий тонкостью
чувств, развившейся в нем от общения с горожанами и от
безделья казармы, возбужден и польщен; он с обожанием
смотрит на благородную госпожу, которая сильно накрашена,
затянута туго в корсет, но сохраняет зыбкую прелесть былой
красоты. Офицер ставит на пол горшок и корзину, ставит
неловко, будто делает что-то не очень уместное, и передает
привет от родителя. Она предлагает ему стул у окна, спрашивает
о здоровье отца, о поместье. Он говорит, говорит, без
конца говорит – о жизни в деревне, об урожае, о реке и
деревьях, о коровах и лошадях. Она рассеянно слушает,
стараясь, однако, выказать интерес ко всем этим рассказам,
и глядит на его неловкие сильные руки, лежащие на коленях.
Прекрасный весенний вечер. Из распахнутого окна в комнату
льется бледно-розовый свет. Потом он становится поочередно
оранжевым, сиреневым, фиолетовым, наконец, темно-синим.
В саду поют птицы. Время от времени отсвет тяжелых ее
драгоценностей проходит по мебели, по огромному зеркалу,
по оконным стеклам, по его лицу. Внезапно он замолкает.
Сгущаются сумерки. Тишина, ожидание. И тогда говорить
начинает она. словно пытаясь заполнить возникшую вдруг
пустоту и отвратить приближенье чего-то ужасного и неизбежного:
Навещайте
меня иногда – вы доставите мне удовольствие.
Время
здесь тянется медленно,
ничто
не приходит, ничто не уходит.
Происходит лишь разложение, постоянное и привычное,
им
затронута мебель, полы, потолки,
штукатурка,
лестницы, крыши, дверные петли, посуда.
Неторопливое разложение, безмолвная ржавчина –
прежде
всего на руках и на лицах.
Большие
часы на стене не идут – их никто не заводит.
Иногда я стою перед ними, но смотрю не на время,
а на мое лицо, отражающееся в стекле, –
лицо удивительно белое, безучастное, словно гипсовое,
живущее
как бы вне времени,
и при этом в часах, в темной их глубине неподвижные стрелки
над моим отраженьем висят, точно скальпель,
которому рану не вскрыть никогда,
никогда не изъять из меня ничего: ни надежды, ни страха,
ни
ожидания, ни нетерпенья.
Непреклонная
эта медлительность удлиняет всегда интервалы
от меня до меня, от жеста до жеста,
от воспоминания до другого. Целый месяц уходит на то,
чтобы пройти из комнаты в комнату. Какой-то туман полонил
всё на свете. Часто зимой по утрам
я сижу здесь, за стеклами окон, и дружелюбно гляжу
на
пространство. В его глубине
время от времени кто-то проходит, окутан туманом.
Перемещается тихо пятно, бесплотно-безликое –
ты даже попытки не делаешь его распознать.
Тебя не касается вовсе, куда оно двинется дальше.
Туда
ли, сюда ли – тебе все равно...
И даже деревья бесплотны. В такие часы, если кто-нибудь
станет
рубить топором кипарис или иву, никто не услышит
ни дерева, ни топора.
Эта
прекрасная зыбкость –
единственная реальность моя – отчуждает меня от всего,
делает очень далекой, даже неуязвимой,
как плывущее в тумане пятно.
Я этой легкости радуюсь, хотя и боюсь ее.
Если
я эти браслеты сниму и распущу свои волосы,
и расшнурую сандалии, а главное, если сниму
вот эти тяжелые ожерелья, которые держат меня за горло,
как
медный ошейник,
я взлечу, растворюсь, улетучусь. Мне бы этого не хотелось.
Может быть, потому-то я их и ношу. Ожерелья меня заземляют,
хотя и мешают порой. Я их даже во сне не снимаю, словно
собака,
которую я же сама привязала возле чьего-то порога.
Рвом молчания – кажется, так вы сказали? – мой дом окружен.
Не знаю, почтительно ли окружен или, напротив, враждебно.
По-моему, было бы лучше, если б не было этого рва.
Где-то здесь в доме, а может быть, где-то во мне,
тянется длинный и узкий коридор без дверей,
без окон, без фонарей; он никуда не ведет, в нем пахнет
подгнивающим деревом, пылью, тараканами, плесенью,
ветшающим
временем.
По нему бесконечно идут молчаливые люди,
несут
колченогие стулья,
перетаскивают деревянные сундуки, портреты и зеркала.
Порою падает на пол кусок хрусталя, гвоздь проржавелый,
или
рука,
мертвенно-бледная выпадает рука из портрета военачальника,
или
букетик фиалок из прозрачных и нервных рук женщины,
нарисованной
на холсте.
Никто не нагнется, чтобы оброненное поднять.
Впрочем, оброненного и не увидишь
в этом дремотном спокойствии мрака, где все подчиняется
Неиспользованному и Невыраженному,
а также молчанию и мышам.
Лишь
его ты и слышишь –
этот шорох мышиный (нет, не хруст, ведь бесплотные вещи
уже не хрустят на зубах). Только шорох мышиный
по стенам, по нашему телу,
точнее, внутри наших тел.
И
это прекрасно –
следить за бесшумным паденьем вещей
в пустоту, такую глубокую,
что она рождает в тебе ощущение безграничности,
чувство чего-то великого, чего-то сходного с тем, что
мы гордо
зовем свободой, бессмертием, вечностью.
Впрочем,
вряд ли падение, ибо куда же тут падать?
Вознесение вверх. Чего-то крылатого, чего-то подобного
птицам,
которые вольно парят, поднимаются, опускаются или висят
неподвижно,
распластавши в воздухе
крылья.
Неподвижный полет в благородной и нескончаемой бренности.
Последнее равновесие, легкость последняя
всей материи – значит, и смерти.
Вот
почему я такая веселая,
если можно весельем назвать отсутствие всякой цели
и всякого честолюбия, восхитительное оцепенение
с ощущением холода и с состраданием к тем,
кто от холода этого страждет, кто о холоде говорит,
кто в защиту от холода тщится закутаться в груду плащей,
свитеров,
одеял.
О, эта наша смешная забота о защите своей!
Всегда и повсюду защита – от холода, зноя, от голода,
жажды,
от болезни, ошибки, от смерти. И невдомек нам,
что холод исходит от нас и его избежать невозможно.
Конечно,
немного огня в очаге – это неплохо зимой.
Пламя всегда занимало меня, занимала упругость
его
танцевальных движений,
его разноцветные и бестелесные ангелы, чьи смутные тени
плясали на стенах, на потолке. И тень
от
большого ткацкого станка или веретена,
тень от кифары, висящей в углу на столбе. А больше всего
–
тени от голого тела, увеличенные тени отдельных его частей,
и начинает казаться, что это уже другое какое-то тело,
черное, красное. Под грудью – тень от груди,
с подчеркнутым резко соском. Тень ото рта – во рту.
И ужасная самоуверенность тела, чудесная эта враждебность,
с какою оно выпрямляется после того,
как почтительно, вежливо, но отнюдь не смиренно согнется.
Сгибание,
кажется мне,
есть мера гордости и высоты; те, кто вечно напуган
(как сестра моя, например), они не в силах согнуться,
и их высота – это всего лишь окоченевшая несгибаемость.
Уж какая тут гордость? Какая уж тут добродетель?
О, сестра
моя все измеряла, руководствуясь только одним:
«следует»
или «не следует»,
она была словно предтечей той религии странной, которая
позже
разделила надвое мир (на «здесь» и на «там»)
и
которая разделила
надвое наше тело и отбросила нижнюю половину его.
Я всегда жалела сестру. Она чуть было не навредила и мне.
Ее
славили лишь потому,
что она избавила многих от необходимости тех же поступков.
В
ее лице почитали
свою мертвую противоположность. Извинили себя,
оправдали и успокоились. Если б сестра не погибла, о,
тогда
бы, конечно,
ее стали бы все ненавидеть. Единственной мыслью ее
была мысль о смерти. И я думаю так: поскольку знала она,
что смерти нельзя избежать, что человеку дано только ждать
своей
смерти,
медленно, тяжко, бесплодно старея, то сестра предпочла
дерзко вперед забежать, упредить эту смерть,
даже
ее спровоцировать
доблестью хитрой своей, превращая
свой пожизненный страх и свой фанатизм в героическое деянье,
превращая даже саму свою смерть в дешевое это бессмертье.
Да, дешевое, да! – несмотря на его ослепительный блеск.
Как она это вынесла, боже,
она, такая запуганная, до дрожи боящаяся
пищи, света, цветов,
свежей, чистой воды? Никогда она
не позволяла Гемону коснуться ее руки. Вечно сжавшаяся,
словно от страха что-нибудь потерять, вечно скрюченная
внутри
себя же самой,
с рукой, засунутой зябко в рукав другой руки,
со спиной, прижатой к стене, с насупленными бровями,
готовая только присутствовать молча при горе других
и смаковать втихомолку тоскливую гордость за горе свое
–
а
какое, собственно, горе?..
Никогда не носила она никаких украшений.
Даже
кольцо свое обручальное
спрятала сразу в сундук. Она проносила
свое мрачное высокомерие через наши веселые юные сборища,
пронзая наш смех унылой хмуростью взгляда,
точно острым лезвием бренности. И если порою она принималась
прислуживать за столом, приносить тарелки, кувшины, –
казалось,
голый череп в ладонях сжимает она
и ставит его среди амфор. И больше никто не пьянел.
Помню,
ночью однажды, когда мы играли все вместе,
юноши,
девушки,
кто-то вдруг предложил поменяться одеждой,
чтобы
юноши женское платье надели,
мы – мужское. И была полнота непривычная чувств
и
свобода неловкая
в этой затее, мы стали как будто чужими себе и в то же
время
искренними, настоящими. Только моя сестра
в черных стояла одеждах своих, каменея в углу,
осуждающая и немая. Мы сбежали быстро по лестницам,
вышли в сад, рассеялись между деревьями. Девушки
в мужском одеянии были смелее, чем юноши в женском. Над
нами
диском огромным висела луна. Из окон лилась
музыка и просачивалась через листву. Гемон был одет
в одежду мою и был настолько моим,
что я заплясала в фонтане. Струилась вода
по моим волосам, по плечам, по щекам,
как будто я плакала. И я вдруг застыла,
почувствовав,
что становлюсь
позолоченной статуей, памятником самой себе.
Статую
освещала луна
перед слепыми глазами отца. Я этот озноб временами
опять
ощущаю.
Вот тогда
на три дня исчезла сестра.
Убежала, наверно, в поместье. Ваш отец привез нам ее
на муле. К седлу вверх ногами были привязаны
две белые курицы и пестрый петух. Меня поразило,
что
в таком положении
они висели спокойно, им было удобно.
А
может быть, это была усталость?
Или покорность? Или неотвратимости сладкая мудрость?
Сестра
не обратила на это внимания.
Всегда она будто стыдилась, что была женщиной.
Может
быть, в этом
и состояло несчастье ее. И поэтому, может, она и погибла.
Каждый
из нас
хотел бы, наверно, быть в жизни кем-то другим,
не
тем, кто он есть.
Одни
переносят все это спокойно,
другие страдают. Судьба, говорят, заключает нас в круг
недостижимого, нам суждено безнадежно бродить
вокруг
некоего источника,
где на дне от света таится
темное наше лицо, нам неведомое, несбывшееся. Сестра
этот удел принимать не желала и, непреклонная в горе своем,
отказывалась
подчиниться.
Тем не
менее как-то летом, в полдень, когда все спали,
я спускалась босая по лестнице и вдруг увидала ее –
у буфета в столовой, с миской густого виноградного сока
в
переднике.
Она большой ложкой вылавливала оттуда
куски
зачерствелого хлеба.
Я
тихо ушла.
В саду кричали цикады. Она меня не заметила.
Я ей ничего не сказала. Она не узнала. Мне было жалко
ее.
Ведь и она ощущала голод (и знала об этом). Быть может,
она
и любила. Но не позволяла себе
уступить своему желанию, которое, разумеется, не было
делом ее добровольного выбора. И только со смертью
у
нее по-другому случилось.
Час и способ собственной смерти ей было позволено выбрать.
И она действительно выбрала. Эти ее слова о себе:
«неоплаканная»,
«без близких»
и особенно «не изведавшая брака» –
были
ее единственной исповедью.
Акт высокой покорности, единственной женской храбрости.
Последнее и единственное проявление искренности,
искупившей
собою
всю надменность ее. В глазах моих именно это ее извинило.
Да еще эта миска с густым виноградным соком;
мы нашли ее полупустой (все переглядывались удивленно),
и румянец стыда окрасил щеки сестры. Я отвернулась.
За
окнами день
был ослепительно белый, искрящийся, и я про себя захотела
слепоты для всего и для всех. Нелепые розы
тянулись из сада к окну. Я ощутила впервые, что смерть
–
не черная вовсе, а белая. И от смерти не спрятаться.
Две
служанки
были за кражу наказаны. Думаю, в это мгновенье
была решена ее смерть. Теперь оставалось лишь ждать.
Сестру
напугал этот грех. Грех? Почему это грех?
Почему считают грехом, если ты уступаешь желанию? Никогда
сестра моя не была так прекрасна, как мертвая. Я сама
ей нарумянила щеки (может быть, вспомнился мне
тот румянец стыда перед миской, в столовой?).
Я ей покрасила губы вишневым. А глаза у нее
стали
впервые большими и черными
от жженой пробки (она никогда ведь не красилась). Я ей
надела
в пять рядов ожерелье, чтобы скрыть след на шее,
серьги надела с амурами голыми, кольца, браслеты
и золотую широкую пряжку на пояс. И тогда,
накрашенная,
принаряженная,
сестра моя приобрела огромное сходство со мной.
«Как она на Исмену похожа!» – тихо сказала одна из девушек.
Наконец-то
отказалась она от своих ужасных решений, от моральных
канонов,
от бессмысленного, чисто мужского своего честолюбия,
от
всех предрассудков. Умерев,
она женщиной стала. И рядом – жених.
Обнаженный. (Отчего это так получается,
что
в смерти отчетливо мы замечаем
красоту обнаженного тела? Может быть, потому,
что благоухают цветы апельсина, которыми мы осыпаем
покойников?)
Наконец эта брачная молодость, завершенная, беззащитная,
восторжествовала.
Почти никто не скорбел над останками Антигоны.
Женщины медлили, кутая в саван тело Гемона,
обмывали опять и опять его пальцы
на руках и ногах, и подмышки, голени, грудь...
И мягкое это движенье ухода –
или, может быть, перехода (когда поворачивали его тело)
–
мне
напомнило вдруг ту далекую ночь,
сад, большую луну и воду в фонтане. И мне опять захотелось
его в свое платье одеть, но я не посмела.
Оранжево-черная бабочка влетела в окно
и застыла на створке. Женщины подняли плач.
Гемона быстро одели. И он стал действительно мертвым.
Снаружи,
из перистиля, доносились ужасные вопли Креонта,
и на фоне молчания стражи бряцал его меч.
Иногда я спрашиваю себя: что же, выходит, мы рождаемся
лишь
для того,
чтобы самим убедиться в том, что умрем? Впрочем, в паузах
между такими вопросами проходит вся жизнь.
Гемон
отдалился от всех. Он не принадлежал уже никому –
ни сестре моей, ни друзьям. В непоправимой утрате таится
великая безмятежность, почти что удовлетворение.
И
спокойная определенность –
ибо все, что ушло, отошло, неизменно хранит наша память,
неприкосновенно хранит, хотя временами
кое-что
переносит в других.
И никто у нас не отнимет того, чего уже нет.
А
в вас что-то есть от Гемона.
Ваша застенчивость тоже следствие силы и честности.
Очень
похож подбородок
с этой бороздкою посередине. По вечерам, когда я сижу
взаперти,
я не знаю, о чем распевают птицы в саду. Может, о новой
поют
борозде, что проложена плугом?.. Знаете, мертвые
занимают так много места. Были вроде бы маленькими,
незначительными,
но потом вырастают, потом заполняют весь дом,
и
уже не находишь угла,
где бы не было их. Даже мать,
такая при жизни спокойная, тихая, скромная,
обрела нерушимую власть
над цветочными вазами, над кухонной утварью, над бельем,
над задернутыми занавесками – вечером,
когда начинается дождь и длинная спица
тускло поблескивает в старой корзинке для рукоделья.
Всюду я чувствую мать, ее место в семье, характер ее,
ее ко всему отношение, ее мнения, мысли. Здесь всё –
достояние
мертвых.
Иногда
я стою перед зеркалом и причесываюсь. Зеркало все
заполнено их телами. И только под мышкой у них –
когда в запрещающем жесте они простирают свои огромные
руки –
мелькнет на мгновенье кусочек лица моего,
или один только глаз, будто я одноглазая. На ступеньках
к утру остаются следы
их босых увеличенных ног. Невозможно
подняться по лестнице или спуститься, чтобы их не задеть.
А
однажды
я услыхала, как взбегает по лестнице наш молодой садовник.
«Госпожа, госпожа, расцвели гвоздики!» –
крикнул
он задыхаясь.
Он, казалось, готов был заплакать. И стекала вода
с
его мокрых волос.
Был май. Я быстро спустилась по лестнице.
Да, гвоздики и впрямь расцвели. Рядом там был и фонтан.
Мы вынесли в сад канареек, на скамейку поставили клетки,
сполоснули им чашечки, воду сменили, бросили корм.
И позавтракали под деревьями. День становился все жарче.
Я воткнула в прическу гвоздику. Очень вкусный был хлеб.
Может быть,
те гвоздики тоже прислал ваш отец. Он ведь знал,
что я любила цветы. Когда в город он приходил,
он всегда приносил мне в платке (вместе со свежей землей,
от
которой шел пар)
клубни диких цикламенов. Он учил меня их сажать.
Думаю, нынче они расцветут лишь на верхних участках сада.
Если
хотите,
можем как-нибудь вместе пойти посмотреть.
Скажите
отцу,
что я всегда его помню. Я осталась такой же.
Ничто
не изменилось
во мне. Да, ничто. И это так горько,
когда кругом все меняется: дома и кареты, лица и руки,
оружье, прически, одежды, шляпы.
Я вспоминаю тогдашние наши прогулки – после обеда, в карете...
И те наши шляпы в цветах, с восковыми черешнями и с колосками.
И длинные ленты – они развевались по ветру, там, сзади
нас,
иногда касаясь ушей, словно ласковые уздечки,
за которые подергивал ветер, и заставлял нас
держать выше голову, и на щеках оттягивал кожу –
оттягивал щеки назад, и мы широко улыбались
(мы,
должно быть, тогда становились
похожи
на лошадей, которые мчали нашу карету). Розовые, голубые
и
желтые ленты –
как разноцветные корни... Словно мы были деревьями неба
–
вольными, непоседливыми.
А
материнская шаль
хлопала крыльями там, сзади нас, как огромная
сине-прозрачная птица.
Когда загоралась
на небе звезда,
мне
всегда почему-то казалось,
что меняется шелест, идущий от шали.
Он становился зловещим. Меня охватывал страх,
я боялась, что шаль обернется вокруг ее шеи, задушит ее,
обернется
вокруг всего ее тела,
как саван вокруг мертвеца. Мы возвращались домой,
зажигали светильники, спешили что-нибудь делать.
Два фонаря охраняли портал. Потом всходила луна,
точно пряжка незримого пояса,
и дрожала на ней лебединая тень. А может быть, это была
тень
маминой шали.
Младший
мой брат питал пристрастие к пряжкам. Он собрал
коллекцию целую – мужские и женские пряжки разных времен,
пряжки от воинских поясов, от старых широких ремней,
от
нарядной одежды.
Прихотливые формы, необычные очертания, изображения
странные
птиц, людей, чудовищ, богов. Он коллекцию эту
однажды
мне показал.
В тот осенний закат она отливала многоцветными бликами.
Я смотрела и не понимала. Он объяснял мне, но так объяснял,
будто хотел что-то скрыть. Что-то так и осталось
для
меня непонятным.
Именно это мне и понравилось. Может быть, сам он стремился
подчеркнуть непонятное.
Цвет в этих пряжках господствовал темно-вишневый
(он
был точно кровь) и медно-зеленый,
словно внутренности человека. Но больше всего мне запомнилось
ощущение тел, цветущих, сильных и обнаженных,
нетерпеливым
движением освободившихся
от пояса, от одежды. Когда я об этом сказала ему,
он
рассердился. (Но разве есть в мире
что-нибудь более непонятное и неуловимое, нежели тело,
такое, казалось бы, осязаемо-плотное
и,
однако, такое непрочное тело людей?)
Это он ушел к аргивянам. Сестра моя слабость питала к
нему.
Оба они прямолинейными были, очень ранимыми
и,
как мне кажется, несправедливыми.
Слишком лично они относились к пониманию справедливости
и
не признавали
справедливости у других. И не признавали
несправедливости
общей. И оба погибли они.
И они, и другие. Я только пряжки храню. Вот и все,
что
от брата осталось.
Как я позже узнала,
он их сдирал с поясов у убитых. Но это известие
не изменило ничуть первоначального моего ощущения, наоборот,
его подчеркнуло.
И вот что
странно: при всех переменах, переворотах
и
встрясках
остается всегда неизменным, при всех и при всяких смертях,
беззащитное, неискушенное человеческое тело,
изумительное, упрямое.
Кажется
мне,
что прекрасно только неведенье.
И
одна только доблесть прекрасна –
молодость.
Сколько длится она? И сколько мы существуем?
Молодость
обновляется, скажете вы,
в поколениях новых. Да, обновляется, но не для нас,
не
для нас.
Какое
уж тут обновление?
Помню, когда со стола собирали объедки: кости, хлеб,
фруктовые
косточки, –
взгляд мой выхватывал тайно золотые спирали – пружинящую
и тугую апельсиновую кожуру. Она как будто хотела
снова
принять
свою форму. Рот мой древним полнился криком:
«Нет, нет, нет!» – но я не кричала. Я только смотрела.
Кожуру
выбрасывали во двор. С вами такого порой не бывает? –
Подавленный крик. И пахнут бессонные ночи
апельсиновой
кожурой.
Передайте
отцу мою благодарность за эти дары.
Пусть скорей поправляется! Ах, какие чудесные дни
проводили
мы прежде в поместье.
Незабвенное время. Мы там подружились
с лошадьми, и с водой, и с платанами,
и
– могу вам признаться – со звездами.
Там
мы узнали
имена растений и птиц – иволги, канарейки, дрозда.
Как-то мне принесли куропатку в корзине. А потом она умерла
–
необъяснимо, как человек. Я схоронила ее
под двумя яблонями. Мне хотелось заплакать, но я не могла.
Кричали,
купаясь в реке, мальчишки. Потом прямо так, нагие и мокрые,
они вскочили на неоседланных лошадей и исчезли в лесу.
Может быть,
были и вы среди них. А меня играть не пускали.
Езде верховой меня обучали отдельно, в огороженном месте.
Там были мальвы, крапива, сухая трава.
В
деревне всегда так красиво.
Мне особенно нравился сбор винограда. Все пропитано
запахом
сусла:
ветер, окна, дома, одежда, вода. Я смотрела
на ноги тех, кто давил виноград. Красные, очень красные
ноги,
обагренные кровью в какой-то чудной, невсамделишной битве
–
но она привлекала меня дикой своей красотой.
И я говорила матери: «Пусть
им женщины ноги оближут,
а то столько сусла зря пропадает». А мать смеялась.
Те вечера
были очень длинны. Все живое вокруг
благоухало, точно густое сусло, смешанное с мукой. И звезды
усыпали поверхность прудов корицею пыли. И лошадь
ржала тихонько все время, пока мы спали.
А
знаете, лошадь Гемона,
когда он погиб, так и осталась у его могилы.
Я носила ей воду и корм, давала ей сахар с ладони –
она не брала. Через неделю она умерла.
И
все успокоилось.
Мы их одежду разделили между собой. Их комнаты заперли.
Больше никто не произносил их имен. Мы завесили и зеркала.
Попросите
отца рассказать вам, какую трудную пору
пришлось
нам тогда пережить.
Но что они поняли, боже, чему научились они? –
Суета,
суета, обязательства,
никому не нужные подвиги. Открывались и закрывались
большие
ворота – по-прежнему в темноте.
Маски, маски на лицах, маски гипсовые, бархатные,
золоченые,
медные,
хитрость, лесть, вероломство – зачем? Чтобы спрятаться?
Но
от кого?
От себя? От других? От судьбы? И безмерная жажда славы.
Думаю, всякая слава-вереница недоразумений.
И всегда – отрицание жизни!
Кричал
человек внизу под скалой,
а
быть может, внутри нас самих.
Кричал и кричал. Но не слышал никто. Все очень спешили.
Спешили
уйти. Но куда?
Что-то сделать. Но что? У них не было ни минуты
для себя, ни минуты, чтобы раздеться и лечь,
и
грезить всем телом,
чтобы в зеркало посмотреть иль друг на друга взглянуть.
Они смотрелись всегда только в глаза других,
но
что там увидеть могли?
Может быть, то, что хотели увидеть, но только не то,
чем
были на самом деле.
Однажды
в столовую влетела птица. Все почему-то смутились.
Не знали, как надо на это ответить, хотя их никто
и
не спрашивал ни о чем.
Потом
рассердились,
«Прогоните ее, прогоните!» – закричали они,
вскочили
со стульев, замахали руками.
Два
бокала
разбили. Птица вылетела в окно.
Слуги подбирали осколки. Я посмотрела на них и увидела:
они
улыбаются.
Улыбались только они. Они знали птицу. Я им подмигнула
и улыбнулась в ответ. Невиновный всегда
кажется виноватым. Я уверена, вам это тоже знакомо.
Меня неотступно
преследовал страх, что меня посадят на трон.
К титулам, к власти стремится лишь тот,
кто
боится себя самого или кто ненавидит
жизнь и людей. Мне бы вовсе не нравилось
быть знаменитой, не иметь своей собственной тени,
собою не располагать, своим закоулком интимным, где можно
медленно снять сандалии с ног и ключами от ящиков поиграть
беззаботной рукою, свисающей на пол с кровати.
Бедный отец, то и дело я вспоминаю его. Лицо его было
похоже
на
сжатую руку,
которая в занавес черный вцепилась, чтобы его сорвать.
Так
что, думаю я иногда,
может быть, хорошо, что ослеп он. Может быть, наконец
он
посмотрит в себя,
понемногу он, может быть, вспомнит
то, чего не замечал. И увидит все наконец.
Потому
что доселе он видел
только собственный образ властителя
(разумеется,
приукрашенный льстиво)
в глазах у испуганных подданных. И их, и его
я с детства очень жалела. Ведь такая огромная тяжесть
–
приказывать, править. Тот, кто правит, тот властен
над всеми. И еще – подозрительность вечная
ко всему и ко всем. Тень птицы по залу
метнется в закатном луче – это брошенный нож
из металла бесшумного. Не оттого ли тираны день ото дня
–
все больше и больше тираны? Когда от других
зависит твой страх и исполненье желаний –
тогда
ты боишься всего, что у них на уме.
Поэтому лучше не править и не подчиняться
(только
как это осуществить?).
С нас достаточно власти, чьей печатью отмечены мы
с
появленья на свет.
С нас достаточно смерти,
что нас впереди поджидает, – с ней мы как-то свыкаемся.
А то, что лежит между ними – между рожденьем и смертью,
–
теряет
свою остроту. Расслабляется тело,
выцветают волосы, оконные рамы, глаза,
и ладонь разжимается, в которой лежала
золотая большая монета. И вся наша жизнь –
сплошное усилие удержать в ладони монету. Страх,
что вот-вот она выпадет, страх ее потерять.
И
приходит в негодность рука,
и часть нашей жизни в негодность приходит, и вся наша
жизнь.
Теперь
же ладонь разжалась, сама по себе, разжалась, сдалась,
и монета упала. У нас ее отобрали. На ладони остался
глубокий рубец от этой монеты. И тело
расслабилось, успокоилось. Можно уже шевелить
свободно руками. Шагать
и беспечно махать в пустоте пустыми руками.
В пустоте безмятежно руками грести, медлительно и бесцельно,
пока на глаза не положат тебе
пару медных монет.
Ложь есть
зло, любил повторять ваш отец.
В
этом расслабленном теле живет
тугая, упрямая сила. Живет ощущенье
медлительности и того, что она непростительна.
Женщины
в такие часы
обнимают, случается, статуи, целуют их в каменный рот.
И
грезят,
будто ложатся с ними в постель. Если вам приходилось
когда-нибудь
видеть
влажными губы у статуй, знайте: это следы поцелуев
страдающих от одиночества женщин.
Память, конечно, дает нам пристанище. Но и она иссякает.
Ей нужны постоянно какие-то новые образы, пусть случайные,
пусть
чужие.
Мне нравится
это окно; если выглянуть из него,
наполовину
будешь внутри,
наполовину
снаружи.
Я смотрю, вспоминаю. Мне ничто здесь не принадлежит.
Великий
покой.
Я опять начинаю, как прежде, смотреть на деревья,
на
птиц, на цветы,
на ноги охотников, которые неторопливо домой возвращаются
в
сумерках. И такая свобода в душе!
Все хотят мне что-то сказать, что-то открыть.
Иногда
я стесняюсь
этой нежности новой моей, стесняюсь ребячества этого,
что невольной улыбкой цветет у меня на губах, –
так ласточка вдруг появляется на обвалившейся крыше.
Не
правда ли, странно,
что улегся вдруг весь этот шум. Он ничего не давал мне
расслышать.
А теперь в отдаленье угас. Я ли это, по-прежнему я?
Я
– была ли?
Тогда
окружающий мир
поднимался
и опускался.
Кто-то о чем-то шептал на ухо соседу –
какие-то
судорожные движенья.
Генералы, политики, дипломаты – о, что за мерзкие люди!
Словно вызубренные наизусть, сосчитанные, повторенные.
А
какой тогда день был, месяц и год?
Неизвестно.
Революции, контрреволюции, войны (сколько раз повторялось
все
то же).
Пепел холмами на площадях – от костров, которые жгли
или по случаю праздников, или огню предавая убитых;
пепел
– все тот же всегда.
Иногда сжигали того, кто в героях ходил накануне.
Листья лавра теряли свой смысл.
Мне закрыть
хотелось глаза, будто двери в чужое жилье,
чтобы не видеть, не думать. Интриги, предательство, подкуп.
Те, кто был в позвоночнике гибким, возвышались всегда
над
другими.
Фиванцы, аргивяне, афиняне или спартанцы –
кто
в самом деле командовал?
Казалось, незримая тайная власть откуда-то издали
за
нитки дергает их.
Выйти на улицу люди решались лишь в полночь –
в
маске и с фонарем.
Ты знал человека, а он превращался внезапно в белую молнию
или
в гулкий о землю удар.
Люди от страха снова тянулись друг к другу.
Как-то
вечером сверху,
с чердака, где жил бедный студент, послышалась флейта.
Внизу
собирались на улице женщины, на колени вставали и плакали.
Сумасшедший
бил себя камнем в голую грудь и кричал: «Мама, мама!»
«Мама, хочу умереть!» – он кричал.
Проехал по улице грузовик, толпа стала таять. Флейта умолкла.
Сумасшедший помочился посреди мостовой.
Люди
снова расстались,
разошлись, опять незнакомые, снова в себя погруженные,
снова
чужие. Но тогда я была молодой,
такой молодой, что своей молодости не понимала.
И
все забывала легко. Из того окна
свисала веревка, и качалась на ней
одинокая роза. Увяла потом и она.
Звонили над городом колокола. Замолкали. Какие-то люди
приезжали, сновали туда и сюда, уезжали.
Шли порой проливные дожди. Разливались в домах водоемы.
Казалось, что город захватит вода, все в море потащит,
все
смоет.
Потом выходило солнце опять, все высыхало,
все
становилось как прежде. И сад
притворялся невинным. Блестели гвоздики. Над садом
типографии грохотали, трещали пишущие машинки.
Те
же самые люди, но в других уже масках,
входили походкой размеренной в залы, садились
перед гладкой поверхностью черных судебных столов.
Их руки были большими и алчными лимфатичными пауками.
Разворачивали рулоны бумаг. Читали, писали, заклеивали,
запечатывали,
отсылали куда-то и жестикулировали, широко разевая
огромные
рты.
Но не было звука – лишь черные дыры.
Быть может, «Да здравствует!» или «Долой!» – кричали они,
но
я ничего не различала.
Различала
я только страх. Я не знала тогда – почему.
Я
удивлялась,
как могут чего-то бояться стулья, машины, столы,
пасть дымохода, недопитое в кружке вино,
курица на тарелке, занесенная над курицей вилка,
застывшая на лету.
Прибывали
красавцы гонцы.
И рты раскрывали. Звука не было.
Правда, с этими все обстояло немного не так. Они тяжело
дышали.
Нам
нравилась
эта одышка. А их языки
были красными, красными очень, будто лето уже на дворе,
и
деревья, и реки.
Посылали тогда за слепым прорицателем. Хорошенький мальчик
вел его за руку. Это был хитроумный, степенный,
красивый
старик
с бородой до колен и с большими пустыми глазами.
(Мне казалось, что он притворялся слепым
и
борода у него накладная.)
Он держал внушительный посох и источал безмятежность
и
цельность.
Говорили, что он понимает язык птиц, огня, молчания, ветра.
На плече его голубь сидел, а сестра почему-то боялась
этого голубя, пряталась у старика за спиной,
уходила
в соседнюю комнату.
Наверно, подслушивала оттуда. Мне нравился этот старик.
Однажды
он взял меня за подбородок, поднял мое лицо.
«Ты
была бы красивее, – он мне сказал, –
если была бы ты мальчиком». «Я мальчик и есть», –
ответила
я.
И
оба мы засмеялись,
словно сообщники. А другие его не любили,
как будто он был виноват в том, что их ожидало.
Он
ударял своим посохом в землю и уходил.
В воздухе оставалось нечто подобное пуху – черному, белому,
розово-золотому.
На какое-то время все застывало вокруг в глубоком молчании,
все
как будто лишалось
смысла и веса. Приятная слабость
подбиралась к вашим коленям. Кошка влезала на стол,
жевала медленно рыбу – никто ее не прогонял.
Сквозь
оконные стекла
лился в комнату свет – беловатый, притушенный.
Ударяли вдруг барабаны. Над крепостью пела труба,
другая – подальше, в оливковой роще. Ночами
разводили костры, весть летела с одного холма на другой.
Проходили
факелоносцы.
Разверзалась во мраке дыра, первозданный хаос сочился.
И снова
пряталась ночь в темноте. Прятались люди. Я ничего не
понимала.
Нас, детей,
иногда заставляли читать перед чужими стихи.
Мы не хотели. Мы плакали. Иногда нам велели
преподносить букеты цветов некрасивому старику
со
вставными зубами.
Иногда на балкон выводили, чтобы мы улыбались толпе.
Прятали
иногда
в подвал, где стояли большие кувшины. Мы смотрели на пауков.
Капал воск. Мы хватали горячие капли. Лепили
зайцев, лодки, смешных человечков. Иногда с провожатыми
ночью
нас отправляли в поместье, к вашему отцу.
Но не успеешь сандалии сбросить, пройтись босиком по траве,
яблоко с ветки сорвать – снова ехать домой.
На крепостях то и дело менялись знамена. Кто побеждал?
Кто
бывал побежден?
Всадники спрыгивали с коней, снимали седла,
относили их в коридор. Потом садились на скамьи,
расстегивали
пояса,
стаскивали сапоги. Их большие босые ноги
пахли сосной и козлом. Женщины делали вид, что простужены,
стояли у окон, сжимая кофейные мельницы. Появлялась луна.
И мне казалось тогда: из лесов выходят лисы и волки,
ночь сверкает, как побеленная известью.
Останавливалась река. Стояли белые скалы.
Сапоги у изножья кровати разевали широкие рты.
Младшему всаднику было жарко. Он все с себя сбросил,
за
занавеску прошел.
Занавеска вдруг осветилась. На террасы ложились
золотистые
листья. Кричали петухи.
Вот тогда-то
отец и ослеп. Сразу все стало
красным вокруг, очень красным, с зелеными крапинками.
Красными стали тарелки с дырками посередине. Чуть позже
трубы запели опять. Мужчины вскочили с кроватей, мечами
опоясались, сели на лошадей. Огромная тень
на переднем лежала дворе – от утренней ли луны
или, быть может, от крылатого льва,
оседлавшего
древнюю башню.
На
кроватях теплые вмятины медленно остывали.
В них, свернувшись калачиком, плакали женщины. День ото
дня
слабела сестра. Становилась суровей. Все больше бледнела,
избегала Гемона, меня. Выходила одна вечерами.
Может, шла до фиванских ворот, может быть, толковала о
чем-то
с той львинотелою женщиной*. И глаза
ее словно врезались
в
тебя,
как два неподвижных вопроса врезались,
даже
когда на тебя не смотрели.
Было ясно: она ожидает чего-то – исключительного, небывалого.
По
ночам мы не спали.
Простыни падали на пол. Я притворялась, что сплю,
и поглядывала на сестру. Она неподвижно лежала,
неподвижно
и напряженно.
Помню,
однажды
я увидела: лунный свет до пояса омывает ее,
и она освещенными двигает пальцами, как танцовщица
или
как жрица,
будто вьет нескончаемую веревку, будто пишет в воздухе
цифры.
Может быть, годы хотела она сосчитать (или небытие)?
Потом она шею свою обвила, серебристые пальцы застыли.
Но вдруг она вздрогнула точно в испуге, встала, и мамин
белый зонтик взяла кружевной, и раскрыла его, и, съежившись,
села под ним на кровать. Она защищалась
от луны, от света, от тени. Казалось,
она продырявлена вся голубыми меандрами.
Тут я,
наверно, уснула. А когда открыла глаза,
увидела ножки кровати – волосатые, крепкие, грубые.
Услыхала – идет на работу гончар. Посмотрела в окно.
На дороге валялась пустая сигаретная пачка, флажки, салфетки,
ружейные
гильзы.
За кипарисами, во дворике скульптора,
высился медный всадник. Однажды
раздался ужасный грохот. В столовой
на середину стола, накрытого к завтраку,
упала большая люстра. Теперь уже рушилось все.
От люстры
ничего не осталось, кроме стеклянных осколков,
кроме
их блеска.
В
дверях стояли с клюками
двое больших хромоногих мужчин.
Служанки их выгнали. Мужчины ушли.
Мир опустел. Женщины больше не красились,
только слонялись по комнатам, домашними шаркая туфлями.
Лампы
зажечь забывали.
Крестом осеняли себя под распущенными волосами.
Сады
зарастали крапивой.
Ключи мы
запрятали в плющ. Одряхлевшая лошадь отца
однажды исчезла. Домой не вернулась. Одну подкову ее
прибили на дверь кладовой. Веревку для сушки белья
привязали к двум старым деревьям.
Порой в самой гуще вселенского хаоса вдруг наступала
зловещая тишина, небывало прозрачная. Все обретало
очертания новые, другое звучание, обретало характер другой
–
исполненный безразличия. Тебе оставалось одно –
смотреть
внимательно, слушать.
Куры бродили по кладбищу, целыми днями рылись в земле,
несли огромные яйца – где случится, в траве, в маргаритках,
на дороге, в кустах и на стульях. Чья-то рука
по одному из дверей выдирала большие ржавые гвозди.
Просыпались не к времени мухи, громко бились о стекла.
За стенами
множились мертвецы. Любопытство всегда меня
к мертвым влекло, но не было это попыткой
к смерти привыкнуть, с ней примириться. Я ускользала порой
от
надзора
матери, воспитателей. Забиралась на башни, смотрела
вниз из бойниц. Мертвых на тачках везли,
несли
на носилках, на лестницах.
Другие так и лежали в долине, в красивых позах,
молодые, красивые, тихие, рядом с мертвыми лошадьми.
Я
смотрела на них
без печали – такие красивые, навсегда сохранившие
верность
любви.
Но потом появились наши покойники. Мы повзрослели.
Я увидала
сестру во дворе на рассвете, была она бледной,
словно отмеченной знаком судьбы. Ее руки, одежда и волосы
–
все
было в земле.
Утренний холод пронизывал нас. Мы дрожали. С небес опускался
немыслимо белый, просверленный черными птицами день.
Но что
они поняли, боже, что приобрели?.. Остальное вы знаете.
Ничего не осталось. Лишь каменный сфинкс на скале
за воротами Фив, безразличный, ушедший в себя,
не задающий больше вопросов. Улегся суетный шум.
Время
стало пустым.
Нескончаемое воскресенье с закрытыми ставнями.
Трудно
поверить,
что вечерами еще поливают сады.
Ров молчания
– кажется, так вы сказали. Смотрите,
восходит
луна.
Шум фонтана. Вам слышно? Я вижу, у вас на руках
до сих пор сохранились мозоли от деревенских работ.
Как
это прекрасно. Надеюсь,
вы навсегда не останетесь в армии. Когда срок вашей службы
закончится,
возвращайтесь в поместье, к отцу. Эта дверь
ведет ко мне в комнату. Коридор – он выходит на юг –
не охраняется. Постучите семь раз. Ровно в полночь.
Я
вам отворю.
Мне бы хотелось кое-что для отца передать вам.
Например,
костюмы Гемона – я держу их в шкафу.
Они придутся вам впору. И его новый меч.
Рукоятка из золота, кости слоновой, рубинов. Он ни разу
не подпоясался им. Какая прекрасная ночь.
Осторожней
на лестнице.
Стемнело.
Она возвращается в комнату; на лестнице слышны еще шаги
уходящего офицера. Находит ощупью спички на маленьком
столике. Зажигает в подсвечнике все три свечи. Ударяет
в висящий металлический диск. Входит няня. «Я ужинать
нынче не буду. Сегодня ты больше мне не понадобишься.
Можешь лечь. Да, воды принеси мне и в зале часы заведи.
Мы совсем забыли про них. И возьми с собой эту корзину.
А горшок поставь на окно». Няня приносит в стакане воды
и уходит. Тишина. Она запирает обе двери. Где-то поблизости
бьют часы. Девять. Четверть десятого. Десять. Половина
одиннадцатого. Она перед зеркалом. Снимает грим. Раздевается.
Увядшие груди. На животе следы от корсета. На боках отпечатки
времени. Бьет одиннадцать. Снимает с себя ожерелья. Под
подбородком дряблая кожа. Четверть двенадцатого. В левую
руку берет подсвечник. Приближается к зеркалу. Безымянным
пальцем правой руки оттянула кожу под глазом. Глазное
яблоко мутное, с тонкой сетью красных прожилок. Подносит
пальцы к прическе. Волосы крашеные, возле корней – седые.
На застывшем лице отвращение. Углы рта опущены. Половина
двенадцатого. Начинает гримироваться. Одевается в красное.
Надевает опять украшения. Вытягивается в красном плюшевом
кресле. Против зеркала. Закрывает глаза. Двенадцать. Семь
тихих ударов в дверь. Молчанье. Опять семь ударов, теперь
посильнее. Молчанье. И снова удары. Потом ничего. Неизбывность
молчанья. Блестит на столе стакан. Она поднимается с кресла.
Приближается к зеркалу. Гримируется снова. Белая, точно
гипс. Глаза огромные, черные. Гипсовая маска. Переодевается.
Надевает платье сестры, каштановое, закрытое, свободное
в сборку. Надевает пояс с широкой пряжкой. Выдвигает ящик
комода. Что-то оттуда берет. Встает спиною к подсвечнику
и пьет из стакана воду, пьет короткими глотками, будто
принимает аспирин. Вытягивается на кровати – в платье,
в сандалиях. Лежит неподвижная. Очень спокойная. Закрывает
глаза. Улыбается. Засыпает? Где-то поблизости бьют часы.
Афины, сентябрь
– декабрь 1966. Самос, декабрь 1971
Перевод Мориса Ваксмахера
__________________________
* Львинотелая
женщина – Сфинкс, крылатое чудовище с львиным туловищем
и головой женщины
|
|