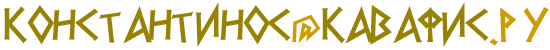Летние
сумерки. Пустынный берег острова, может быть, Лемноса. Небесные
краски понемногу выцветают. В скалистой бухте на якоре стоит
судно. Слышатся голоса и смех: чуть дальше по берегу купаются
моряки, забавляются играми и борьбой. У входа в пещеру, которая
служит жильем, сидят двое: один – густобородый красавец, в
расцвете сил, с мужественным, благородным лицом; другой –
крепкий юноша, его пытливый взор исполнен страсти. В лице
его что-то от Ахилла, но черты ею мягче – не Ахиллов ли это
сын, Неоптолем? Узкий, бледный серп новолунья нерешительно
и медленно пробирается по небосводу, серебристый в отблесках
лиловато-розового неторопливого заката. Старший, который провел
много лет в одиночестве, должно быть, долго говорил, обращаясь
к Юноше – случайному собеседнику, появившемуся здесь часа
два назад; и теперь он снова молчит, углубившись в себя, удовлетворенно
и устало, но усталость его отмечена человечностью и печалью.
Высокое чело омрачено тенью каких-то смутных мучений, И все
же он не сводит взора с прекрасного лица Юноши, словно в ожидании.
В глубине пещеры поблескивает его оружие: большой щит искусной
работы с изображением подвигов Геракла и три знаменитых копья,
которым нет равных. Юноша, словно приняв трудное решение,
говорит:
Высокочтимый друг, я был убежден
в твоей глубочайшей мудрости.
Мы, молодые,
которые призваны, как говорят, в последний миг, чтоб пожать
славу, добытую вашим оружием,
вашими ранами, вашими жизнями,
ценим ваши заслуги, однако и мы
носим раны – правда, другие,
незримые раны.
И никто из нас, молодых, не положит на чашу весов ни доблесть,
подобную
вашей,
ни благородную кровь, что была бы пролита зримо,
в
зримых сраженьях, в зримом боренье.
Пусть бы нас миновала подобная слава –
да
кто б ее требовал?
Нам и часа свободного не оставалось – мы только платили
чужие долги, выкупали чужие залоги. И времени не было,
чтоб увидеть, как утром чья-то рука отворяет окошко напротив
и вешает клетку с канарейками на гвоздок –
этот жест безыскусный никому как будто не нужен
и
все-таки необходим.
Все разговоры взрослых – только
о павших героях.
Странные, жуткие речи нам слышались даже во сне,
пробирались под двери, через трапезный зал,
где кубки сверкали, где раздавались заздравные клики и где
ткань незримой плясуньи беззвучно вилась,
подобно зыбкой невидимой грани
между жизнью и смертью. Этот трепет,
ритмическая прозрачность ткани
как-то скрашивали ночи нашего детства, растворяя
тени щитов на белой стене в медлительном струенье
лунного
света.
Вместе с нашей едою
готовили пищу для мертвых. В обеденный час
забирали сосуды с медом и маслом
и уносили к неведомым погребеньям. Мы не отличали
амфор с вином от погребальных сосудов. Не знали,
что для нас, что – для мертвых. Звон ложки о блюдо
казался грозным перстом,
ударяющим нас по плечу. Мы оглядывались. Никого.
За стенами наших покоев – барабаны
и трубы,
красные всполохи и глухие удары кузнечного молота
в
таинственных кузнях,
где денно и нощно ковались щиты и мечи,
и другие удары – в подвалах ваятелей,
где готовили статуи – богов
войны и людей,
но
отнюдь не певцов и атлетов;
и
еще надгробные стелы
с обнаженными юношами в полный рост,
заставлявшими нас осанкой своей забывать
о вечно простертых в смертном покое. Лишь изредка
голова склонялась на чуть изогнутой шее,
как цветок над пропастью; пропасти, впрочем, не было видно
–
мастера прилагали усилия (или им было приказано)
скрыть пропасти или иное в этом же роде.
То была протяженная белая галерея (такая она и сейчас),
где по обе стороны стояли надгробные стелы. И нам запрещалось,
хоть ненадолго, задерживать взгляд на стройных телах
или на мраморном завитке, случайно упавшем на лоб,
словно от внезапного дуновенья благоуханного ветра
в золотой летний полдень- да, мне чудится запах
цветущих лимонов и солнцем нагретой ивы.
Великие
наши предтечи
нам передали наследье – но
кто их об этом просил ? –
пусть бы досталось нам малое, но наше; мы не желаем,
чтобы их мерой нас мерили – да
и какая вам польза?
И
какая выгода нам?
Мне понятен, высокочтимый друг, твой уход
под ясным предлогом – страдания
тела,
а не ума и души. Прекрасный предлог –
змеиный укус (не укус ли премудрого змия?),
чтоб остаться и жить в одиночестве – тебе,
для себя –
пусть даже не жить, а свернуться кольцом, как змея,
что кусает свой хвост (я часто жаждал того же!).
Может быть, ты в своем одиночестве мечтал о воздаянии,
чтоб воздалось пусть не тебе, но хотя бы признали значенье
твоего оружия. И вот совершилось,
не скрою – за ним я пришел,
ты о том догадался, –
оно наконец принесет грекам победу
(таково предсказанье), оно принесет – моею
рукой.
Но сперва я пришел за тобой. Я не взял бы
твою амуницию в обмен на славу или в уплату
за спасенье, которое предлагаю: принять тебя на корабль
с твоими неизлечимыми ранами, с твоим одиночеством –
разве
это спасенье?
Такие слова теперь произносятся всуе – это
вошло в привычку, –
и что тут скажешь? – не
успеваем сперва осмотреться вокруг,
а
потом уж сказать.
Факельщики пробегают в ночи. Свет факелов позлащает дорогу.
Изваянья богов, на миг освещенные, сверкнут белизной,
как настежь раскрытые двери в огромной стене. И снова
тени их каменных рук упадают на эту дорогу.
И ничего не видать. Как-то вечером я наблюдал,
как ошалевшая толпа вскинула человека на плечи,
его восславляя. На него опрокинулся факел,
волосы вспыхнули. А он и не вскрикнул.
Он был давно уже мертвый. Толпа разошлась. И остался
только вечер в лавровом венце,
осыпанный
золотою листвою созвездий.
Выбора, кажется, нет – да из чего выбирать?
Помню, когда был ребенком, из гостевых покоев дома
слышались
мне
громкие, мужественные голоса наших гостей:
перед сном, раздеваясь,
забывали они планы военных кампаний, борьбу
честолюбий,
тщеславье;
невинны и чувственны в плотской своей наготе,
они, быть может, невольно касались собственной груди,
присаживались на краю ложа, расставив колени,
забыв с них убрать разгоряченные руки,
пока не окончат забавное повествованье
под смех и скрипенье кроватей.
Я слушал их, притаившись за дверью, украдкой
разглядывая их щиты и мечи,
расставленные вдоль стены, отражавшие лунный
таинственный
свет,
проникавший через застекленную дверь, и чувствовал
растерянность и одиночество,
словно именно в эту минуту надлежало мне сделать выбор
между оружьем и смехом (и то и другое им принадлежало).
Уже я боялся,
как бы не встал среди ночи отец, как бы меня не застал
под
дверьми,
не увидел, что трогаю вооруженье, а главное, боялся того,
что он поймет, что я слышал их смех, и разгадает
тайну моего выбора. Я поэтому не приближался к покоям гостей;
только улавливал их голоса,
которые словно проходили под вереницею арок вдоль галереи
–
то
исчезая в тени, то на свету возникая, –
а порой заглушались
цокотом конских копыт во дворе. А порой я пугался
большущей тени, мне падавшей под ноги, – это конь
подходил к застекленным дверям и заглядывал внутрь,
бросая тень на чеканку щитов.
Так же огромна была и отцовская тень: она ложилась на дом,
целиком затмевая окна и двери;
мне порою казалось: чтобы увидеть солнечный свет,
придется просунуть голову у него между ног.
Но пугало меня пуще всего прикосновение ляжек отца
к
моему затылку. И потому я готов был
оставаться дома, в благословенном полусумраке комнат,
среди верной мебели, податливой мягкости занавесей
или в пустом зале с изваяньями –
их я любил.
Там царили тишь и прохлада, когда снаружи,
в оливковых рощах и среди виноградников, надрывались цикады
в золотистом мареве полуденного зноя. На полу пересекались
мягкие и соразмерные тени от статуй,
образуя прозрачные голубоватые ромбы; и порою мышонок,
осмелевший в тиши,
не спеша пробегал по ногам изваяний и замирал;
его глазенки, похожие на капельки масла,
настороженно
взглядывали на узкие окна,
а острое рыльце, как мягкая стрелка, обращено было
в
бесконечность
от имени всех изваянных в мраморе: мышка – их маленький друг.
Отец не любил изваяний. Я никогда не видал, чтобы он
когда-нибудь стоял перед статуей; может, он сам уже
превратился в собственное изваяние,
в конный бронзовый монумент,
непреклонный
и надменный. И только
дружба его с Патроклом
делала его ближе, словно он, широко шагая,
сходил со своего пьедестала
и скрывался между деревьями. Странным казалось лишь то,
что не скрежещут соединения звеньев
на медных его коленах.
И мать моя – тоже тень, тень бесплотная,
далекая, легкая – словно всегда ощутимая нежность,
которой никогда не было. Возвращаясь с охоты,
мужчины еще в отдаленье от дома
сквозь деревья видели западное окно,
как бы подвешенное к веткам и парившее в воздухе,
отдельно
от дома,
и там, в темной раме, – мою мать,
тоже словно висящую в пустоте; она созерцала
дальний закат, окруженная золотистою дымкой. И мужчины
думали,
что это их она ожидает, жадно глядя на дорогу.
Лишь
много позже
поняли мы, что она отсутствовала,
что
и впрямь пребывала в пустоте.
На лице ее угадывалась неотчетливая тень от веревки,
когда, чуть заслышав возвращенье охотников,
она, спохватываясь, меняла выражение лица и рукой отводила
прядь, черную как смоль, – словно отводя ее от глаз,
а на самом деле отмахивалась от тени той веревки;
мы
понимали это потом,
когда звучал над вечерним озером последний рог,
с фасада беззвучно отлетал кусок штукатурки,
а вся долина курилась золотистой и розовой дымкой,
пересеченная
синими тенями деревьев,
и псы, забывая усталость,
свешивая языки, скакали, едва касаясь земли,
словно
в экстазе они устремлялись в небо.
И тут уже вечер наполнялся радужными переливами перьев
отстрелянной дичи, сваленной на каменный стол
под
открытым небом,
там же на блюдах возвышались лиловые, янтарные,
багряные
груды винограда
и стояли чаши с родниковой водой. И мать,
печально
мне улыбнувшись,
говорила: “Вот видишь, а ты хотел быть птичкой” –
и приказывала служанкам ощипать птицу к ужину,
там, на заднем дворе, куда сиянье горы
изливалось, как расплавленный, брызжущий искрами металл,
сквозь темные кипарисы, которые одиноко и сурово
хранили загадочное, исполненное смысла молчание.
В тот час охотники – в поту и в пыли,
с пушинкой репья в волосах,
с сосновой пыльцой на плечах –
вступали в баню, откуда слышался
плеск воды и запах мыла, смешанный
с ароматами сада: с запахом нагретой смолы, розмарина,
мяты,
герани –
это свежее благоухание хотелось пить большими глотками.
Садовник
ставил на каменную скамью огромную лейку и говорил
приветливо и почтительно “добрый вечер” хозяйке дома,
прежде чем начать разговор о цветах, о свойствах семян,
о болезнях плодов и листьев, о вредителях и насекомых.
В листве эквалиптов
тысячи птиц разливались хвалебным пеньем,
словно
ярмарочные зазывалы, а внизу
служанки ощипывали их собратьев. И приходил вечер,
неизбежный, медлительный, тихий, в оперении легком,
золотисто-зеленом,
с тусклым красным пятнышком у корня. Однажды
такое вот перышко застряло в волосах матери
и бросило на нее тень. И я, незаметно
к ней подобравшись, украдкой то перышко вынул –
не
мог допустить,
чтобы чужие грехи бросали тень на нее. Она
невольно вскрикнула, словно вынули кинжал из груди.
А еще я помню: она заслонила руками светильник,
чтобы пламя прикрыть от ветра; и руки
стали розово-прозрачны, как розовые лепестки, –
это был волшебный цветок, и между ладонями пламя
казалось диковинным пестиком. Потом я заметил ключи,
позабытые ею на каменной лестнице
среди охотничьих сумок и луков, и вот что я понял:
эти руки ничего уже больше не отомкнут –
так они одиноки и так беззащитны, навсегда заключенные
в прозрачности собственной. Если она говорила,
то казалось, что главного не произносит; и губы едва
были видимы в тени ее длинных ресниц.
И еще вспоминается полдень: она под деревьями воду
пила, и я вновь увидал ее руки – они были прозрачней
сосуда, который держали; и тень от него
лежала в траве светлым, чуть различимым кружком;
в центре села пчела; крыльца ее чуть светились,
словно ее окружал ореол неизбывного счастья.
Это было последнее лето перед тем, как пришел мой черед.
Я так много сказал о матери, друг мой, может быть, потому,
что
в руках твоих чудился мне
отсвет рук ее. Все, к чему прикасалась она,
становилось вдруг дальнею музыкой, и нельзя ее было коснуться,
только слышать. Нет, даже не слышать. Оставалось одно лишь
позабытое эхо, неуловимое чувство – но только не знание.
И вот другое уже освещение – костры военного лагеря,
обнаженные
торсы,
багровые от огня, словно в крови,
словно с содранной кожей – звериные, плотские,
бесстыдно-страстные – и это как скотобойня,
где висят на крюках по ночам требуха и кишки, –
и звезды меркнут от света костров,
а рядом, в канавах, сточные воды несут
кровь, сперму, мочу, испражнения, грязь,
и вдали в красноватых отсветах мечутся тени,
пока луна не раскроется, словно мягкие, влажные губы,
и не настанет час угрызений, раскаянья, час созиданья.
Тогда становился слышен поток,
шумевший
внизу под деревьями, –
звонкая свежесть – разве надобно знать, куда он течет?
Один за другим дотлевали костры. Огромные птицы,
спавшие в кронах, приоткрывали глаза,
которые тускло светились в листве.
Мужи искали в волосах на груди и в лобке насекомых;
застенчивые юноши с почти гладкою кожей
неожиданно вздрагивали от ударов в сосках,
словно от сладостных стрел, пригвождавших их к пологу ночи,
и брюшные мышцы, сокращаясь, как канатом, опоясывали
их
чресла.
Часовые
разували сандалии и скребли между пальцами ног,
скатывая черные, жирные шарики, разминаемые часами,
мягкие шарики, странные фигурки,
которыми они для забавы выстреливали во тьму. Потом
шумно и долго обнюхивали пальцы
и были похожи на красивых животных, впадавших в оцепенение
и
погружавшихся в сон.
Большие щиты, составленные на земле,
отзывались долгим металлическим гулом на удары
звездных копий, острых и длинных. В их выемках
были надежно упрятаны свитки с приказаньями командиров.
Над
шатрами
огромным обглоданным рыбьим скелетом горел Млечный Путь.
И было почти
как тогда, летом, в давние годы: страх
перед невидимым, призрачным вором
или
перед обычным грабителем –
вдруг он вспрыгнет в комнату через окно или двери балкона?
–
мы тогда не умели беречься (да и теперь не умеем):
нас
отвлекает
звон комара, журчанье лунного света,
звук тайного поцелуя, усиленный сводами, –
так женщина, успокоенная безлюдностью поля,
мирно
присев по нужде,
ощущает на бедрах острые жальца былинок и звезд.
Это чувство извечного похищения – даже скорей грабежа,
молчаливого, тайного, постоянного. Вдруг занавеска в спальне
трижды дернется, словно запляшет от зноя,
с явным намерением фиксировать наше внимание
на златотканом подоле женского платья, и повиснет
в безветрии тускло-синим чехлом какой-нибудь статуи –
гранитного изображения ночи или каменного похищения, –
и вновь стрекотанье сверчков, словно звук тонкой пилы,
или благотворное кваканье лягушек,
или сухое копошенье тараканов, делающих круги внутри шлема.
Уточнять нам было некогда. Не закончив считать звезды,
мы забывались сном. На рассвете
сова, ослепнув, возилась на ближней ветке,
и ее молочные буркалы уставлены были в нездешнюю даль,
и тень горы Этны исподволь уползала с равнины,
как гигантская черепаха, втягивающая ноги под щит.
Потом над краем небес откликалось солнце. В небе
пылали все шестьдесят четыре копыта его коней,
а внизу ответно отсвечивали телеги с волами. Скрипели ворота.
Толчея на базаре – разносчики фруктов, торговцы,
горы плодов, овощей, крестьяне с ослами.
Не успевший проспаться мудрец молча шатался
меж двумя рядами бычьих туш. Гончары
вдоль дороги выставляли ряды кувшинов,
словно строили глиняные войска. В гимнастических залах,
еще прохладных от утренней свежести
и
освещенных косыми лучами,
из раздевален выходили бегуны для разминки,
делали небольшие круги, словно в воздухе птицы. Солдаты
на плацу начинали драить большие котлы походных кухонь.
Лохматые женщины вытрясали в окнах
ослепительно-белые простыни. Ярко сияли
метопы храмов и верхние ярусы стадионов. Этот блеск,
слепой и слепящий, словно и впрямь стремился
что-то скрыть – и скрывал – но что, похищение? И были еще
огромные глиняные сосуды в садах и подвалах
и золотые маски с пустыми глазами и пристальным взглядом.
Краткое молчание; та же неясность сути; комплот.
Подрастали бороды, волосы, ногти, члены;
постоянные новости о павших и о героях, и опять о героях;
останки коней под сухим кустарником склонов;
все удушливей смрад от немытого тела. Иногда вдалеке
проходила под вечер женщина с кувшином на плече.
За ней ветер пересекал дорогу. Вечер
облегал складку какого-то знамени. Вдруг раздавалось
загадочное “нет” какой-то звезды, а затем
на ночь затихал топот коней,
и от этого звезды над рекой казались еще молчаливей.
И ни у кого не хватало времени вспомнить, подумать, спросить
–
ибо всё в движении, кратковременно, отрьшисто, незавершенно.
Со временем вопли по убитым и победные клики
теряли отличие – и так же неотличимы
становились друзья и враги.
Только ночью, когда тишина расстилалась от края до края,
когда
затихало сражение,
становились слышны стоны раненых на каменистом поле;
и луна была как выпученный глаз убитого коня –
только
тогда
мы понимали, что всё еще живы.
И тогда весь ночной небосвод, казалось,
лукаво
подмигивал тысячью глаз:
мол, надо отнять то, что у вас уворовано,
пускай
это будет кражей,
Там, внизу,
на светлом песке побережья, черные туши наших судов
в каменной неподвижности замышляли новое плаванье –
каждый блик намокших весел отдавался
ударом пульса в запястье. Легконогие вестники,
бесшумней летучих мышей, сновали туда и сюда, оставляя
след, быть может предательский, на гальке
или
в колючках кустарника –
черное перышко, ремешок от сандалий, серебристую пряжку, –
и тогда на заре, после подъема, надо было тот след уничтожить.
Нам уже чудилось, что слышим из леса
стук
таинственных топоров,
которые валят деревья. Гулкий удар раздавался, когда
падало дерево, и спугнутая тишина
спешила укрыться сзади нас. Казалось мне – я уже вижу:
конь Троянский, чудовищный и пустотелый, зловеще лоснится
при
свете созвездий,
внушая ужас, почти что священный, и его баснословная тень
ложится на стены. Я мог уже вообразить
себя и других в его темном нутре, себя в его шее,
неудобно лежащим и всматривающимся сквозь пустые глазницы
в
стеклянную ночь,
словно вися в пустоте и понимая,
что грива, которая вьется над загривком моим, –
не моя. Как и, впрочем, победа. И все же
я
был готов совершить
этот гигантский и бесполезный прыжок в неизвестность.
Так, неудобно лежа вверху, в дощатой глотке коня,
я ощущал, что как бы проглочен и все-таки жив и могу наблюдать
два противных стана, костры, корабли, небеса –
привычное, страшное, несметное – как говорят, чудо
Вселенной, словно я кус, застрявший в глотке безмерности,
и
я же –
мосток меж двумя отвесными неизведанными берегами, –
мосток, без сомнения, призрачный,
из
дерева и злосчастного хитроумия.
(Именно сверху, оттуда, мне думается, среди ужаса
я впервые узрел спасительный блеск твоего оружия.)
И позже, в жаре бесконечного полдня,
когда
битва на время стихала,
или на марше, во время привала, нас одолевала жажда –
ничего, кроме жажды. Мы вслух не называли “жажда”, “вода”;
лишь в растерянности наклонялись, якобы для того,
чтобы
подтянуть ремешок на сандалиях,
и так, наклонившись, видели все опрокинутым:
местность, людей и себя,
картину чем-то успокоительную, обманчивую, четкую,
в
изломанных линиях,
как отраженье в воде. Но воды-то и не было. Нас жажда томила.
Дорога была теперь совершенно пустая. По обе стороны
обвалившиеся колодцы, опоганенные трупами. От зноя
лопался камень. Неистовствовали цикады. Горизонт
был известкой и пляшущим пламенем. Под беспощадным солнцем
в седловинах стен вспыхивали острые осколки стекла,
разъединяя сотоварищей, друзей по оружию. И этот разящий,
ликующий свет ничего не скрывал. Я видел,
как храбрейшие воины посыпали голову пеплом, как пепел
перемешивался с их слезами и черные борозды
до подбородка стекали по заросшим щекам.
Те, что недавно нагишом купали коней на морском берегу,
золотистое масло втирали им в гривы, и лоснились тела
людей и коней в ярком утреннем свете; те,
что вечерами плясали у костров, чьи пятки
блистали жарким багрянцем, – нынче, скукожившись,
сидят среди скал, злобятся и брюзжат, прикрывая
срам руками, не знают, куда себя деть от стыда,
словно на них вина или кто-то перед ними виновен.
А может, завидуют
юным воинам, прекрасным в своей беспечальности, завидуют их
безрассудной
отваге,
восторженным и беспечным речам, а может быть, больше всего
их тяжеловесным, блистающим кудрям, в которых здоровье
и
страсть.
А ведь и эти мужи отправлялись в поход
с
беспечальной наивностью,
с тайной и честолюбивой мечтой переделать мир. Отправлялись
вместе, но все же в отдельности, и вот убедились
и
ясно увидели:
каждый из них отправился в путь по своему побуждению,
со
своим честолюбием,
лишь под прикрытьем великой общей идеи и цели –
не
покров сей прозрачен,
и все отчетливее проступают под ним устремления каждого
и злосчастье и мелочность всех. И можно ли было, мой друг,
внести в этот хаос порядок? И как среди них оставаться?
Теперь-то
я уразумел.
По ночам, когда на кораблях простые воины спали устало
на
палубах, вповалку, словно мешки,
прекрасны в юном своем легковерии,
безмятежны, чисты чистотою животных, совершенные телом,
окрепшим в труде на полях, в мастерских, на дорогах,
послушны велению или зову неверной надежды,
взирающие на мир простодушно, как овцы,
которых ведут на заклание ради чужой корысти, и все же
улыбающиеся во сне, и бредящие, и храпящие,
проклинающие приснившуюся корову или беспрестанно твердящие
женское имя, полуобнаженные, во власти ночных вожделений
плывущие в океане таинственно вечного звездного света, –
в такие вот ночи
слышал я сквозь плеск вёсел грозные окрики и ссоры
вождей, дележи невзятых трофеев, недобытой славы.
Я видел в глазах
их злобу ко всем, дикую жажду главенства,
но глубже, под этим, словно гнилушку
под
сводами темной пещеры, –
одиночество. Под покровом бород
ясно вставала их нагая судьба,
словно
за оголенными ветками леса –
дикое поле, где под луной белые кости.
Это знанье было как счастье – как избавленье,
как успокоительное откровенье, как томная расслабленность
от соприкосновения с вечностью и небытием. И однако,
еще я мог видеть, хотя бы мгновение, то, что скрыто от взоров
за щитами, за копьями – в прогал между ними:
край океана, отблеск зари, округлость колена, –
и почувствовать радость всему вопреки. Любой, самый маленький
повод
–
и весь этот ужас, невольный и безграничный,
рассеивался
в пространстве,
как темное, легкое облако в просторе небес.
Помню ночь, когда плыли при полной луне. В ее свете
все лица казались золотыми посмертными масками.
Воины обмерли и переглянулись,
словно не узнавали друг друга или впервые
увидели. И вдруг как один
уставились на луну
и на мгновение замерли над вечной подвижностью моря,
безмолвные и завороженные, словно уже упокоились
и
перешли в бессмертье.
И сразу, словно в чем-то почуяв себя виноватыми,
словно
не в силах
нести это тяжкое, невесомое бремя, стали орать,
гоготать, бесноваться, мериться статью мужской,
натираться выжарками сала, скакать, плясать и бороться,
смеха ради читать по обглоданным дочиста бараньим лопаткам
шутовские прорицания и похабные байки –
всё, думаю я, для того чтоб поскорее отшибло то откровение,
ту
отвлеченность.
Может, и ты в такую же ночь
в перекличке чужих голосов вдруг явно узнал,
что твой голос не слышен, – как я тогда, в полнолунье.
Я слышал, да, именно слышал, что я не кричу. Я стоял,
не двигаясь с места, в людской толчее – и один;
даже среди тех, кого я любил, – один,
как в пустоте и как в высоте,
слышал я с поразительной ясностью все голоса и свое
молчание. И с той высоты
я вторично увидел блеск твоего оружия. И – постиг.
Может, и ты, досточтимый друг, в такую минуту
принял решенье уйти. И тогда-то, сдается,
подставился жалу священной змеи. Ведь ты уже знал,
что нужны не мы (ты об этом обмолвился), а наше оружье.
Но оружье твое – это ты сам, ты честно добыл его
дружбой, трудом и потерями; оно перешло к тебе
из рук, * задушивших семиглавую гидру и * сразивших
Аидова стража. Ты все это видел
воочью, ты все это прожил – это и есть наследство твое
и твое образцовое вооруженье. Только оно победит. А теперь
научи меня с ним обращаться. Час пробил.
Может, когда-нибудь скажут, что я один – победитель,
позабудут,
чье это оружье и кто его сделал, а может, не скажут,
впрочем, что тебе до того? Все равно за тобою –
победа побед, которой нет равных (как сам ты сказал), –
это знанье, отрадное и запредельное, что нету победы.
Сам ты, снявши рубаху, ее повесил на ветку,
чтоб в обман введенные путники сказали: “Он умер”.
Сам же, таясь за кустами и слыша,
как тебя именуют умершим, ты жил,
бытие ощущая всей плотью; а после ты вновь
мог носить это рубище мнимой погибели,
пока не стал великим безмолвием собственной жизни –
каков ты сейчас.
Старое, со ржавчиной крови копье, побывавшее в битвах,
одинокое, смирное, без надобности стоит
у скалы, и медное его острие
на фоне лунного диска ломают удары лучей.
Оно изогнется, как многотерпеливый перст
над лирой – над вечною лирой (как сам ты сказал).
И
я, кажется,
понял, куда обращен твой благодарственный взор.
Вдруг на память пришел яркий закат над морскою гладью –
полный штиль, забытый, неправдоподобный, –
открытая
беспредельность
вод и небес; ни островка, ни мыса,
и то ли летит, то ли плывет чреда прозрачных триер
в зарослях сказочных роз. Их бесшумные ровные весла
словно косые и влажные полосы света. Один из гребцов
пытался запеть, да так и осекся
со ртом, разинутым, словно сквозная дыра,
в которой тоже блеснула морская гладь.
Тогда и я развязал свой кушак и почувствовал –
с какой-то потусторонней бесспорностью –
неотвратимую и непонятную уверенность собственных жестов.
Было так, словно я
расслабил петлю, что веками меня удушала. А затем
опустил конец пояса в воду и глядел, как он чертит
плавную линию на просторной воде
и в пальцах моих отдается покойный,
чуть ощущаемый трепет. Снова
пояс вытянул я из воды и, как был он мокрый,
вновь туго его на себе затянул.
Иногда свет вечерней зари снисходит как озарение –
не
так ли? –
он весь отражен в воде
и слит со своим отраженьем, он самочинно сияет
на грани ночи и дня – как свободное совпаденье
ночи и дня. Этот свет –
и преходящий и вечный – золотая броня,
надежно прикрывшая грудь. Но прежде всего
это неразрушимая и тончайшая воздушная прослойка
между кольчугой и телом, она отжимает внутрь
подъятие груди при вздохе. Бывает,
вздохнув глубоко, мы чувствуем тайное прикосновенье сосцов
к металлу, охлажденному свежестью вечера, –
и это ни с чем не сравнимое наслажденье тем,
что
не является сущим,
рождает сладкую дрожь.
Могу показать тебе след от пояса на животе –
вдавленный отпечаток кольца от пряжки. О да,
свобода всегда замыкает и стискивает
тело, во всяком случае пятку. Зато
туго затянутый пояс заставляет расправиться грудь.
И острая боль отчужденья потом исчезает.
Но пусть хранят нас боги от плена – каков бы он ни был, –
даже от плена ярчайших прозрений, чтоб мы не лишились навеки
нежного простодушества преображений
и высшего дара слова. Может, это все страшило тебя
лишь потому, что ты был одинок, и еще потому,
что
не было никаких предметов вокруг –
не для какого-то прока, а лишь для того, чтоб их можно было
потрогать,
сравнить и помыслить,
чтоб сопоставить их с бесконечностью, чтоб взвесить то,
что
не весомо.
Хотя бы для этого возвратись вместе с нами. И я никому
не выдам гордых страданий твоей одинокой святости.
Никто не поймет и никто не устрашится
первозданной радости твоей свободы. Вот маска героя –
я тайком ее спрятал в мешок, – она может скрыть
прозрачные и неуловимые выраженья лица. Надевай ее.
И
– в дорогу.
Когда мы прибудем в Трою, деревянный конь,
о
коем была уже речь,
будет построен. В него я и спрячусь с оружьем твоим. Этот
конь
станет личиной моей и оружья. Только так
мы добудем победу. И это будет победа
всех эллинов и их богов. Ничего не поделать –
лишь такие бывают победы. Не медли.
Десять лет истекло. И конец войны уже виден.
Ступай, погляди на то, что предвидел ты сам. Взгляни,
за
какую добычу
положили мы тысячи жизней и на сколько междоусобиц
обменяли прежних врагов. Средь развалин,
над которыми встанут до солнца прямые столбы дымов,
среди груды поверженных тел, уроненных щитов, колес
от
боевых колесниц,
сквозь стон побежденных и победные клики твоя улыбка
понимания и доброты нам будет лучом,
а терпение и молчанье – перстом указующим.
Идем. Ты нам нужен не только во имя победы,
ты
нам будешь нужней
после победы – когда те, кто останется жив, взойдут на корабли,
чтоб вернуться домой
вместе с Еленой – на десять лет постарела она,
речь ее изменилась, другим стало зренье,
и прячет она под златоткаными длинными покрывалами
свое отчужденье, старенье;
под покрывалами прячет и наше она отчуждение,
и
угрызение совести, и боль, и отчаяние;
весь неотвратимый ужас вопроса:
зачем мы пришли, за что воевали, зачем и куда возвращаемся?
Мне кажется, что даже у небывалых красавиц к старости
пробуждаются материнские чувства, и тогда они –
воплощенная
мягкость и терпение,
сама любовь и нежность, преображенные в потребность
оправдать неизбежность потерь и ошибок, оправдать
ушедшие
десять годов.
И тогда эти женщины
обеими руками хватаются за связку ключей на поясе –
обычный женский жест при болях в пояснице, –
прекрасные женщины, легендарные постаревшие матери,
последним жестом простодушной своей святости
пытаются
скрыть от нас,
что ключи эти уже ничего не отопрут.
Как нам выдержать этот взгляд Елены
из-под темных сияющих покрывал,
в мягком свете звезд, в безвестной ночи,
когда гребцы молчат и мерно ударяют весла
в таинственные морские барабаны возвращения –
ритм невозвратного?
Хотя бы ради этого часа побудь с нами. Это нужней,
чем даже оружье твое. И ты это знаешь.
Вот маска. Надень. И пошли.
Густобородый
муж, спокойно все выслушав, принял маску и положил ее на землю.
Он ее не надел. Лицо его начало постепенно изменяться. Оно
становилось моложе, отчетливее, реальнее. Казалось, что оно
уподобляется маске. Долгое молчание, ожидание. Падает звезда.
Юноша почувствовал едва заметное дуновение ветра, волосы его
посередине головы сами распались надвое, словно их разделил
тонкий золотой гребешок. Снизу, от берега, слышалась песня
мореходов, какая-то простая народная песня о канатах, о мачтах,
гребцах, звездах, великой тоске и отваге, о терпении – в ней
все темное искрометное море и вся его беспредельность в человеческих
мерках. Может быть, и Отшельник когда-то знал эту песню. Может
быть, из-за нее он и принял решение. Он спокойно встал, принес
из пещеры вооружение, отдал его Юноше и, пропустив его вперед,
пошел следом за ним к берегу. Шагая между камней и колючих
кустов, он видел, как отсвечивает его оружие в звездной ночи,
слышал, как отзывается металл на песню моряков. И ему показалось,
что он следует не за Юношей, а за своим оружием – туда, куда
издавна направлены были его отточенные острия, – против смерти.
А маска так и осталась среди скал у входа в пещеру: она тоже
сияла в таинственном покое ночи, словно выражая поразительное
и непостижимое согласие с происходящим.
Афины, Самос.
Май 1963 — октябрь 1963
Перевод Давида Самойлова
|