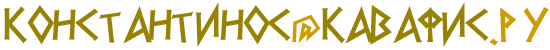Тихий послеполуденный
час на исходе лета. Жара. Редкие облака. В воздухе слышно
уже дуновение осени. Юная журналистка, командированная
крупным газетным концерном, поднимается на легендарный
холм, минует неохраняемые теперь пропилеи, всходит вверх
по каменной лестнице и стучит молоточком в дверь полуразрушенного
аристократического дома. Ощущает ладонью тепло металла.
Старая госпожа сама спускается вниз, чтобы открыть. Проводит
посетительницу в большую гостиную, где пахнет плесенью,
пылью, увядшими розами, ветхим шелком, слежавшимся бархатом.
Девушка держится очень почтительно. Объясняет хозяйке
причину визита. «Взять интервью»,– говорит она. И добавляет
что-то еще – о «девственной и молчаливой, и отрешенной
свободе ее». Хозяйка заметно взволнована, на морщинистом
бледном лице проступает детский румянец, правой рукою
– большим и средним пальцами – вертит она диковинный перстень
на безымянном пальце левой руки. Слушает гостью с учтивым
вниманием, в котором, однако, сквозит рассеянность, замешательство
и какая-то внутренняя работа, происходящая в ней. Молчанье.
Поблескивают запылившиеся подвески хрустальной люстры.
Из сада доносится голос садовника, старческий, кроткий;
садовник как будто беседует с птицей, а может, с собакой,
с цветком. Внезапно и яростно застрекотали цикады. И Старая
дама, словно опору найдя и защиту в этом привычном, обыденном
шуме, говорить начинает – сдержанным тоном, в котором
звучат отголоски далекого странного счастья. На окно прилетела
птица. Одобрительно глянула. Улетела.
Как случилось,
что вспомнили вдруг обо мне?
Ведь
меня не помнит никто. Никто никогда
меня не замечал. Я не жалуюсь, нет. Мне было всегда хорошо.
Оно ведь, я думаю, лучше, когда тебя не замечают.
С течением времени всё,
пусть самое страшное, горькое, нам представляется необходимым,
полезным, даже прекрасным. Вот и грубая эта гора надо
мною
другом была мне, меня защищала, тенью дарила своей.
В моей незаметности вечной мне была уготована радость
все
видеть и слышать,
право свободно мечтать. Это было прекрасно – я словно
жила вне истории, в личном, моем, абсолютном,
для
других недоступном пространстве,
жила защищенной от мира – и все же присутствуя в нем.
Помню, часами могла я смотреть
на воду в стакане, где медленно гнили
стебли забытых цветов – что-то бархатно-мягкое, скользкое
мутно витало в стекле, расползалось по комнате и по дому.
Ах, робкая эта усталость, нерешительность,
благородная
вялость, когда
сил не находишь в себе, чтобы вынуть цветы из стакана,
за
окно их выбросить в сад
и вымыть стакан. Да и стоит ли утруждаться?
Этот
круг таинственной гнили –
он загадочным образом все равно бы в стакане остался,
остался
бы в доме, тлея нимбом
над
каждым челом, –
нечто необъяснимое, грозное и при этом, однако,
не
лишенное очарованья.
Так зачем же наше вмешательство? Я поняла очень рано,
что
никто ничего
не в состоянии предотвратить. Вечерами
заполняются улицы теплым дыханьем жилищ,
и огромная тень коня колышется в лунных лучах. Если это
не ответ на наши вопросы – значит, не существует ответа.
Вот через эти ворота катафалки проплыли, большие, как
корабли;
проплыли покойники в пышных парадных одеждах,
в
шлемах высоких, в знаменах, в цветах
или нагие, одетые лишь в свою бледность и в недоуменье,
и принесенная в жертву девушка в длинном пеплосе белом;
ветер взметнул его в небо, вешнее облачко им повязал,
и одиноко с тех пор пеплос парит в вышине, бросая порой
отсвет лазурный на портик и на ступени.
А
может быть, это мелькали
бумажные змеи, которых на ближнем лугу запускали
сверстники
девушки,
потому что цвета все время менялись, и отблески змеев
ложились на бедра и грудь изваяния в нашем саду. И снова
потом
одни лишь лазурные волны белого пеплоса.
Все ушли. Ничего не осталось. Отдали всё ради имени, славы
–
не ради себя (мы ведь тоже так поступаем).
И
не жалели об этом ничуть.
К тому же всегда получалось, что поздно уж было жалеть.
И
не нужно.
С кладбища мы возвращались, шли понурившись, молча,
молчание было глубоким таким, что могло показаться,
будто мы что-то надумаем наконец.
И внезапно
послышался топот коней, топот слышался сразу повсюду:
в
городе, в поле;
всадники, вылетев из-за тополей, преградили нам путь;
сверкали знамена, то взметенные вверх, то приспущенные
уныло
среди
ружейной пальбы.
Невозможно было понять, что кругом происходит, кто наступает,
кто
отступает. Кто-то бежал,
кто-то прятался, кто-то записку писал на коленях,
кто-то
спешил застрелиться;
одних на рассвете казнили у голой фабричной стены,
другие казнить помогали,
даже
жилеты свои застегнуть не успев –
боялись
небось опоздать.
Коровы, хозяев своих потеряв, бродили в раздумье по площади,
разглядывали часы, зеркала, витрины больших магазинов,
словно новую шкуру себе собирались купить. В помещении
склада
на боку валялись весы. Их кое-как подняли
и начали взвешивать ящики, бочки, мешки,
корзины, банки, кувшины. Кто-то взвешивать стал
ребятишек
своих.
Кто-то птицу принес на весы. Птица взлетела.
Упорхнула
за дверь.
Хозяин ее закричал: «Она ничего не весит, и я ничего не
вешу,
и
все мы совсем ничего
не весим, мы исчезаем, исчезли уже, мы свой вес потеряли,
летим!»
И раскинул крыльями руки, словно собрался взлететь.
Смех его ночью звенел у реки.
А потом больше не было ничего. Ни проклятий,
ни
благословений.
Единственной формой свободы
стало молчанье. Буйство крапивы в садах,
неистовство сорной травы и каких-то странных колючек
с невиданными золотыми цветами – со звездами запустенья.
Колодцы иссякли –
бросишь в них камень, он ударится в камень,
и
отзовется далекое эхо
в глубине бесконечной, где-то у самого края земли,
а
если в колодец заглянешь,
то чей-то единственный глаз, темный, лишенный ресниц,
глядит
тебе в душу
и вбирает в себя все лицо твое целиком, и на месте лица
остается
одна неглубокая впадина.
Потом пришли холода. Стаи голодных волков появились
вблизи деревень, у стен городов. Люди в домах запирались.
Выпал снег.
Белизна небывалая крыши покрыла, деревья и память,
как- благословение или прощенье- словно пеплос тот белый,
о
котором я вам говорила, –
а под ней проступало нечто черное, цельное, безболезненное
и
спокойное.
По утрам на улицах мы находили издохших овец, собак и
ослов,
обессиленных, жалких коней. Пчелы бежали из ульев.
Подскочили в цене кукуруза, пшеница, ячмень. Но однажды,
распахнув на рассвете окно, я вдруг увидала вокруг,
на
садовой ограде,
множество детских бумажных вертушек. Быть может, их сделал
тот человек, который взвешивал птицу.
На
улице снова послышался голос
мальчишки, торгующего кренделями. Этот голос
и
запах горячего хлеба с кунжутом
возвращали деревьям, дверям,
рукам, человеческим лицам их прежние очертанья.
Прозрачный
утренний месяц
уходил виновато и робко
вдоль витой заржавленной лестницы для прислуги.
Тогда я сестру позвала. «Смотри, смотри, – говорила я
ей
и
громко считала вертушки: –
Две, три, семь, пятнадцать, шестнадцать». Сестра
посмотрела в окно, ничего не увидела, обернулась ко мне,
на
меня поглядела,
рассердилась, ушла. Я виновато
снова взглянула в окно. Вертушки и вправду исчезли.
В давние те времена, вспоминаю, в саду
звон цикад, вот такой же почти, как сейчас, лился с сосен
среди певучего света и прерывался порой
дуновением ветерка. И на мгновенье листва эвкалиптов
прикасалась тогда к тишине. На земле лежавшие тени
становились лазурными и золотыми, удлинялись, темнели.
Потом
снова все пропадало. Но мгновение тишины
оставалось и синим пятном повисало в пронизанном светом
саду.
Я помню: в саду плетеные кресла стоят, нагретые солнцем,
прочно
стоят на всех четырех своих ножках,
такие законченные, положительные и земные. Только они.
И помню, как это пятно, словно блик на далеком окне, переходит
с кресел садовых на стол и там замирает
возле серебряных ложечек. Стаканы для завтрака
становятся ярко-синими, и на них – зеленые крапинки.
Однажды
вода
пролилась на платье сестры –
и синяя вдруг проступила картинка.
«Дай я тебе его постираю!» – воскликнула
я.
«Ничего, от воды, – говорит она, – пятен не будет». –
«Дай
его, дай его мне!» –
снова воскликнула я. Все на меня посмотрели. Я замолчала.
Картинка росла,
заполняла все платье, руки, ноги, лицо –
и сестра теперь сделалась синей; только кончик сандалии
белым остался. Никто очевидного не замечает. Зато
все они видят другое – что другое? какое другое? – жесты,
дела,
неподвижность.
А того, что так явно, не видят. Совсем.
Может быть, это лучше? Или хуже? Кто знает. Не видят,
и всё.
Я удалилась сюда. Здесь спокойно. Даже отзвуки браков,
рождений,
смертей
не доходят сюда. Я устала. Ведь одно и то же всегда:
одни поднимаются вверх, другие спускаются вниз,
и
всё одинаково у тех, у других
и
у третьих
(даже самые лучшие, когда доберутся до власти... –
да
и сами вы знаете это).
Как сплошная стена в темноте,
и в ней проржавевшие скобы до самого верха.
Мне
так и ни разу
не удалось за скобу уцепиться, чтобы на стену залезть;
да,
впрочем, я не пыталась;
я забывалась, я глаз не сводила с воды, где дрожала звезда,
точно капля лимонного сока в чае, – тьма немного светлела.
Все мы боялись. А они, может быть,
больше всех.
Но понемногу это изнуряющее повторение
стало
медленно превращаться
в нечто прекрасное, даже в полезное нечто – впечатленье
чего-то непрочного, преходящего и вместе с тем вечного,
и
плывет безмятежная длительность,
протяженность неведомая и привычная,
и
тебе облегченье приносит
о вечности мысль, ибо вечность хотя и ужасна,
но
все-таки вечность она.
Внутри у нас где-то таится
нежность улыбки, точно картина, висящая в комнате,
где
давно никто не живет;
на этой картине старинная битва морская в темно-зеленых
тонах,
ночь
в золотых и багровых бликах,
а в стороне, на переднем плане,
старый
хромой моряк на прибрежном песке –
он развел не спеша костер,
на
два камня поставил свой котелок –
и вдали ото всех, отвоевавшийся, одинокий,
держит землю на двух закопченных камнях.
С картины доносится запах рыбацкой ухи,
тянет горьким дымком смирения и свободы,
единственно
возможной для человека
свободы.
Слюной наполняется рот, и ты чувствуешь голод,
и
это прекрасно.
А все прочее... Нет, мы так и не знаем, что тут было виной.
Или
кто. Жребий был вытянут раньше.
Мне всегда были не по душе лотереи, азартные игры.
Я
никогда не играла. Помню, однажды мать
за меня тянула билетик. Мне досталась тогда
большая китайская ваза: она и поныне стоит
в комнате, где свалены ненужные вещи. «Странно, –
сказала мать, – этой девочке повезло». И повторила: «Странно».
«Странно, странно». Я улыбалась в ответ. С годами
об этом все позабыли. Но только не я. «Мне везет, мне
везет», –
любила я повторять вечерами, спускаясь по внутренней лестнице
или ложась при погашенном свете в постель и глядя,
как
молодой месяц
приникает к стеклу своим светлым челом. «Мне везет,
мне
везет», – я твердила,
и негромкий девичий смех, словно струйка воды
из
узкого горла кувшина,
лился сверху, из комнаты, в темноту задремавшего сада.
О да, мне везло. Странно. Я даже сама
не хотела этому верить. И до сих пор удивляюсь.
Отсюда, должно быть, и робость моя и отсюда же –
благодарность,
заполнявшая все мое существо, когда воспитатель,
или учитель музыки, или садовник обращались ко мне со
словами:
«Добрый вечер» или «Спокойной ночи». Я осторожно
оборачивалась, чтобы проверить, не другому ль кому
предназначено
доброе слово. Все лицо мое
наполнялось до самых ушей огромной улыбкой; я понимала,
что
так не годится,
и пыталась улыбку сдержать; я очень, очень старалась,
но
сладить с собой не могла.
Только ведь брови нахмурив, можно спастись от улыбки
(и, должно быть, не зря говорится, что хмурые люди –
это самые кроткие, самые добрые, самые скромные
и они же- самые сильные люди; возможно, все это правда),
но
хмуриться я не умела.
С приближением вечера, будь то зимой или летом,
в
саду или здесь, у окна,
под взглядом вечерней звезды я ко рту подносила левую
руку,
проводила рукой по губам – осторожно, рассеянно, медленно,
точно им помогала сказать незнакомое слово
иль запоздалый кому-то послать поцелуй.
В те давние годы не раз,
когда я одиноко гуляла в саду,
ко мне за спиною луна подбиралась бесшумно
и внезапно ладонями мне закрывала глаза. «Кто? Угадай!»
–
говорила
она.
«Я не знаю, не знаю», – отвечала я в робкой надежде,
что
она меня спросит еще.
Но она меня больше не спрашивала. Ослабляла тихонько пальцы.
Я
оборачивалась.
Мы оказывались лицом к лицу. Я щекой ощущала
ее прохладную щеку, и тогда я выхватывала у нее улыбку
и
убегала,
а она вкруг фонтана за мною гналась.
Как-то в один из таких вечеров
мать застала меня за игрой. «С кем ты беседуешь?» –
«Это я кошку гоняла, чтобы рыбок не ела она золотых»,
–
ответила
я.
«Ну, когда же ты, глупая, повзрослеешь?» В эту минуту
кошка и вправду потерлась о ноги мои. Большая золотая
рыбка
выпрыгнула из фонтана. Кошка схватила ее
и скрылась в кустах. Я вскрикнула и побежала за ней
(я испугалась, что руку она отгрызет у луны),
и
мать поверила мне.
Так всегда получается. Мы уже больше не знаем,
как вести себя, как говорить, что и кому сказать.
Остаемся
один на один
с незримыми трудностями, в невидимых войнах без побед
и
без поражений,
один на один с несметными толпами тайных врагов –
вернее,
вражды.
Но и с несметной толпою союзников – тоже тайных, –
таких,
как луна
в старом саду или как золотая рыбка и даже кошка.
Помню вечер другой (лето, в столовой стояла немыслимая
духота,
были настежь распахнуты окна, отдернуты шторы), мать
была раздраженной, и отец, и старшая моя сестра;
все они спорили громко – рты их росли и полнились тьмой;
временами
пламя светильников освещало их языки, и казалось,
что
люди пытаются
проглотить хоть немного света, но свет ускользал,
и
они задыхались
и друг друга душили. Я смотрела на них. Но не слышала
слов.
В это время в окно влетела летучая мышь
и принесла с собой несколько звезд и лоскут бархатной
ночи,
два листочка тутовника (да, тутовника!) и тихое блеянье
ягненка у самой реки, когда пастушья звезда
трепещет в спокойной воде так печально и одиноко,
что воробьи вздыхают во сне, поворачиваясь
на другое крыло, а овцы дают овечьему богу обет,
что станут еще добрее. Взрослые замолчали.
Возможно, они услыхали ягненка. Или их испугало
прикосновенье далекой прекрасной тайны. Но они прислушивались.
Вдруг мать со стола
салфетку схватила, и стала летучую мышь выгонять;
светильники чуть не погасли.
Мне очень понравилась
мать в этой позе; хотя она и была, как всегда,
надменной, воинственной, величавой, но в эту минуту,
с белой салфеткой в руке, она показалась мне вдруг
однокрылою
птицей,
которая больше не может летать. В ее огромных глазах
я прочитала желанье – улететь в темноту, в ночные глубины.
Тогда я другую салфетку схватила
и
дала ее матери в другую руку,
точно
второе крыло.
Она улыбнулась мне, будто сообщнице, но, спохватившись,
«Ты что, с ума сошла?» – сказала сердито.
Летучая
мышь улетела;
вместе с ней исчезла река; я увидела только,
как она, волною блеснув, шагнула за подоконник.
Опять
разговор
начался громче прежнего. Мне он был безразличен. Я их
жалела.
К моим союзникам тайным – помните, я говорила –
отныне
прибавилось
одинокое это крыло в материнских глазах.
Слова: «Ну, когда же ты, глупая, повзрослеешь?»
давно
перестали меня огорчать;
мне даже казалось, будто в них таится какое-то преимущество
–
тайна
второго зрения,
моя
сокровенная радость.
Я на рассвете одна приходила к доверчивой свежести сада,
часами
смотрела на птиц.
Какой-нибудь воробей с ветки слетал и забавно ходил по
земле,
словно
он передразнивал
девушек, когда те собираются на первое в жизни свидание;
об
этом я девушкам не говорила,
чтобы они не сердились на птиц; но мне ужасно хотелось
объявить всему свету об этом открытии –
или,
может быть, откровении?
Я считала тогда (и теперь, наверно, считаю),
что
порой такие вот мелочи
формируют и нас, и окружающий мир.
Птицам это, быть может, известно, и они, я думаю, тоже
не хотят вырастать и взрослеть; они опасаются нас,
меняют окраску, прячутся в гуще листвы. («Незаметность,
–
говаривал мой воспитатель, – прикрывает собой глубину».)
Только песню
птицы скрыть не умеют, и тогда
все рогатки и стрелы устремляются тотчас на их голоса
-
песня
их выдает.
В детстве мне никогда не дарили в день рождения куклу.
Я подбирала поломанных кукол старшей сестры. Я их чинила,
новые делала волосы, руки, ноги, глаза. Шила им новые
платья,
причесывала. Они становились красивей, чем прежде. Сестра
из зависти их у меня отбирала. Я огорчалась.
Но
на сестру не сердилась.
Я просто жалела ее: ей всего было мало.
Однажды
у самой красивой из кукол пропал один глаз – большой,
синий-синий.
Вы когда-нибудь видели одноглазую куклу? Зиянье, дыра,
из которой смотрит на нас нечто смутное, давнее, наше,
–
вот такою дырой на меня смотрела доверчиво кукла,
это и был ее истинный глаз. Мы стали друзьями.
Спустя много лет,
после дальних странствий отца, я нашла этот глаз
в какой-то коробке, на черном бархатном дне.
Я
сестре ничего не сказала.
Вставила глаз вместо камня в кольцо; никто не понял,
в
чем дело,
все восхищались невиданным камнем.
Вот почему говорю я: все было прекрасно; радость, печаль
–
такая ничтожная малость в одном нераздельном Ничто;
и
такая ничтожная малость
среди безмятежного этого и равнодушного к нам
(равнодушного
ли?) ландшафта,
малость такая – беспредельная и благодатная смерть;
я
говорю «благодатная»
оттого, должно быть, что я
переношу на нее свое нынешнее настроение,
навеянное прозрачностью этого вечера – боже, какие краски!
–
или, может быть, оттого, что я место ее занимаю
(нет,
это место мое, не ее,
и
оно для меня так удобно);
я словно в волшебное зеркало тихо гляжусь и лицо свое
вижу
безукоризненно
чистым и ясным,
вижу прекрасным его и почти что бессмертным –
но
почему же «почти»?
Бессмертным вижу его.
В одной большой комнате, в которой не жил никто,
висело
с давних времен
старое зеркало в позолоченной раме. Никто в эту комнату
не заходил. Там была свалена в беспорядке
всякая рухлядь: лампы, подсвечники, кресла,
портреты предков, полководцев опальных, философов и поэтов,
и хрустальные вазы с диковинными узорами, и треножники,
и
жаровни,
и разные маски: большие – из металла, из гипса,
и
маленькие – из черного бархата, –
головы оленей и диких зверей,
и чучела птиц с яркими, золотыми и синими перьями,
с
гнутыми клювами –
не знаю, как зовут этих птиц, –
и доспехи, и вешалки, и тумбочки для цветов, и тяжелые
шторы,
пурпурные, темно-зеленые. Там и было мое убежище.
Там пахло изъеденной молью одеждой, прохладой и пылью.
Зеркало
–
там, высоко на стене, –
в
себя вбирало весь свет, оно было оком
незрячей захламленной комнаты.
Око
неусыпно царило над этим распадом,
утверждая его. Священная память в глубинах забвенья.
Однажды
на склоне дня
я взобралась на какой-то сундук и глянула в зеркало;
я
ничего не увидела, –
ничего, только свет, некий сумрачный свет,
словно
и я состояла из света;
впрочем,
так, конечно, и было.
И я тогда поняла (или, вернее, я вспомнила),
что
всегда была светом. Паук
гулял по мерцанию зеркала и по лицу моему. Я не испугалась.
Этот паук не был мной. Чье-то чужое хрупкое тело
скользило по гладкой поверхности на множестве лапок –
они
мне казались большими, –
угловатых, с медлительными остриями, в движении медленном,
в
остановившемся, медленном времени.
Мало-помалу
я различила и собственное лицо, оно таилось в тени,
было
розовым и голубым,
а глаза мои были зеленые, цвета морской воды,
изумленного
чистого цвета,
и
вокруг колыхался все тот же
таинственный свет, и я в своем одиночестве,
в
бесприютстве своем, в незаметности
окружена была ореолом. Не было сил
вынести это нежданное счастье: состоять из сплошного света
под
тоненькой пленкой, сиреневой,
розовой,
–
пленкой реального бытия. Я спрыгнула с сундука,
схватила старинный ключ, валявшийся на мраморном
умывальнике,
и поцеловала его. За воротами мне отозвался охотничий
рог,
с бесконечной печалью, усталостью – безысходно.
Понемногу смеркалось, а зеркало все еще полнилось светом.
Паук куда-то исчез. Я ощущала, что вся свечусь изнутри,
одинокая, с зеркалом слитая и влюбленная,
с древним ключом в руках.
Вот почему я сказала, что место
ее
занимаю (мое настоящее место) –
место смерти моей – просто смерти.
Так что теперь вам понятно:
у меня перед ними
было всегда преимущество. Да. Я стыдилась его,
меня
мучила совесть,
и теперь, когда в этом я вам признаюсь, я стыжусь еще
больше.
В чем преимущество?
Мне открылась прекрасная и безмятежная тщетность всего;
я в нее зарывалась, как в сено, я в вечернее небо глядела,
глядела на лес и на синие горы, я жадно вдыхала
запахи теплой росы, далекой реки и тимьяна,
ароматы сжатых колосьев – жадно не в смысле полезности
хлеба, воды, а в радостном смысле
сообща исполненной жатвы, дающей отраду душе.
И слушала, как на холмах,
среди виноградников, псы пастухов
лают и тянутся мордами к белоснежной владычице – полной
прекрасной луне, с руками скрещенными, без младенца.
Я слышала вкус – не знаю, как выразить это, –
вкус
густой разведенной лазури,
вкус реального небытия, чье живое присутствие
обнаруживаешь порою в движении дремлющей птицы;
меня
обступала
многошумная тишина, а я в ней была
всем молчанием мира – и малой частицей молчания.
Я
сжимала зубами веточку мирта,
чтобы не закричать. Потому что я ощущала, как рот у меня
открывался в восторге все шире, для крика, и даже зубы
мои
расступались, редели, готовясь дать выход ему.
Но крик я сдержала. Он внутри у меня растворился.
Вот что было молчанье мое. А я была словно воздушной –
даже
могла бы взлететь.
Помню, когда хоронили мать, бархатно-черная бабочка,
в оранжевых пятнах, влетела бесшумно, села на катафалк,
и ее непонятная легкость мгновенно всю тяжесть сняла,
все сделалось легким вокруг, и нам стало легче. И только
тогда
смог в воздух взлететь катафалк; а был он тяжелый,
осыпанный
жемчугом и цветами, и везли его
шестьдесят
лошадей,
и он медлительно двигался под пылающим солнцем.
Все
были в поту, и люди, и лошади.
И
внезапно я поняла,
что все украшения – тоже тяжелые, даже цветы. А бабочка
эта,
бархатно-черная, в пятнах оранжевых, на плечи свои
катафалк
приняла и с ним улетела.
Все растворилось в солнечном свете.
Только
спокойное белое облако,
отвернувшись, лежало на дальнем холме. Я видела и его.
(Странно,
в такие минуты
видишь все с поразительной четкостью, даже с радостью
видишь.)
По дороге домой мы услышали – пахнет морковью,
вареным
картофелем и сельдереем.
Мы поели, как будто на что-то сердясь;
движения
наши были медлительны
и
упрямы.
Брат после обеда ушел – если верить молве, гонимый эриниями.
Но это неправда. Он удалился спокойно и был в те минуты
лишь немного задумчивым и понурым. Все комнаты в доме
стали вдруг очень большими. Не осталось угла,
где
мы могли бы укрыться. А на дворе
был все тот же немыслимый зной. Громко трещали цикады;
они проникали и в дом; одна неподвижно сидела
на кружевной занавеске нотным знаком, нелепым и жирным,
и «сюда, – назойливо пела, – сюда!» «Что «сюда»?» –
мне
хотелось спросить, но я промолчала.
Служанки в тот день разговаривали в полный голос,
хлопали
громко дверями,
оглушительно топали, по лестницам с шумом носились
(а
ведь недавно еще они двигались
так
бесшумно),
стучали на кухне ножами и вилками, разбили несколько чашек.
Красивое желтое платье – вчера оно было на матери –
сиротливо валялось на кресле – средоточием света
и тишины. И зубная щетка ее, когда я вошла
в ванную комнату, стала расти и расти, и заполнила зеркало
все
целиком.
Когда я хотела выйти из ванной, она оцарапала мне колено.
Я испугалась, что она сейчас схватит меня
и запрёт меня в ванной, заставит глядеть
на
висящий в углу сачок,
с которым мой брат, когда он был мальчиком,
гонялся
за бабочками.
Но я подошла все же к зеркалу и первый раз в жизни
покрасила
губы
таинственной и священной материнской помадой. На губы
мои
легли чудесные краски заката, красный печальный свет.
И только тогда я смогла заплакать, счастливая тем,
что
плакать могу.
И щетка зубная опять стала маленькой, даже меньше еще,
чем
всегда. И оплакала я
мать и ее любовника, и ее мужа,
и девочку, принесенную в жертву, и другую свою сестру
(ах,
какими пустыми
сразу стали ее глаза!), – сестру, которая больше не знала,
зачем ей жить на земле. Но горше всего
брата оплакала я, его спокойный уход; выходя за ограду,
отломил он веточку ивы и за пояс заткнул, а потом не спеша
пальцы понюхал.
И мне показалось, что он, уходя,
оперся подбородком на руку и оттого сохранил неподвижность
–
будто локоть поставил на невидимый стол.
Я
думаю, он и вправду
остался навеки недвижным. Он шел словно сидя –
может быть, потому, что всякое перемещенье в пространстве,
как ни двигайся ты,
все равно пригвождает тебя к одному и тому же месту,
ибо
другого не существует.
В тот день я оплакала всю свою жизнь, оплакала гордых
коней,
бездомных собак, птиц, Муравьев
и ослика дядюшки Стаматиса, мирно пасшегося на лугу,
поросшем сухой, пожелтевшей травой; я смотрела на луг
из окна,
«Ослик, Ослик», – причитала я мысленно и под именем «Ослик»
подразумевала весь мир.
И тут я заплакала громче
в надежде, что плач мой услышит
не
пролившая ни слезинки сестра.
Служанки
сворачивали во дворе
большие согретые солнцем ковры; красный их жар,
благотворный и мощный, я ощущала во всем своем теле.
Глаза
мои высохли. Мир
был, словно ковер, багряным, пушистым и теплым.
И
мертвые – тоже.
После полуночи я услыхала на улице,
у себя под окном, шаги неведомого прохожего,
я услыхала их так, будто раньше
никто
никогда не ходил при луне
и никто никогда до меня таких шагов не слыхал.
То был первый пришедший в мир человек.
И последний, ушедший из мира. И никто никогда до него
не приходил и не уходил.
А мир – как вам я сказала –
был теплым, багряным, пушистым – без единой щели.
И лунный свет холодил покрывало, оставленное на балконе.
На рассвете я вышла в сад; на дальнюю села скамью
с книгой в руках, не читая. На страницу упала
крохотная букашка. Я немного ее отодвинула. И тогда
она перевернулась на спинку, шевеля беспомощно в воздухе
тысячью маленьких ножек. Это был целый мир
со
своими движеньями.
В эту минуту меня позвала с порога сестра.
В
голосе, окликающем нас
(должно быть, и вы замечали), всегда существует
перевернувшаяся на спинку букашка, которая вдруг
становится снова на лапки и убегает проворно.
После нее остается в душе
недоуменье: какое же место было истинным в жизни ее
(а
может быть, в нашей) –
здесь или где-то поодаль в сонной листве, падение или
полет?
Потом сильный ветер поднялся и начал сметать
колючки, газеты, вертушки бумажные, деревья, мосты;
двери раскрылись в домах, дома нараспашку стояли.
Вчерашний
правитель
с ножом в животе поднимался по внутренней лестнице.
Струйками крови расчерчены были ступени.
Перед балконом шумела толпа, потрясая нелепыми
черными
флагами.
Вдруг наземь упала огромная конная статуя. Люди
рассеялись в ужасе, площадь вмиг опустела.
Помню, в другой день (день был, и правда, другой) я очутилась
на обезлюдевшей площади, побеленной молчаньем,
точно
известкой.
Всего только пять яиц оставалось под старым фонарным столбом.
Озираясь пугливо, какая-то женщина вышла из старой конюшни.
Взяла эти яйца, которые мигом сделались красного цвета.
Другая
женщина,
глядевшая из окна, спросила ее:
«Уж не стали ли куры твои нести красные яйца?»
И
первая отвечала:
«Это они от зари розовеют», – и спрятала яйца
в
карман передника.
На улице вдруг показался красивый воин. Прошел мимо них.
Женщины засмеялись коротким, отрывистым смехом. На город
молоком белый день пролился с холмов, душистый, как молоко.
Женщина скрылась в конюшне. Другая закрыла створки окна.
Воин исчез в белизне. В воздухе плыли,
легко колыхаясь, точно были пустыми, пять красных яиц.
Это я помню отчетливо. Всего остального,
что
взрослых касалось,
я так и не поняла. Они воздевали руки
высоко-высоко, как будто пытались удержать какую-то балку,
которая хочет упасть. Они разевали широкие рты,
рты плаксивые, хищные, многословные, и каждый рот
был
темным провалом,
где в глубине неясно мерцает железная старая лестница.
Все ушли. Я осталась одна – смотреть, забывать, вспоминать.
Мне было всегда хорошо. Я не нуждаюсь ни в чем –
вполне
довольствуюсь малым.
На колени руки кладу, к пустоте прикасаюсь, держусь за
нее.
Я, как и прежде, стою на прекрасном, готовом рухнуть балконе,
уцепившись за прутья решетки, и почти парю в пустоте.
По
этой решетке,
гладкой, железной, я узнаю перемены погоды. Холод, жара,
влажность воздуха, звезды – это мнимые перемены.
Порой
воробей
прилетает, глядит на меня; мы знаем друг друга;
нам
нечего с ним друг другу сказать.
Вспоминаю: однажды, в послеполуденный час –
мать
куда-то в гости ушла, –
я вошла в ее комнату, туфли надела ее – они еще сохраняли
тепло ее ног, и от чужого тепла я стала как будто бы выше,
я
словно узнала
некий таинственный грех. Я не смела потом всю неделю
посмотреть ей в глаза. Пряталась робко в кустах,
ожидая чего-то – наказания или награды, не знаю.
Да, я тоже ждала. Я первой всегда
к двери бежала на стук – хотя спрашивали не меня. Почтальон
появлялся вдали со своею кожаной сумкой, словно он нес
света квадратный кусок на бедре.
Я ждала, что и мне
придет однажды письмо. Среди всяческих официальных бумаг,
извещений, квитанций, счетов розовый будет конверт,
и на нем – мое имя. И все удивятся,
«Хрисотемида,
Хрисотемида! –
станут звать. – Хрисотемида, тебе письмо!» Я бы его взяла
с равнодушным лицом и закрылась бы с ним
в той моей заброшенной комнате, как закрываются с богом
–
мы
были бы только вдвоем,
весь мир бы остался снаружи, ибо весь мир –
это я была бы и бог, и наше общее с ним отражение в зеркале.
Другие девушки, помню, шли под высокие сосны,
там проводили весь день, немного дичая от своей красоты
и
желаний,
и выход давали себе в ритмах, движениях, смехе,
и были осыпаны волосы их сухими двойными сосновыми иглами,
и сережки из вишен глупо торчали в ушах (свет,
что
зыбкими пятнами по стенам скользил
и по старому зеркалу в моем тайном убежище,
отражался,
должно быть,
от их округлых колен), а я в это время, забытая, одинокая,
исполняясь возвышенной гордости, читала и снова читала
письмо,
которое сама же себе написала.
(Наверно,
такое бывает не только со мной.)
Как трудно даются слова – вы не находите?
Единственно
верное слово
мы лишь к себе обращаем, или, по меньшей мере, лишь сами
правильно слышим его. А все остальные слова –
это одни отговорки, уловки, обман.
С наступлением темноты я спускалась по внутренней лестнице,
словно
в колодец,
и вокруг головы у меня зыбко мерцал ореол –
это
свет старинного зеркала
обливал меня всю целиком, даже ноги, помогая мне не оступиться,
и видны были даже горшки, что стояли с цветами у лестницы.
К счастью, в столовой лампы уже горели,
и
мой собственный свет был не виден, –
впрочем, голод и шум разговора, и отблеск ножей -
где
тут было его различить?
Густолистая ночь нависала над домом, вся в звездах
и в каплях росы. В темноте постепенно таяла лошадь,
голубая, с серебристыми полосами. Зеркала закрывали глаза.
В постели мне снились спящие пастухи, а у них под щекою
-
свирели.
На рассвете проснется пастух – на щеке розоватая складка,
точно рубец от раны, полученной в тайном бою.
Пастухи мне всегда казались прекрасными,
потому
что они одиноки, и в одиночестве
снятся
им сны,
а мы в своих сновидениях видим их, пастухов,
спящих
в высоких горах,
они снятся нам, одинокие, свободные от соглядатаев и невидимые
–
одинокие
среди одиноких.
Говорят, лишь любовь да еще красота
могут
противиться времени,
но значенья ни той, ни другой я не знаю –
разве
вот только порой
что-то словно коснется легонько затылка.
В полуденные часы
я смотрела летом в окно на ближайший холм. Наверху
под деревьями располагались охотники; они ели большие
арбузы;
их зубы сверкали, вонзаясь в красную плоть,
так сверкали, что я зажимала коленями платье.
Потом на земле оставались
и сохли на солнце черные семечки,
словно осколки сказочной ночи, словно зола
после невидимого пожара, словно черные искорки
раскаянья молчаливого еще до свершенья греха.
Порою колышется в воздухе чья-то улыбка. Однажды в саду,
когда с рукодельем в руках я размышляла
о
странной бесцельности наших поступков
и о бесцельности вышиванья
(продолжая
при этом, однако же, вышивать),
светом внезапно наполнились руки мои и глаза:
две
большие ноги,
молодые, босые, с безупречной формы ногтями,
прошли предо мной. Наш юный садовник
сметал опавшие листья. Я глаз даже не подняла:
мне было довольно вида метлы и босых его ног.
День всякий раз оставляет нам что-то для ночи;
трудно
бывает уснуть,
если в запасе чего-то прекрасного нет, что было бы можно
противопоставить
затаившейся темноте.
У меня остаются теперь одни изваянья – нагие, беспомощные,
без
лавров –
или вот эти горнисты на стенах, стройные, нарисованные
на золотисто-багряном вечернем небе. Это немало.
И за это моя благодарность, и молитва вечерняя,
и хороший мой сон, и хорошо пробужденье, и добрая смерть
–
я говорю ей: «Добро пожаловать»; я с нею близко знакома,
мы стали уже друзьями; я ей обязана чуть ли не всем:
смыслом жизни обязана или, вернее, отсутствием смысла.
Слишком поздно мы поняли это –
прикосновенье крыла – и крыло пронзено высотой –
так уж принято говорить – мы выкручиваемся как можем,
прибегаем
к жалким уловкам.
Хотите, я свет зажгу? Как будто стемнело.
Мы оставили в доме керосиновое освещенье:
к старым вещам привыкаешь, их лишиться было бы жаль,
но я радуюсь, право, и новым вещам – они позволяют мне
видеть
неизменность чего-то среди сплошных перемен.
Очень
забавен прогресс
в области платьев и шляп, зонтиков, автомобилей,
виолончелей, тюремного дела и воздухоплаванья – ах, боже
мой,
какая прекрасная неизбежность! –
впрочем,
на новое трудно бывает решиться.
Вместо масляных фонарей, вместо ламп, свечей и светильников
теперь электричество – стало легче и стало трудней. По
ночам
там, вдалеке, переливаются в городе световые рекламы;
иногда я лампу гашу, чтобы комната осветилась извне
дальним светом, то синим, то желтым,
то фиолетовым, то розоватым – чужая комната в чужом свете,
и я тоже чужая, осознающая, насколько все далеко, недоступно,
осознающая
эту общую кроткую отчужденность, словно некую тайную дружбу
со всеми, со всем, поскольку ничто уже нас не может задеть,
значит, не может обидеть – что за славная фантасмагория!
А комната, точно корабль – золотой, фиолетовый, –
плывет
через ночь,
и я в ней одна-одинешенька, и я ничуть не печалюсь,
что нет ни руля, ни весла, потому что я знаю ненужность
(даже,
может быть, вред)
руля и весла.
Я помню
ту великую ночь накануне убийства. Мой брат
помедлил мгновенье на верхней площадке мраморной лестницы,
поднял голову, глянул на небо.
«Наши единственные весла, – сказал он, –
это,
может быть, звезды,
да и те не в наших руках! А иначе могла б ли она?»
Я
поняла его сразу.
А сестра моя не поняла. Подала ему меч, который прятала
под
передником.
Так что мы электричество не провели. Оставили лампы –
с ними уютнее: копоть на стеклах, запах керосина,
тепло и длинные тени на потолке и на стенах. Порой
мы вешаем старую шпильку из материнских волос
на стекло, чтоб не лопнуло. И шпилька кажется мне
крохотным всадником в железных доспехах,
что скачет верхом на стеклянном коне через бурную ночь.
Почему-то всегда
при виде любой принадлежавшей матери вещи
возникал
предо мною
образ доспехов. Но при чем тут, право, доспехи?
Она нас покинула с топором, торчащим в боку,
точно
второе крыло.
Потом появились огромные мыши, жуки-древоточцы,
ржавчина,
моль,
со временем все они обнаглели, в открытую грызли
дерево,
стены,
ткани, железо, все на глазах погибало.
Ну мы им и отдали все – нам было не жалко,
мы даже не слышали неумолчного скрежета их зубов.
Тогда-то
и поняли мы,
что такое непокорность при полной, казалось бы, капитуляции.
Гигантские мыши
тянулись к кувшинам, пили с жадностью масло,
карабкались на потолок, фитили пожирали светильников,
под кроватями грызли обувь,
Временами казалось –
кто-то ходит под нами, внизу, под землею, в подвалах,
а мы неподвижно застыли – выше всей этой суеты,
выше страха пред разрушением, будто нас разрушить нельзя.
Помню, мышь забралась ко мне ночью в постель –
хотела,
наверно,
мне руку отгрызть. Я ей посмотрела в глаза
почти
что с сочувствием.
Та не выдержала, убежала. В конце концов, даже мыши
оставили нас в покое, не потому, что все уже съедено было,
а потому, что мы не боялись. Только как-то однажды сестра
допоздна расчесывала перед зеркалом волосы,
потом собрала их на темени и надела отцовский шлем.
Так и легла, не снимая шлема.
Я притворилась, что сплю. Но она мне сказала: «Знаешь,
я боюсь, что они съедят мои волосы, а лысые женщины
похожи на остриженных наголо
больных в сумасшедшем доме. Нет, нет, не хочу» –
и стала похожа вдруг на отца. Полежала,
потом шлем сняла, положила на стул и уснула.
Зелеными бликами пламя свечи трепетало на шлеме.
Со временем все прошло – как мыши, как льстецы придворные
или
слуги,
а вернее сказать, как волны. Остался лишь запах соли,
протяженности времени, времени с нами, без нас –
безразлично,
–
соли на хлебе, в воздухе и в воде,
эту соль мы зовем свободой, хотя и не ведаем, что это
значит.
Вот этого моя сестра и не вынесла. Как-то после полудня
она залезла в очаг, вся измазалась сажей –
руки,
ноги, лицо, –
встала потом перед зеркалом и начала причитать,
разглядывая
себя:
«Ой, горемычная я, ах, я сгорела, я вся почернела»,
и
черные слезы лились у нее по щекам –
правда, от сажи. Я не знала, что делать;
взяла лоскут красного шелка и на полоски нарезала.
Тогда она замолчала, почти успокоилась, стала смотреть
в окно,
повязавши вокруг головы полоску красного шелка.
«Солнце, – сказала она, – сегодня красно заходит,
господи,
какое красное солнце.
Так и мы все, отстрадавшись, уходим». А вечер вдруг вспыхнул
красным огнем, в котором плясали зеленые, синие отблески.
Я
тоже к окну подошла. Под креслом в саду
виднелись чьи-то сандалии темно-пурпурного цвета –
ни
у кого из нас таких не было. На холмах
зазвонили к вечерне колокола. Одна из служанок
пробежала под эвкалиптами, что-то пряча за пазухой.
Скоро
стемнело.
Так проходили годы (как они проходили, я не заметила),
всегда я была в стороне от событий; неужели я их прожила
–
прожила, не живя, эти жизни и заодно вместе с ними – свою?
Помню, однажды,
когда за упрямство сестру наказали,
я понесла ей тайком еду и воду.
Я рада была,
что есть о ком позаботиться, что я кому-то нужна.
Мне
очень понравились
приготовления тайные, риск. Но все окончилось неудачей.
Перед дверью меня застигли. И наказали.
О, какая же это безумная радость –
быть
за кого-то наказанной, за кого-то,
за
что-то!
До сих пор я сама назначала себе наказанье, а теперь,
наконец,
удостоилась быть другими наказанной, и наказали меня
за
проступок, за действие.
Я этим очень гордилась. Все вещи теперь – и сама я – предстали
в
явных связях с другими людьми.
Помню, запертая в какой-то из комнат, я сосчитала,
сколько
пуговиц у меня на платье,
их оказалось пять – а я и не знала –
«5»
очень красивая цифра – я ее видела
как-то
написанной на стене; и пальцев, которыми я считала,
было
столько же, пять.
Бедную мать мне жалко – ведь она не понесла наказанья.
Всю жизнь она только наказывала других (а только у тех,
кто несет наказанье, есть возможность и время подумать,
и
только они
вырастают естественно, правильно – даже если это не видно,
–
до конца проходя все стадии роста).
А бедная мать
за все заплатила в один прием. Я не видела, чтобы она
плакала, умоляла. Лишь только в последний миг
глаза ее темные остановились в смятенье, огромные и прекрасные,
словно
открылся им вдруг
смысл бытия, открылась тщета какой бы то ни было власти
и, может быть, даже открылся смысл красоты –
недостижимой
всегда, но живой.
«Чувство прекрасного слито всегда, – говорил воспитатель,
–
с понятием тщетного». Только прекрасное, кажется мне,
в
состоянии выстоять
против всего, что тщетно и необъяснимо, – выстоять,
не
надеясь при этом
быть оправданным, возродиться. Ах, благородное бескорыстие!
А сестра
необъяснимого не терпела – возможно, поэтому
она
и сошла с ума.
Почему-то в последние годы она пристрастилась к вязанью,
фуфайки вязала, носки, перчатки и шарфы – и не потому,
что
было ей холодно:
ни разу она ничего из этих вещей не надела;
полный набила сундук и сидела на нем вечерами,
с
опущенной головой,
руки скрестив на груди; холодно ей, я думаю, было,
но она не хотела ничего надрать.
Однажды во время болезни, когда от нее всю спрятали пряжу,
она распустила льняное старое покрывало –
ветхие
нитки рвались,
и узел был на узле – и совершила с помощью спиц
великий подвиг терпенья: связала маленькую салфетку.
И
мне подарила
(даже утратив рассудок, она не забыла про мой день рождения).
Драгоценней подарка я в жизни не получала. Никогда с ним
не
расстаюсь. И вот что скажу вам:
у каждой прекрасной вещи есть долгая предыстория,
и
тысячи тысяч незримых узлов,
и спицы терпенья в исколотых пальцах. Быть может,
у прекрасного есть сторона оборотная, святость?
Впрочем,
я об этом не знаю.
Минуло все. Лишь спокойствие это осталось. И я изумляюсь
–
ведь
это
всегда была я. Великое множество лиц – и чужих, и близких,
любимых,
– все это было мое
собственное лицо. Порой у меня возникает странное чувство,
что ничто не потеряно, что ничто вообще не теряется.
О, прислушайтесь.
Слышите? Закрываются магазины – там, на площади. Я люблю
шум ключей, замков, металлических роликов. «Конец,
конец,
конец», –
перекличка ключей – от дверей к дверям, с холмов на холмы,
из году в год. «Торговле конец, обмену конец», –
кричат
эти медные вестники.
Правда?
Синеют горы вдали. Розовое облако
одиноко висит над садами. Кто-то вверх идет осторожно
по деревянным ступеням. На террасу выходит. Глядит. В
вышине
уже появилась луна, задержалась возле стакана,
забытого накануне в саду на скамье.
Луна почему-то всегда
напоминает стакан, наполненный молоком,
или холодной – а может быть, теплой – водой,
а порой желтоватою жидкостью странной,
в
которой еще не совсем растворились
две-три таблетки снотворного – от одной из них тянутся
со дна стакана к поверхности мелкие пузырьки,
точно еле приметный знак незримой тихой победы –
едва
уловимый шелест, – о боже,
прекрасный близится сон, без сновидений, последний.
Минули годы. Стало мне легче и тяжелее. Я рада
этой легкости, тяжести этой. Словно ласковая улыбка
берет меня под руки, приподнимает; я не касаюсь ногами
земли;
мне неловко: вдруг кто-то увидит, что я гуляю по саду,
как
птица.
Я стыжусь этой легкости детской. Стою, как на якоре,
здесь,
у окна,
в жару, в непогоду – и не могу наглядеться.
Весной я встаю очень рано, в тот час,
когда внутри нас и вокруг все наполнено светом и грустью,
беспричинной, бесцельной, как жизнь. Пчелиное крылышко
чуть слышным гуденьем своим оставляет темнеющий след
на всем протяженье прозрачности. Слушать люблю цикад,
этих крохотных барабанщиков, засевших повсюду вокруг у
бойниц
в глубине ослепительных полдней – самозабвенные их голоса
не оставляют в природе пустот, конопатят щербатые стены.
Вдали
золотом искрится море колосьев и шумно вздыхает.
Нет, я не пресытилась. Я по-прежнему забываюсь,
когда
смотрю на закат,
на странное облако, словно все состоящее из карманных
зеркал,
–
оно мне посверкивает в глаза и не дает быть серьезной,
хотя
за всем этим блеском
я чувствую близость ночи и разлитый в вечернем воздухе
запах золы и корицы.
Осенью я люблю смотреть, как выгоревшие на солнце трамваи
сворачивают
у родильного дома,
осенью долгие вечера и голые в парке деревья,
и голоса детей на площадке звучат так жалобно
и невинно.
Из выходящего на запад окна
я кладбище вижу – там, за оливковой рощей, –
мраморных юношей вижу, мраморных птиц и мраморных ангелов
с
огромными крыльями,
а в небе над ними пылают и гаснут многоцветные языки
закатного
пламени.
Потом постепенно смеркается, статуи тихо белеют
отдаленной
своей белизной,
она успокаивает, утешает; спускается ночь
и
белизну превращает
в жемчужную голубизну, испещренную розовыми полосами.
Там виднеется и изваяние
девушки, принесенной в жертву; отсюда оно размером
не
больше чем зуб,
который мучил тебя, и ты его вырвал, и он уже не болит.
В полночь я слышу,
как полощется скатерть в саду на столе.
В зеркале проплывает корабль. С люстры в зале свисает
веревочная лестница. Слышно,
как росой покрываются в парках скамейки и мхами
одеваются изваянья. И снова потом тишина.
Я ничего уже больше не жду. На этом кончаю. Все тихо.
Лишь наверху, на женской запертой
половине,
слышен ночами неумолкающий стук –
работает ткацкий станок (вы не слышите?), на котором
ткут бесконечную ткань с неясным зыбким рисунком,
в неясном времени зыбком,
в ожидании зыбком и скрытом. Быть может, забытая всеми
старуха
последнее приданое ткет, приданое для меня, незамужней,
а может быть, это я сама в ожидании – но чего? – я не
знаю.
Да, я ждала, что однажды кто-то придет, чтобы взять эту
ткань,
взять и ткань, и секрет ремесла, и что сама я ее положу
ему на колени, как вот сейчас я раскладываю перед вами
эти
слова,
словно самое важное в жизни.
Я вас утомила, мой друг.
И устала сама. Извините. Теперь могу я уйти
с чувством приятной усталости и уже без всяких желаний
–
разве вот с этим одним – с прекрасным желаньем
прощенья просить у всех и у вся.
Простите, простите, простите меня,
ничтожную, ибо мне нечем гордиться. Осталась одна только
радость
–
прощенья просить – спасибо – и в этом последнее
мое
оправданье
перед самою собой, давно уже выстраданное и, пожалуй,
заслуженное.
Стемнело.
Молчанье. Юная журналистка собирает свои записи; она заметно
взволнована. «Извините, – повторяет она, как далекое эхо,
– я вас утомила», – и берет у Старой госпожи руку, пытается
поцеловать. Та мягко ее отнимает. В безграничном беззвучном
пространстве чиркнула спичка. Старая госпожа зажгла свечу
в подсвечнике. Осветила внутреннюю лестницу. «Извините»,
– повторила журналистка и, уверенная в своем успехе, зажала
под мышкой папку со стенограммой полученного интервью.
Проходя через сад, она споткнулась о что-то мягкое, длинное.
Вздрогнула. Вспомнились мыши. Это был резиновый шланг
для поливки. Мокрые от росы скамейки блестели, отражая
мерцание звезд. Бесконечная глубина неба. Томительное
ощущение счастья. В день, когда интервью увидело свет,
Старой госпожи не стало. За катафалком ехали две закрытые
машины, в них сидели три престарелых родственника, старый
садовник и юная журналистка с газетой в руках. Интервью
в самом деле имело успех. Вышло отдельной книгой, было
несколько раз переиздано. И сейчас еще можно видеть, как
влюбленные парочки или старушки, или даже порой футболисты
кладут букетики фиалок или несколько полевых цветов на
могилу возле больших казенных венков, возлагаемых регулярно
от имени ряда художественных, научных, благотворительных
и политических организаций. Однажды утром на каменных
ступенях надгробья нашли тело старого садовника. В руках
он держал несколько белых роз, клетку с канарейками и
фиолетовый зонтик – он принес его, вероятно, затем, чтобы
прикрыть от дождя статую своей госпожи. Накануне вечером
прошел первый дождь. В бороде садовника еще блестели дождевые
капли.
Юра, Лерос,
Самос. Май 1967 – июль 1970
Перевод Мориса Ваксмахера
|
|