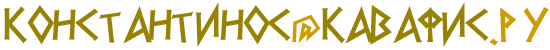Вновь с
верхних ступеней мраморной лестницы, устланной пурпурными
коврами, военачальник приветствует беснующуюся толпу жестом
почти нетерпеливым. В кристальном зимнем дневном освещении
слышатся барабанный бой с нижней площади, цокот конских
копыт, плеск знамен и выкрики рабов, сгружающих трофеи
с повозок. Лишь стража застыла недвижно под пропилеями,
словно она из другого мира. Воздух насыщен терпким запахом
раздавленных ногами лавровых листьев. Из приветственных
кликов и рева толпы порой вырываются резкие крики полоумной
пророчицы, распростертой у подножия лестницы, выкрики
непонятные, на чужом языке. Военачальник и его супруга
удалились. Миновали длинный переход. Вошли в зал, где
приготовлена утренняя трапеза. Он снимает доспехи. Грузный
шлем с лошадиным хвостом кладет на столик перед зеркалом.
Шлем отражается в зеркале так, что кажется, в нем подружились
два пустых изогнутых металлических шлема. Он ложится на
кушетку. Закрывает глаза. Все еще доносятся приветствия
толпы и выкрики чужестранки. Ладонями он затыкает уши.
Его жена, красивая, строгая, внушительная, склоняется
с несовместной с ней услужливостью, чтобы снять с него
сандалии. Он кладет левую руку на ее голову, осторожно,
чтобы не нарушить причудливо устроенную прическу. Она
отстраняется. Выпрямляется и застывает чуть в стороне.
Он рассеянно и устало улыбается. Говорит, обращаясь к
ней. Неизвестно, слышит ли она его.
Прикажи
им, прошу тебя, смолкнуть. Зачем эти крики?
Кому рукоплещут? Кого там приветствуют? Неужто
своих
палачей и своих мертвецов?
Или, может, чтобы удостовериться, что у них есть ладони,
пригодные
для рукоплесканий?
Или – есть голоса, чтоб вопить и слышать свой крик?
Заставь их молчать. Гляди, муравей ползет по стене –
как он уверенно, просто спускается по вертикали,
и без тени зазнайства, что им совершается подвиг, –
может
быть, потому, что он один, –
может быть, потому, что он мал, невесом и почти нереален,
–
как ему я завидую.
Пусть, не трогай его; вот взобрался на стол,
отыскал
себе крошку.
Крошка больше его – погляди. Так всегда:
груз, что мы поднимаем, весомее нас.
Нет, они никогда не умолкнут. И огни алтарей – эта гарь,
запах мяса – тошнота – нет, не та, что от качки, –
что-то терпкое сводит мне рот,
страх на пальцах, на коже; как ночью, летом,
помню, вскочил я спросонья – а по телу какая-то мразь;
шарил спички, нагнулся, нашарил фонарик:
на земле, на палатке, в постели, на щите и на шлеме –
улитки в огромном числе; я давил их босыми ногами;
я
вышел наружу –
чуть
виднелась луна;
и ратники, в чем мать родила, хохоча и шутя, воевали
с этим жутким ползучим нашествием – сами ужасны;
фаллосы их шевелились, подобно улиткам. Я бросился в море;
вода
меня не освежила,
и луна ползла по щеке, как улитка, она была липкой,
желтой, желтой, тягучей. И вот эти вопли сейчас...
Приготовь мне горячую ванну, да погорячее. Приготовила?
С миртом, с мастикой? Я помню их запах,
острый, крепкий, как дух уходящего. Снова как будто я
слышу
запах детства с деревьями, речкой, цикадами. Наши
дочери – мне показалось – растеряны. Ты заметила,
что одна из них, словно слепая, меня ухватила сквозь бороду
за
подбородок. Ты правильно сделала,
что к себе отослала их, – мне смотреть на них тяжко.
Ты трофеи возьми или лучше раздай – ничего мне не надо.
И ту женщину, воющую на ступенях, возьми к нам рабыней
или, может, кормилицей к сыну. (А где он? Его я не видел.)
Только нет, не в постель.
Мне нужна теперь только пустая постель, чтобы в ней потонуть,
запропасть,
прозябать,
чтоб хотя бы нетронут был сон, чтобы вовсе не думать
о значительности выраженья лица и о мышцах брюшных,
и
о мускулах рук.
Теперь только память любви возбуждает во мне вожделенье,
воссоздав неуместную несоразмерность
между телом моим оскудевшим и упрямством желанья.
Наше ложе теперь уступаю тебе. Ибо я не хочу
стать свидетелем тех перемен, что еще привнесут времена
в
твой пленительный образ.
На груди и на бедрах. Ненависти во мне
нет, когда я взираю на то, что вокруг. Даже наоборот.
Я хочу
сохранить неприкосновенным (для себя, а не для тебя)
твой чувственный облик вне времени, словно чудесную статую,
которая – как непонятно – сохраняет диво и славу моей
юности.
Только каменную пепельницу на треноге (если она сохранилась)
я взял бы с собой, в ней, куря по ночам,
оставлял
я дымящуюся сигарету,
чуть похожую на дымовую трубу в той захудалой Итаке
или на звездочку, принадлежащую мне, когда ты спала рядом.
Остальное возьми. И тяжелый с брильянтами скипетр –
прежде всего его: мне он не нужен – он тяжек. Сегодня
я почувствовал гнев Ахиллеса –
и
не в ссоре со мной было дело,
а в усталости, в той первозданной усталости,
что
равняет победу с разгромом,
жизнь со смертью. Он на берегу в одиночестве
с черным псом, что неведомо как увязался за ним
в полнолунье (так говорили) осеннею ночью...
Он, возможно, нуждался в таком бессловесном присутствии,
когда не пытают и не осуждают, а верят, всегда одобряя
помахиванием хвоста, движением век,
а порою кладут с благодарностью морду
на обувь хозяина и ждут с одинаковым выражением счастья
пинка или ласки; порой, задыхаясь от преданности,
не от бега, высунет красный язык,
как бы в зубах принося окровавленный лоскут души,
и готов подарить его. Кажется мне, что подобная преданность
способна спасти человека, а может, и бога.
Патрокл
ей завидовал.
Оттого, может быть, подстрекал его ринуться в бой.
И возможно, поэтому Ахилл был убит. Сколько пролито крови,
я так не узнал почему – и не знаю. И были минуты,
когда
я не мог
притронуться к хлебу: он был окровавлен. А эта собака
после смерти Ахилла бродила по берегу, глядя
на суда, в облака, принималась обнюхивать камни,
по которым ступала нога господина,
обоняла
его одеянье в палатке,
смертельно голодная – ведь никому не нужна. Всем мешалась,
все путалась под ногами. Получала пинки, отбегала, садилась,
глядела, как воины ели. Не лаяла вовсе.
Однажды ей бросили кость. Есть не стала,
схватила
ее и исчезла.
Немного спустя
пса нашли на могиле Ахилла. Кость лежала,
словно маленькое подношенье. Пес плакал большими слезами
о хозяине или, быть может, от постыдности голода.
После, схватив свою кость, он укрылся в камнях
и стал ее грызть. Вместе с хрустом послышались всхлипы
–
может быть, это были стоны вечного голода.
Как ты странно глядишь. И твой голос был странный,
когда
ты сказала:
«Почему вы стоите, рабыни? Неужто забыли мое приказанье?
Я велела ковры расстелить от колесницы до дома,
сделать
пурпурной дорогу,
чтоб прошел господин». Твой голос
был глубок, как река, и я словно поплыл по волнам. А когда
я
ступил на пурпур ковров, у меня подогнулись колени. Я
отпрянул
и увидел свой след запыленный на красном,
словно пробковые поплавки, что стоят
над закинутой сетью. Я зрел пред собою рабынь,
разворачивающих рулоны новых красных ковров
так,
как будто они
пред собою катили колеса судьбы. И озноб
пробежал по спине. Оттого я просил приготовить
мне теплую ванну. Тот озноб был – стеклянный, стеклянный.
А
знаешь –
умирать не желает никто, даже очень уставший.
А усталость моя – это нынче пространство мое и я сам.
Словно я без труда и как будто без помощи ног
поднимаюсь
к лазурной вершине,
откуда я буду глядеть (и гляжу уже) вниз
на холмы, города и равнины: золотится под солнцем
полоска
тумана –
пристань и корабли – возвращение горькое наше
к излукам пустынного берега. Уменьшённые далью, белеют
суда,
как обрезанные детские ноготки и как ногти
другой
нашей дочери – помнишь?
Ты подстригала ей ногти у двери купальни.
Она
не хотела. Кричала...
Сколько лет миновало.
Как же так получилось, что времени столько напрасно пропало
в
бездумном стремленье
производить впечатление на других? Для себя
ни минуты за долгие годы, чтоб хотя бы увидеть
тень птицы в колосьях, небольшую триеру
в золотом, ослепительном море. Может, в ней мы могли бы
уплыть
за негромкой наградой и к завоеваниям более славным.
Но
мы не поплыли.
Порою мне кажется, что я блаженный мертвец, наблюдающий
собственное бытие; наблюдающий пустотою глазниц
за каждым движеньем и жестом. Как тогда, зимней ночью,
под крепостью, при леденящем лунном сиянье,
когда все чудилось мраморным,
сотворенным
из известняка и луны.
Я осматривался с равнодушьем бессмертного, который уже
не страшится погибели и безразличен к бессмертью. Да,
как пригожий мертвец, гуляющий среди ночной белизны
и
глазеющий
на лепные фронтоны домов, на решетки садовых оград,
на тени мачт у причала. И тогда
просвистала стрела у виска и вонзилась в стену,
дрожа, как струна, как нерв,
в теле пустоты, подавая сигнал с непонятным восторгом.
Итак, даже там что-то вдруг задевало внимание –
отчего
непонятно:
блик зари на мече, или маленькое отраженье
безмятежного облака в шлеме,
или привычка Патрокла трогать мочки ушей,
когда он погружался в мечтанья,
отрешенные и эротические. И однажды Ахилл взял руку его
и,
как прорицатель,
рассмотрел его пальцы, а потом его ухо. И сказал:
«Приближается осень, пора перегруппировать наши силы».
И
странная связь
обнаружилась между «перегруппировать»
и
прекрасным движеньем Патрокла.
Он вышел тогда из шатра, подошел к лошадям своего друга
Вальосу и Ксантосу, встал между ними,
обнял
их тонкие шеи,
и так, втроем, щека к щеке, неподвижно глядели они на
закат.
Подобную
сцену
видел я, может быть, где-то на барельефе, и тогда я постиг,
что возможна безвинная жертва, ради попутного ветра.
Постепенно все обнажилось, утихло, стало стеклянным:
двери, стены домов, твои волосы, руки, –
изумительна эта прозрачность – дуновение смерти не может
ее
замутить.
За этим беспредельным стеклом
различимо нечто – то есть, в конечном счете, некая целостность.
Это та первозданная целость, совершенная, как бытие.
Прежде чем взяться за ручку и отворить дверь,
до того как войти, я уже видел стулья, диван,
зеркало с отраженьем стены с картиной,
на которой морское сраженье древних времен.
До
входа в купальню
видел миртовый лист на воде и припухшие морды
пара под потолком, толпящиеся у окошка. И даже
приблизительно вижу свою кончину.
Прости мне это видение, но прежде – это признанье.
Это один из путей вам увидеть меня, нам стать равноценными,
каковы
мы на деле, –
это значит стать безоружными. Но опять в этот час
я
себя вопрошаю:
что я обрету, от чего сберегусь, что утаю –
в результате признания? Какая новая маска
из непроницаемого стекла возникнет на хрупком моем,
стеклянном
лице –
большая пустая личина, повторение формы моей, моего отраженья,
что подвешена перед дворцом на метопе ворот,
щит мой собственный, мой, а не царского рода?
Иногда
я стараюсь уверить себя,
что все остается, как прежде, стараюсь
все
это вспомнить однажды
для того, чтоб открылась извечная бренность всего.
Время благоприятствует. Рад. Вот рука моя –
ни для меча, ни для ласки. Только преданная –
но чему? Незримым каким-то струнам, подобно руке
рапсода на лире. Попробуй ее задержать,
и музыка в недоуменье прервется, и прерванный звук
не простит задержавшего руку. И непостижимо
серебряное кольцо, что висит на шпагате и бьет тебя по
плечу.
Те, кто пали, – они храбрецы (но кто ведает –
с какой печалью и страхом). Их смерти я не завидовал.
И восхвалял их геройство из желания скрыть
благодарность за то, что я жив, – я, совсем не герой.
Так вот, даже этой я не подарил тебе радости – многозвучной,
как говорится, славы,
что могла бы, возможно, – конечно, могла бы, – искупить
своей звонкой, фальшивой монетой,
молчаливое,
подлинное десятилетье,
тысячи злодеяний, тайных и явных, тысячи промахов и могил.
Нет, подальше теперь от такого геройства. Мне знак подает
неслышный, незримый иной героизм. Однажды
увидел я в сумерках один позолоченный лист
на
дереве иссиня-черном,
и это был мощный спокойный атлет, обнаживший плечо,
чтоб
поднять нашу общую ношу
и потом, наклонившись, осторожно поставить на землю. Тогда
новый голод, иное желание слюной переполнило рот,
я почуял, как течет по устам
упоительно-сладкое млеко благодарности. Невольно я поднял
руку, чтоб утереться,
чтоб не выдать себя, чтоб меня не узрели
в
моем возвращенном младенчестве,
когда я сосал из первичных сосцов созиданья.
Иначе бы поняли, как я силен и как я бессилен –
и то и другое во мне вызывающе. Однажды гулял я по берегу
вечером.
Золотая недвижность. Розоватое море. Блеск весла.
На скале огромный развесили пурпурный парус.
Из военного лагеря доносилась одинокая грустная песня,
чуть дымящаяся от тепла, как одежда, что сброшена
с
юного тела.
Эту теплую песню держал я в ладонях, бродя
средь вечерней прохлады вблизи кораблей.
Запах
воздуха напоминал
запах водорослей и печеных кукурузных початков.
Казалось, немного горячей воды плеснули в пылающий пень.
Близ
палаток запалили большие костры и готовили ужин.
Смерть казалась совсем невесомой.
Вспомнил
я молчаливого Филемона:
как-то ночью,
когда во хмелю бесконечная шла похвальба,
без конца поминали в палатках женщин, подвиги и лошадей,
Антилох
отозвался со смехом
о бесстрастии Филемона. Тот сказал: «Я готовлюсь». И все.
Трезвый, так и застыл, опершись о стол
и упрятав в ладони лицо. Под прикрытием этим
странно он улыбался. «Готовлюсь».
На заре Антилох, покинув палатку, повернулся к востоку
и возгласил с актерским подъемом и с дерзостью юноши
моление
солнцу.
Сам не знаю, как запала мне в память последняя фраза:
«О
солнце, –
говорил он, – ты протыкаешь пальцем золотую дырку
в
черной стене,
из нее вылетают две птицы-птицы красная и голубая –
мне красная садится на колено, голубая – на плечо». И
впрямь
две большие птицы пролетели над его главой –
ворон и ворон. Антилох и Филемон не вернулись.
И нарисовали мы на белом лекифе птиц прекрасных –
красную
и голубую.
Да, конечно, жизнь наша с тобой будет тяжкой. Завтра
удаляюсь я в наше поместье. Не заботься. Я знаю:
когда-нибудь все нам простится, но знанье того,
что ты думаешь о себе и других,
не прощает никто: ни друг и ни враг. И спрятаться тоже
нельзя. Посреди твоего чела – третье око,
и пусть оно скрыто, закрыто, а все ж оно целит в меня
блеском
единственности и одиночества – это самый последний предел
надменности
и смиренья.
Годы уходят. И мы уходим. Стареем. Это не о тебе. Елена,
когда пал город, часами сидела
у зеркала, которое перенесли на корабль. Престранное зеркало:
два золотых лукавых амура по обе стороны рамы,
обнаженных, без колчанов и луков, глядят с недоверьем
на того, кто смотрится в зеркало. Ну а Елена
теперь подкрашивается, стремясь лицо свое сделать таким,
каким
оно было, а может, получше,
прикрашенным собственным воспоминаньем, знаньем, желаньем
(даже
упорством),
используя тайные краски – алхимия целая: охра, румяна,
лазурь,
белила,
иссиня-черная краска для век,
темно-вишневая – для губ, мясистых и мягких.
Она теперь красит свой крупный рот,
как
будто хочет крикнуть с балкона
необъяснимое «нет» или облобызать божество.
Но
как бы там ни было,
внешность не та, за которую мы выступали в поход,
за
которую мы воевали,
за которую весла ломали, теряли шлемы, колеса, моря и
поля.
Совсем другое лицо, хоть, может быть, в большей степени
принадлежащее
ей, но другое.
Под прелестными красками женского мастерства
она как будто скрывает или усыпляет смерть. И сама это
знает.
Однажды на берегу, в застолье, в день празднования победы,
после захороненья убитых, когда город в осеннем,
сумеречном
свете
еще из конца в конец дымился, Елена,
ко рту поднеся кубок, воскликнула:
«Слышите, как звенят мои браслеты. Я усопшая».
И хлынул белый свет сквозь ее зубы, вдруг
все превратилось в кость и мрамор. Руки и звуки окаменели.
Белым-белы мачты и море. Чайка,
словно сбита незримой стрелой, беззвучно
упала на стол, не задев амфоры. Елена
ее взяла, осмотрела молча,
в ее кровь обмакнула мизинец и на скатерти начертала
круг безупречный – ничто или все. Потом, словно радуясь,
нащипала
с брюшка птицы
горстку пуха и, хохоча, развеяла над волосами сидящих.
Это
забылось.
Остался только вкус белизны и этот непостижимый
круг.
На обратном пути, в Эгейском море,
во
время ночного мощного шторма,
сломался штурвал. Я тогда ощутил
испуг безудержной этой свободы. Глядел сквозь мрак
каким-то особенным зреньем. Видел,
как пляшет спасательный круг по волнам. Мне удалось
в неверном факельном свете прочесть на нем «Лахесис»*.
И этот спасательный круг, и надпись, и то, что я видел,
внушили мне странную силу и выдержку, и я сказал себе:
«Если спасется хотя бы круг, ничего не пропало».
На другое утро утихло Эгейское море. Я видел, как плавал
круг
среди обломков кораблекрушенья. Его
я выловил, он, загадочный мой избавитель,
хранится
в одном из узлов.
Хочешь, повесь его где-нибудь в доме как памятку
или же выкинь – мне он больше не нужен.
На
нем стоит «Лахесис».
Все так непонятно, обманчиво. Конь Троянский у стен
был беспощаден. В стеклянных глазищах отражалось море,
деревянный конь с голубыми живыми глазами. Казалось,
что море глядело само на себя глазами коня,
и при этом глядело в нутро деревянного зверя,
в
ту жуткую пустоту и во тьму,
где были спрятаны вооруженные воины. И все же остался
в памяти тот голубой взгляд
моря, бескрайний, сочувственный и истомленный. И никакого
злопамятства
по отношению к судьбе.
Лишь ощущение чуждого беспощадного закона, уничтожающего
грехи и ошибки каждого и круговую ответственность.
Порой и усталость оставляет в нас чувство неистребимости,
не
правда ли?
На одном из пиршеств во время трехдневного отдыха
после
сраженья,
когда все на ногах не стояли
(не
столько от хмеля, сколько от смерти),
стали мы вдребезги бить свои кубки о скалы,
а
мне показалось,
что битые кубки в нетронутой целости
прекрасной
гирляндой сияют до края небес.
Искрятся от пламени факелов, а самый последний –
поблескивает, как половина луны, – серебряный кубок,
наполненный теплым, спокойно дымящимся млеком.
И тогда двадцатилетний Ион
сбросил хитон и, обнаженный, как бог, вспрыгнул на стол
и начал крушить блюда и амфоры, лил из кувшина вино
на
курчавую голову,
мокрый, сияя, стоял, с него стекало вино. «Несокрушимое
есть!
Несокрушимое есть!» – он орал. И бросил свой кубок.
Тот
не разбился.
Вновь ему подали кубок, он в якорь прицелился, бросил...
Трижды, четырежды, множество раз. Но кубок был цел.
Может,
был сделан
он из чего-то другого – поддельный был кубок, как знать,
может, опять же нам пьянство внушало уверенность
в
неисполнимости наших намерений.
А на другой день Иона убили в бою. Я искал его кубок в
шатре,
все обыскал. Не нашел. Но слова его помню.
Ты как будто меня и не слушаешь. Словно торопишься.
Все
мы спешим
остановить другого, чтобы с ним побеседовать.
Но
каждый из нас
свои только слышит слова. Каково их значение?
Ты
всегда замечала,
что значенье имеет лишь действие и оно лишь зачтется.
Скажи,
не остыла ли ванна, которую ты приготовила?
Нет,
не надо меня провожать,
справлюсь сам. Я привык уже там.
И
возможно, что так будет лучше.
И потом, понимаешь, я словно стесняюсь тебя.
Столько лет миновало. Мы уже разучились, забыли. И тело
(не только душа) как будто утратило прежнюю ту убежденность:
быть упругим и стройным в радости существованья
и
любованья собой.
Ныне оно (постаревшее, потерявшее веру в себя)
видит
совсем по-иному,
прежде всего – доверчивую и неувядаемую красоту мирозданья,
красоту,
что уже не для него.
Такого зренья никто не прощает. И впрямь:
независимое, глубокое, властное и, наверно, мешающее
нам и другим – оно бесполезно.
Эта дрожь уже не стеклянная,
как
раньше была, в позвоночнике,
а совершенно другая. Недавно
все было стеклянным: вещи, лица, пейзажи, тела,
ты,
я, наши дети, –
стеклянным, хрупким, блестящим, прозрачным и твердым.
Я смотрел сквозь это стекло с любопытством, почти что
ликуя,
как в аквариум, где обитают красивые странные малые рыбки
или
большие, угрюмые, кровожадные
и
отвратительные – и тоже странные.
И вдруг внезапно
стекло как будто размякло, утратило форму,
замутилось, словно оно никогда не бывало граненым,
прозрачным,
и валялось оно на полу
со всем содержимым, бесформенной мутною массой,
как грязный мешок для несвежих простынь,
которые
копят для стирки.
Но стирку откладывают – надоело. Белье позабыли
(хотели
забыть),
его бросили на пол, у двери. На мешок
садятся, пинают ногами при выходе, а чаще при входе.
И правда, о нем позабыли.
Зачем вспоминать? Оно завоняло, задохлось
в своем собственном запахе пота, мочи и крови.
В купальню, в купальню.
Вода, наверно, остыла. Я пошел. А ты оставайся. Не надо.
Ты уверена в том, что надо? Пошли.
Мужчина
поднялся. Как видно, направляется в купальню. Женщина
безмолвно следует за ним. Ушли. Опустевшая зала кажется
больше. На столе нетронутый завтрак. Кубки как бы потускнели.
Шлем на том же месте перед зеркалом. В доме и во дворе
тяжкая тишина. Муравей снова разгуливает по белой скатерти.
Наблюдая за ним, замечаешь в центре стола круглую вышивку
– гирлянду из красных цветов. И вдруг снаружи, с мраморной
лестницы, доносится голос чужестранки, произносящей чисто,
по-гречески: «Граждане Аргоса, граждане Аргоса, золотая
рыбина в черных сетях и меч занесенный! Граждане Аргоса,
меч занесенный, меч обоюдоострый, граждане Аргоса, граждане!»
Громкий барабанный бой, трубы, шум заглушают ее голос.
Красавец с непокрытой головой в доспехах воина с окровавленным
мечом входит в зал. Левой рукой поднимает шлем со столика.
Надевает задом наперед, вперед конским хвостом. Словно
маску. Выходит. Голос безумной: «Граждане Аргоса, поздно,
поздно, граждане Аргоса...» Замолкает. Громче гремят барабаны.
Женщина возвращается в зал. Высокая, бледная, прекрасная.
Встает на стул. Вешает на гвоздь спасательный круг. Произносит:
«Лахесис». Подходит к зеркалу и поправляет прическу.
Перевод
Давида Самойлова
__________________________
* Лахесис
– одна из трех Мойр, богинь судьбы, определяющая удел
человека. Согласно мифологии, она ведет человека через
все превратности жизни.
|
|