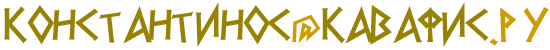В этом месте я ещё ни разу не был: иначе дышится,
ослепительнее, чем солнце, сияет с ним рядом звезда.
Ф. Кафка
«Мир иной»
Расхожая банальность о «поэте, создающем собственный мир» применима к Кавафису отнюдь не банальным образом. Так бывает, когда ходячее клише вдруг прочитывается буквально: создаёт мир.
Такой мир надо ещё потрудиться создать!
Из «мира» Кавафиса напрочь исключена тема так называемой «естественной» любви. Как будто на белом свете её и нет вовсе. Для этого мира немыслима ситуация, к примеру, «влюбился в натурала»; или «любовник изменил с девушкой» и т.п. Даже в тех случаях, когда указанная тема должна возникнуть как бы естественным образом, например в «Отчаянии», она, можно сказать, демонстративно замалчивается. Что там делает «навсегда потерянный» – принципиально исключено из поля зрения. Для Кавафиса любовник может уйти только к другому юноше.
Итак, «гомосексуальность», как естественное состояние человека, помещённого в отнюдь не «человеческий» мир. Молчаливый экстремизм. Даже, собственно, не «экстремизм», поскольку другой «экстремум» отсутствует. Отношение к не-геям как к не-людям. Их просто нет. Это не-лица. «Ханжество» и «мораль» не предмет или сторона для спора (спорят с людьми). Это – как бы такое нечто, от которого следует избавиться или уберечься – как от стихийного бедствия или бешеной собаки. Спрятаться в убежище. Перейти на другую сторону улицы. Пристрелить. С «общественным мнением» нет почвы для выяснения человеческих отношений.
Характерно, что в «Отчаянии» покинувшим героя любовником владеет не что-то «естественное», как, например, если бы он вдруг полюбил девушку, а, напротив, нечто «извращённое» («Он сказал…») – страх, малодушие, самообман, ложная мораль… Вот это – символ кавафисовского мира. В нём просто не обнаруживается альтернативы.
Значение «комнаты», our little room для Кавафиса. «Комната» здесь – это сам «мир». Нечто единственное в своём роде правильно устроенное. С правильными законами, в отличие от не-мира окружающего. (Ср. Giovanni's Room.) И искусственные цветы – правильные цветы, в отличие от мёртвых «живых» цветов.
Герои любовных стихов Кавафиса, казалось бы, во всяком случае являются свободными личностями. Что и в наши-то дни – в такой степени – трудно себе представить. Но, заметим, у Кавафиса изначально положен иной, «идеальный» мир, отнюдь не «наш». Поэтому «свобода» его героев, неизбежно в качестве «свободы от…», «появляется» вообще впервые, наподобие фантома, при невольной – и вполне естественной – бессознательной подмене читателем того мира этим.
Интересная проблема: почему для Кавафиса с какой-то особенной – опять же молчаливой – принципиальностью исключена тема самоубийства? У него около 16-ти умерших юношей, – мрут, как мухи! – и ни одного покончившего с собой. Хотя, казалось бы, в случае гея подобный исход чуть более «естественен», по крайней мере статистически. И уж во всяком случае – «поэтически» интересен. Что это? Последовательность вышеупомянутого «переворачивания», когда гомосексуальность становится не просто «естественной», но вообще единственно существующей формой любви и жизни, означает в том числе и исключение «ненормального» исхода? самой возможности того, что это чувство может привести кого-то к подобному статистически-поэтическому результату – в «том»-то мире? Но это слишком поверхностно. Что лично Кавафис не пережил подобной коллизии – тоже сомнительно.
Тема самоубийства отсутствует у Кавафиса эксплицитно потому, можно сказать, что всё его творчество является как бы отложенным самоубийством. Таков сам тип его отношения к «жизни». Ибо смешно прибегать к самоубийству, когда ты уже находишься в таком положении. Изображение самоубийства сделалось бы нескромностью.
В конце концов, и не совершив самоубийства de facto, человек может измениться таким образом, что самая естественная смерть станет для него эквивалентом самоубийства, и прожить долгую жизнь с осознанием того обстоятельства, что время и причины наступления «фактической» смерти не определяют её истинный – уже установившийся – смысл.
Искушение христианством
Сказать, что Кавафис относился к христианству (как к «вере» и институции) «отрицательно» – значит ещё ничего не сказать. Конечно, присутствовало некое «эстетически-историческое» измерение в этом отношении (как в стихе о церквах). Но на личностном уровне тут значится – простое «нет». Герой «Если он скончался» является автопортретом Кавафиса.
В самом главном – сторона «да», сторона «нет» – «отношение» Кавафиса к христианству тождественно ницшевскому. Но какая ещё может здесь сформироваться позиция, если брать по максимуму? Ибо нельзя не заметить, что это – единственно приемлемое для гомосексуалиста честное отношение. В данной ситуации гомосексуальность, в качестве «случайного обстоятельства», – возможны ведь и другие обстоятельства, возможна просто достаточная широта души, как в случае Ницше, – как бы способствует открытости взгляда. «Праведности», как сказал бы Ницше. Другой человек, возможно, способен быть честен «в вопросах совести» (Ницше) каким-то иным образом, например «христианским» (!?!) – но гей – только одним, вышеописанным.
Христианство соблазняет. Его почти непреодолимый психологический соблазн – сам образ его «истины», образ его «веры» и образ его «благочестия». В своей готовности всякую минуту сыграть на духовной слабости человека, а потом закрепить и бесконечно расширить эту слабость, оно не знает себе равных. Христианство – своими примерами, своими психологически безошибочными уловками – способно внести сумятицу даже в самые чистые души, соблазняя блаженно впасть в своё «общее», пойти (что немаловажно, «со всеми») к «истине» и «спасению», разумеется… Подобный убийственный момент колебания запечатлён в «Симеоне» и «Мирисе». Разве не следует назвать это подлинным «искушением» – искушением христианством?
С другой стороны, нельзя не обратить внимание и на то, что инерция указанного истолкования невольно сводит воедино «языческое» и «гомосексуальное». Раз, мол, ты гей – тебе не остаётся выбора, как быть «язычником». Каким образом избежать этого поверхностнейшего хода? Хотя бы так: данные два «явления» обладают как бы разным числом измерений. Их невозможно «сопоставить» в одном и том же смысловом пространстве, включить в одну осмысленную «игру». (Не говоря даже о неопределённости язычества «вообще».) В самом деле, «христианство» в онтологическом, заведомо всё определяющем плане – не вера (тем более – не религия). В этом смысле допустимо, если не неизбежно, говорить о Ницше и Кавафисе, как о «христианах». Язычества в новую эру – принципиально – вообще быть не может. Но христианская вера, как самый поверхностный выход из «христианской» ситуации, ситуации личности, – воистину, что-то чудовищное, притом исторически почти тотчас, в «городе набожном Александрии». Но в тех-то условиях – ещё могло существовать «истинное» язычество! В «Если скончался» одно просто подставлено на место другого – здесь ведь существенна лишь форма этого соотношения, форма праведности. Только поняв суть дела таким образом, мы сможем правильно понять формальность «взаимосоответствия» язычества и гомосексуальности. А не заменять одно другим и не отождествлять одно с другим «натуралистически».
Общий фон в «Если скончался»: но мы-то знаем, что он так и не явился! Напротив, этот так и не ушёл, пока.
(Но ждём ли ещё мы перемен?)
В чём отношение Кавафиса к христианству совпадает с ницшевским: глубочайше прочувствованное понимание христианства, как малодушного – если не сказать: недостойного – разрешения проблемы «личности» вообще. Ср. «наивное» выражение подобной христианской психологии у Ф. Сурбарана, например в «Детстве Марии» из музея Метрополитен. От лица подобного чистосердечного «выразителя» написан «Юлиан, посвящаемый в мистерии». Отношение к такой психологии недвусмысленно продемонстрировано и в «Симеоне», и в «Мирисе».
Также Apollonius of Tyania in Rhodes явно имеет в виду христианство. The clay and vulgar!
Поэтика
Кавафис является самым сильным любовным поэтом, поскольку его стихи – не «выражения» или «отражения» любви («поэзия как следствие любви»), но сама любовь в подлиннике, «экземплярно», да ещё в «выделенных» моментах (это не просто «концентрация», «экстракт», это просто – «тот самый» момент).
Можно сказать: у Кавафиса не «любовное чувство», как в музыке или обычных стихах, а любовная ситуация, которая непосредственно «накладывается» на подобную ситуацию (пережитую) читателя. Всё!
Отсюда: читать Кавафиса, не имея опыта любви, бесполезно? – Музыка или поэзия в этом отношении «самодостаточны». «Зимний путь», например, вполне возможно, притом с полной отдачей, понять и в 15 лет.
Итак, чистая форма чистой любовной ситуации. В этом весь ужас.
Замечание к переводу «Послеполуденного солнца». – «После обеда…» в 17 строке было бы гораздо сильнее. С. Ильинская напрасно внесла поправку в перевод. В первом проведении, когда сообщается факт неодушевлённого мира (а именно, соотношение солнца, окна и кровати), привязка дана к астрономическому явлению. Второй же раз речь идёт о заурядном житейском событии – прощались, поди, не впервой, – чему гораздо лучше соответствовало бы столь же заурядное «человеческое» указание. Тем более, что между полуднем и названным временем 4 часа «кажется» выглядит странно. Может быть, по-гречески фигурирует одно слово – с двумя оттенками? Но по-русски уместнее эти два, между которыми образуется зазор, на «коллапсе» которого построено стихотворение – что и делает его (словами Бродского) ужасающим. Грубо говоря, читатель вдруг осознаёт, что «после обеда» – это ведь тоже «после полудня»! и поэтому – возникает зрительная картинка – та самая кровать в этот, упоминаемый в 17 строке, час была освещена астрономическим солнцем так-то. Как была бы освещена и сегодня, случись ей оказаться на прежнем месте. – Описываемая обстановка комнаты и т.д. – ещё может принадлежать эстетике памяти. Но не внезапный «срыв» данного описания к конкретному «слишком человеческому» событию, как таковое рефлектированному post factum. Это и значит: не говорить о катастрофе, а прямо показать катастрофу.
С этим стихотворение выходит за пределы языковой выразительности – вообще за пределы языка, как самодостаточной стихии. «Слово» сохраняет роль только лишь формального «указателя». Оно безболезненно может быть заменено подходящим словом из другого языка. На подобном принципе не построено ни одного стихотворения ни у Мандельштама, ни у Бродского. А для Кавафиса этот принцип типичен (также и в «исторических» стихах). Что-то похожее есть, по-моему, у Тютчева. Сам подход: показать само явление.
«Катастрофа» у Кавафиса никогда не делается катастрофой переживания. Наивность романтической эстетики XIX века, в том числе вагнеровской, состояла в непосредственном отождествлении любовной катастрофы и переживаемого героем чувства. Как будто единственным адекватным выражением подобной коллизии может сделаться самоубийство или, ещё удачнее, разрыв сердца. Нестрой когда-то это высмеял: «Не нужен нож, умру сама собой». Кавафис изначально выявляет в качестве катастрофического не чувство (которое «внешне» может быть весьма скромным, может быть даже эстетическим), а саму ситуацию любовной катастрофы. А чтобы очутиться вновь в этой ситуации, достаточно случайно оказаться в той самой комнате. Можно сказать, здесь наличествует уже не «психология переживания», но «онтология переживания». С этим Кавафис и «работает». Поэтому и сама по себе «сдержанность чувств» не является для него самоцелью. Она делается своего рода «побочным продуктом» основного «настроя» Кавафиса.
Среди художников любви не найти двух больших антиподов, чем Кавафис и Вагнер.
Кавафис: «Прилагательное ослабляет речь и является слабостью. Использованием многих эпитетов при описании, например, пейзажа ничего не достигается… Искусство состоит в том, чтобы передать всё одним существительным, а если понадобится один эпитет, он должен быть точным».
Вагнер: бесконечное прилагательное.
То обстоятельство, что воспоминание заставит схватиться за сердце – для поэта более или менее банально, оно не представляет для него интереса. Это уже не его тема. Однако читателю, помещённому в зафиксированную стихотворением ситуацию и как бы повёрнутому вновь к своей аналогичной ситуации, ничто не мешает сколько угодно хвататься за сердце – но теперь уже вполне свободно, всецело по своей инициативе и под свою полную ответственность.
Но что тогда предлагает Кавафис читателю? Не новое для него чувство. И не углубление или растравливание существующего. – Скорее новую позицию по отношению к старому чувству, оставленному пока в стороне. Это можно назвать расширением горизонта сознания.
Описание концовки произведения в качестве «эпифании» не менее уместно в отношении Кавафиса, нежели Джойса. Например, в «Троянцах», «Послеполуденном солнце», «Варварах», «Если действительно мёртв» (!), According to the formulas (!), Theodotus, «Фермопилах», Supplication и т.д. The Horses of Achilles, An old man (!), Oedipus (!) – почти всегда! Иногда целое стихотворение – даже большое! – является эпифанией, скажем Beautiful flowers and white… Его ведь немыслимо интерпретировать как «описание» или житейскую «историю». Или «Сатрапия» – особенно яркий пример.
А «Бог покидает Антония» – своего рода эпифания в эпифании. Эпифания эпифании.
Чувственность
Что является залогом красоты для Кавафиса? Что является для Кавафиса «прекрасным»? Он назвал (в одном из последних стихов) себя «an aesthete». Насколько «красота» в этом понимании индивидуальна? Пожалуй, нельзя не сказать: абсолютно. Но тогда надо бы говорить о «красоте красоты»? Ведь в каком-то смысле, как якобы говаривал Сократ, любой юноша прекрасен. Редко встретишь действительно некрасивого парня. С другой стороны, встречается отталкивающее совершенство.
Иначе говоря: основа понимания красоты в качестве красоты лежит совсем в другом месте, не в «облике». Сказать «эстет» – в обычном смысле – значит сказать банальность. Но для Кавафиса красота абсолютно индивидуальна. Для него не существует красоты «вообще», прекрасного юноши «вообще».
Но тогда необходимо заострить вопрос: каково здесь соотношение «прекрасного», как функции «эстетической способности», – и сексуальной связи, «биологической способности»? Ответ: Кавафис достигает предельного синтеза «секса» и «эстетики». Однако не это самое удивительное в Кавафисе; многие шли по сходному пути. Самое удивительное – непосредственная естественность – без вопросов, терзаний и разъяснений – подобного синтеза. Строго говоря, для Кавафиса это «тезис».
Так получается, что два «внеличностных» начала – «идеал прекрасного» и «объект животной похоти» – в исходной точке оказываются личностью: вот этим парнем.
Т.е. «прекрасное» уже изначально не имеет значения «платоническое». Кавафис как бы ещё более «древний» грек, чем Платон. Во всяком случае – «христианский» Платон!
Для Кавафиса принципиальным является следующее – гениально подмеченное Бродским – положение вещей. Нечувственная, «платоническая» любовь преходяща. «Чтобы войти навеки», чтобы проявиться, как бы изначала, например, через 20 лет, любовь должна воплотиться – тем или иным образом, фактический образ воплощения здесь не существенен, – в сексуальном акте. Только этот момент способен сделать любовь как бы необратимой, или «вечной», если угодно. Даже если это всего лишь одна встреча, или одна неделя, или месяц (цикл «1903 год», «На 25 году его жизни», «Серые» и т.д. Названный момент отчётливо зафиксирован в Half an hour как бы «в малом»:
I needed to see your lips as well,
I needed to have your body close).
Но это такого рода «истина», до которой надо просто дожить – те самые 10-20 лет должны пройти.
«Эстетика» Кавафиса основывается на том, что можно обозначить декартовским punctum firmum et inconcussum: на «исторически подлинном» сексуальном акте.
Иногда задаёшься вопросом: не возникает ли настоящая любовь для Кавафиса непременно много позже сексуального акта, – бывшего вполне примитивным и внеличностным, – преображая своим сиянием прошлое, навсегда ушедшее («Начало», «Однажды ночью»)?