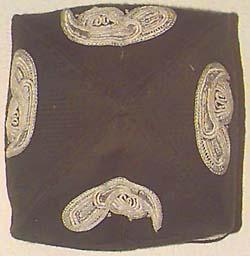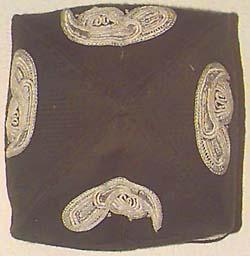Мне эту вещь передал мой друг Роберт Чандлер, известный переводчик
русской литературы на английский язык и в частности переводчик
и знаток Андрея Платонова. Он получил её прошлым летом
по электронной почте и долгое время, боясь незнакомого
вируса в скрепке, попросту не открывал текста. Кроме того,
он был по горло занят корректурой платоновского “Джана”,
который вот-вот должен появиться в лондонском издательстве
The Harvill-press. И всё же после того как мы проверили российскую
скрепку Norton-antivirus’ом, Роберт прочел-таки письмо и тут же – что бы вы думали – загорелся желанием
ответить отправителю, но как часто случается с русской
электронной почтой, этот адрес уже не отвечал. Наверняка
корреспондент уже успел сменить не один электронный адрес
за эти немые британские полгода.
Роберт дал почитать это письмо и мне; нет, не из простого дружеского расположения,
а поскольку письмо было напрямую связано со мной, с моим
именем. Горячечно прочтя его, и я залихорадил. Что только
я не испробовал: звонил в “Жёлтые страницы” Москвы, искал
по русскому Интернету, задействовал своих друзей с выходом
на адресные столы – но всё напрасно – так и не нашёл этого
самого Георгия, Джору Чегодаева, ищущего или искавшего
в свою очередь меня. И вот как последнее средство я решился
опубликовать это письмо в журнале, дав ему на всякий случай
литературное название, быть может, не самое лучшее, но
и не китчевое, наподобие “Джан2”, каким бывают “Рэмбо2”
или “Мужчина и Женщина2”. При этом там же я оставляю
свои и Робертовские координаты на случай внезапного совпадения
местоположения или же самого человека.
Уважаемый господин Роберт
Чандлер!
Позвольте представиться: меня зовут Георгий Чегодаев,
хотя все именуют меня Жорой, а мать в детстве и вовсе
звала Джорой. Я – инженеркомпьютерщик из Москвы. Живу
по другую сторону двора Московского Экономического института
по улице Плеханова, если Вы знаете такую. Ваше имя и электронный
адрес я нашёл через Оксфордский университет, где Вы, как
известно, издали книгу, посвящённую творчеству писателя
Андрея Платонова. Я также знаю, что Вы перевели на английский
язык многие произведения писателя Платонова, включая его
повесть “Джан”. Именно эта повесть и заставила меня обратиться
к Вам. Но расскажу всё по порядку.
Я родился в 1946 году в Левокумском районе Ставропольского края. К сожалению,
ни точного времени, ни села рождения я не знаю, то есть
лишён, как говорят у нас в физике, и временных, и пространственных
координат. В метрике, выданной мне в детдоме уже в возрасте
семи лет, значится 7 ноября, но это был день, когда нас
принимали классом в октябрята и заодно выдавали метрики
тем, у кого их не было. Местом же рождения указан Ташкент,
поскольку детдом, где я обучался и жил до 17 лет, был
по расположению ташкентским. Спросите: почему я оказался
в Ташкенте? Дело в том, что в Ташкент в первые послевоенные
годы меня привезла моя тётушка, сказав при этом: “Я умру,
хоть ты будешь жить, а то – ты умрешь и я помру…”. Как
раз после её предугаданной смерти я и попал в детдом,
а привезла она меня в Ташкент не только в поисках сытой
жизни, но и в поисках моего отца – человека по имени Назар.
Тётушка до своей смерти рассказывала мне ещё на Ставрополье,
когда я был трёхгодовалым отроду, что отец мой – узбек
(я тогда не понимал этого странного слова, воображая что-то
бегущее как лошадь или, скорее, как лиса), высланный сюда
выращивать хлопок (ещё одно непонятное слово, – наверное,
играл в ладушки с тётушкой, – думал я тогда), был затем
отправлен дальше в Донбасс в шахты, а мать, не выдержав
разлуки, умерла при преждевременных родах. Словом, выходила
меня на козьем молоке тётушка, но и ей суждено было прожить
лишь до моих пяти лет.
А жили мы с тётушкой в ташкентской коммуналке вместе со
многими пришельцами по хлебную жизнь. Среди них был и
художник по имени то ли Савченко, то ли Савицкий, который
купил у нас за четверть мешка кукурузной муки, солдатскую
шинель да яловые офицерские сапоги небольшой рисунок,
единственную вещь оставшуюся мне от моих родителей. Я
долго плакал над кукурузной лепёшкой, не говоря почему,
но мне было жалко этой картины, запрятанной художником
в свои закрома с десятками других непонятных картин.
Я и сейчас помню этот рисунок, висевший над моим деревянным
топчаном в ставропольской станице, может быть, самое раннее
воспоминание о моей жизни: долговязый человек нелепых
пропорций высовывает непомерно тяжёлую, эмбриональную
голову за редкие жестяные облака; за спиной его торчит
рюкзаком тощая лестница, которая выше его самого, и с
неё за спину, за его вытаращенный в пустоту взгляд скатывается
другая голова, повторяющая голову уставившегося в обрез
картины – какая-то Сизифова круговерть, то, что мы называем
в физике Perpetuum mobile, так бы я сказал сейчас, но тогда в детстве я страшно
пугался этой картинки, с которой эта отрезанная голова,
казалось, скатывалась ко мне на топчан, и этот долговязый,
смотрящий ввысь, ничем мне не мог помочь…
*
* *
In the first chapter of Dzhan Platonov
mentions a picture, which hangs on the wall of Vera's
room: "It was a representation of a dream, from the
time when the earth was thought to be flat and the sky
seemed close by. A big man had stood up on the earth and
made a hole with his head in the celestial dome; his head
and shoulders had gone right through to the other side
of the sky and he was gazing into the strange infinity
of that age. And he had been looking for so long into
this unknown and alien space that he had forgotten about
the rest of his body, which had been left below the ordinary
sky. The other half of the painting showed the same scene,
but things had changed. The man№s torso had come to the
end of its strength, had grown thin and probably died,
while the dried-up head was now in the other world, rolling
along the outer surface of the sky, which was like a tin
bowl; it was the head of a man in search of a new infinity,
where there really is no end and from which there is no
return to the poor, flat place that is the earth.
Почему-то этого человека, всё же держащего скатывающуюся голову
на привязи, когда я открывал свои зажмуренные глаза вновь,
я привык считать своим отцом, о котором в метрике было
записано: “Об отце сведений нет имеется”. Мать мою в том
же свидетельстве о рождении записали Усенией, хотя тётушка
всегда вспоминала её Ксюшей… Но к чему всё это вспоминать?!
Вот прожил я свою жизнь, худо-бедно 52 года, и жил бы дальше как и жил, только
вот на 50летний юбилей, который я собственно и не справлял,
мой трудовой коллектив решил подарить мне книжку о русских
именах и фамилиях под авторством некоего академика Баскакова.
И там среди других имён я нашёл и подчёркнутое моими друзьями
своё имя – Чегодаев, которое все эти полвека я считал
исконно русским, и оказалось, что оно – видоизменённая
форма монгольского имени Чагатай, и должна звучать не
Чегодаев, а Чагатаев. Тогда я стал искать эту фамилию
по Интернету, в “сетке”, как говорят у нас, и среди прочего
в сеть мне попалась книга Андрея Платонова “Джан”, которую
я, разумеется, отпринтовал на работе и принялся дома читать.
Скажу Вам, что я холостой – живу бобылём всю жизнь, как-то
не сложилось по этой части – полюс не сработал, так что
времени читать всегда предостаточно. Но правда и то, что
художественной литературы я не люблю, от неё у меня беспричинно
начинает болеть голова, а потому я предпочитаю ей музыку.
Как никак всё та же физика. И всё же эту книгу я прочёл
в один присест, в одну ночь. На следующий день я заболел
и взял отгул, но Вы как писатель должны понять, что это
книга перевернула меня с ног на голову – уж такая пошла
турбуленция… Или – своего рода короткое замыкание. Поначалу
я не понял в чём дело, а потом такая тоска стала грызть
меня, такая тоска…
Я технарь и словесам не обучен, но Вы наверняка видели
в своей жизни обугленный трансформатор, так вот я чувствовал
себя подобной силовой установкой, которая от замыкания
перегорела навсегда…
*
* *
I tried, but couldn't imagine this picture
as a picture; it is the invention of Platonov himself,
and this characteristically Sufi intention to see beyond
good and evil, to look through conventional or traditional
truths may be read as the main theme of Dzhan. The story’s
title, “Dzhan” – a word that Platonov himself glosses
as “a soul that searches for happiness”, could hardly
be more Sufi: the soul’s search for happiness, for its
own perfection, is the ultimate definition of Sufism.
Я не выходил на работу целую неделю. Я не выходил из дому на
улицу. Я передумал всю свою жизнь, которую помнил: начиная
с того, что я Вам рассказал, потом свою учёбу в МИФИ –
эти полуголодные, но светлые шестидесятые, когда единственной
целью каждого из нас было распределиться в СКБ по космонавтике
– я же попал в Обнинск, на ядерный ускоритель, где однажды
получил изрядную долю радиации и провалялся по больницам
несколько лет.
Нет, в конце концов меня выходили, отремонтировали – это тогда за годами безделья
я пристрастился к музыке – переслушал по своему самодельному
транзистору всю классику мира – и сейчас у меня в квартире
одна из крупнейших в Москве фонотек – все шкафы, сундуки,
комоды забиты винилом – будете в наших краях – заходите…
Но я прервался. Разумеется, после этого периода о семейной
жизни не могло быть и речи, и я весь ушёл опять с головой
в работу – в только что зарождавшуюся кибернетику. Казалось
бы, многого добился, а вот всю жизнь чего-то не хватало:
был во мне изначальный вакуум, дырка какая-то, которую
я всячески забивал то этим, то тем, а вот когда прочёл
эту книгу – всё обнажилось в открытую рану.
Скажу честно: не столько содержание этой книги потрясло
меня – я видел в своей сиротской жизни вещи если не посильнее,
то уж подобные, изоморфные, как бы сказали у нас, тому,
о чём пишет книга, нет, меня поразило то, насколько всё
в этой книге совпадало с моей жизнью.
Я сказал Вам уже, что маму мою звали Ксюшей, хотя в метрике
она и записана, почему-то Усенией (может быть, ЗАГСовский
работник описался, или как-то особо прописал букву “К”,
которая обратилась в “У”?). Она была родом из Москвы и
оказалась на Ставрополье сразу же после войны, где и встретила
отца. Так мне рассказывала тётушка. Потом та странная
картина на стене, которую у нас купил художник на букву
“С”. И, наконец, отец – Назар Чагатаев, оставивший мне
в безотцовское наследие моё имя: Джора Чегодаев. Не кажется
ли, что слишком много простых совпадений, включая наше
с тётушкой путешествие в хлебный Ташкент? Вот от каких
вероятностных мыслей обнажилась моя душа в состояние раны.
Через неделю я насилу вышел на работу, но не смог собой
совладать – в тот же день отпросился в отпуск без содержания,
сославшись на старые болячки Обнинска. Это было два года
назад. Я засел за компьютер. Перекопал всё, что касалось
“Джана”. К сожалению, было почти ничего, кроме самого
текста различных версий. И вдруг в октябре позапрошлого
года я узнал, что чуть раньше была какаято конференция
по Платонову в Оксфорде, и некто по имени Хамид Исмаилов
выступил там с докладом по “Джану”. Вы, наверное, уже
поняли, что именно её я и взял в эпиграфы. И вы, конечно
же, поймёте почему. В физике всё держится на изначальных
принципах, как в геометрии на аксиомах.
Я тут же переключил поиск на этого самого Хамида Исмаилова.
К сожалению опять не было густо со ссылками: несколько
сайтов с его литературой, сообщение Центра экстремальной
журналистики о том, что Х.Исмаилов был выдворен из Узбекистана
как корреспондент “Литературной Газеты”, и, наконец, 21
октября 2000 года я неожиданно нашёл на сайте Фергана.ру
(http://www.ferghana.ru/news03/400.html) новость под шапкой “Прокуратура
обвиняет”, которая начиналась такими словами:
ПРОКУРАТУРА УЗБЕКИСТАНА
ОБВИНЯЕТ
Uzinfo, Пресс-центр прокуратуры Республики Узбекистан,
21.10.2000
Управлением прокуратуры Республики Узбекистан по
расследованию преступлений завершено расследование уголовного
дела по обвинению организаторов террористических актов,
совершенных на территории Сарыассийского и Узунского районов
Сурхандарьинской области, Бостанлыкского района Ташкентской
области, а также 16 февраля 1999 года в Ташкенте – Юлдашева
Тахира, Ходжиева Джумабоя, Мадаминова Салая, а так же
непосредственных участников совершения этих преступлений
– Казиева Муродиллы, Бобожонова Улугбека, Рахмонова Хамиджана,
Каримова Шавката, Джалолова Нажмиддина, Умарова Юлдаша,
Абдулвахидова Олимджана, Шукурова Усмона и Махмутова Улугбека.
Проведенным расследованием установлено, что этими лицами
в течение длительного времени совершен целый ряд жестоких
и особо тяжких преступлений.
И далее поисковый сервер высветил
мне по тексту вот это место:
Летом 1997 года отправленные одним из организаторов
заговора К.Закировым в полевой лагерь, дислоцированный
в Тавилдаринском районе Таджикистана, М.Ашуров, Дж.Тургунов
и другие лица, прошли специальную диверсионно-террористическую
подготовку и получили задание Дж.Ходжиева и Т.Юлдашева
совершить диверсию путем взрыва Асакинского автомобильного
завода. Однако, 20 ноября 1997 года М.Ашуров, Х.Исмаилов, Р.Ташматов и С.Хамидов с 50 тротиловыми шашками,
12 электродетонаторами, 400 метрами бикфордова шнура и
автоматом АКС-74 с 29 боевыми патронами были задержаны
сотрудниками милиции в поселке Учкурган Кадамжойского
района Ошской области.
Вот это был удар! Только вышел на человека,
который мог бы прояснить мне хоть что-то о “Джане”, а
стало быть, обо мне, и вот тебе на! Арестован по обвинению
в терроризме!
*
* *
Before analysing Dzhan from the Sufi perspective
let me remind you of two famous Sufi poems, both of them
famous in the land where Platonov's Dzhan is set. The
first is "The Conference of the birds" by Farid
ud-Din Attar (12th century). In this poem – one of the
great works of world literature – Farid ud-Din Attar explores
the nature of the spiritual path through an allegory of
a group of brave birds that go in search of their king
– a bird called Simurgh – the equivalent of Phoenix. They
go through the peaks of exultation, hope, reliance and
love, and the intervening valleys of despair and fear,
repentance and acceptance, all of which represent various
stages of the seeker's way as he travels towards enlightenment
or as they say in Sufism – stations on their Way. Out
of the thousand birds who set out on the journey only
thirty birds under the leadership of Hud-hud (which means
self-self, Udod in Russian) achieve the kingdom of Simurgh.
But the word “Si Murgh” has two meanings; it can also
mean thirty birds. These thirty birds understand that
and their way are themselves the reflection of their goal,
that they ARE the Simurgh. The poem is a parabale about
the soul or Dzhan on her way to God. Attar's technique
of weaving wisdom within entertaining and amusing tales
has later become a common feature of Sufi literature.
The parallels with Platonov’s story are obvious.
Я долго не знал, что мне делать, но
пустота, обнажившая свои корни во мне, не отпускала, напротив
– разрасталась вдоль по проводам нервов и в одно из мгновений
я не стерпел, решив во чтобы то ни стало найти этого самого
Хамида Исмаилова – ведь как-никак не иголка в стоге сена,
не атом во Вселенной, тем более, если его доклады тем
временем читаются в Оксфорде, стало быть, есть люди, которые
пекутся о нём…
Один из моих обнинских коллегузбеков стал к тому времени академиком в независимом
Узбекистане, одним из руководителей ядерной физики, я
позвонил ему и рассказал всё как есть на духу! Странные
люди – эти узбеки, он мне расписал всё – как поступить,
к кому каким образом обратиться, и даже пообещал заговорить
за меня слово, но взял с меня смертельное обещание, что
я никогда и нигде ни при каких обстоятельствах не стану
упоминать его имени. Или же это была черта советского
физикаядерщика в ореоле сверхсекретности?
Но как бы то ни было, написал я в январе 2001 года
официальное письмо в Министерство Иностранных Дел Узбекистана
и направил копии в Министерство Внутренних Дел, Юстиции,
в Генеральную Прокуратуру, а также в общественный фонд
Жертв Репрессий, упоминая повсюду своё ташкентское детдомовское
прошлое, свои конструкторские заслуги перед Родиной, своего
злосчастного узбекаотца, сосланного сначала на хлопкосеяние
в Ставрополь, а потом на углекопство в шахты Донбасса,
и, наконец, как был тому научен академиком, намекнул на
свою неблизкую, но единственную родственную связь с гражданином
Узбекистана Х.Исмаиловым, арестованным по несчастью за
террористическую деятельность. В том же письме я пообещал
приложить всю силу своего влияния и авторитета, – если
мне будет позволено увидеться со своим младшим родственником
– дабы вернуть его на истинный путь служения независимому
и процветающему Узбекистану.
Рукопись этого письма, поддержанного моим головным институтом
и прежним ГКБ, до сих пор висит над моим компьютером –
я его выучил наизусть до мельчайших расплывов чернил,
пока ждал почти год ответа на него. Опять скажу о странности
узбеков: они никогда не говорят “нет”. Так и мне тут же
позвонили из узбекского посольства на Полянке и сказали,
что письмо принято к рассмотрению и решается на самом
высоком уровне.
Словом, я не знаю, как я прожил прошлый год – сколько
резисторов должно быть в человеческом теле, чтобы перенести
всё это напряжение. Тогда-то я и перечитал всего Платонова,
правда, больше ничего путного для себя не нашёл, да и
в физике он был наивным; потом я изучил всё что было подручного
об Узбекистане, включая сведения о местах “исполнения
наказаний”, как теперь назывались прежние колонии, лагеря
и тюрьмы, почитал имеющуюся в Ленинке историю репрессий
и выселений после войны, в общем, убивал медленное и верное
время.
*
* *
The second work is the poem by Muhammadniyaz
Nishoti (18th century), who was born in Khiva, the same
Khiva that is the centre of the world of Dzhan. The poem
of Nishoti is called Husnu Dil, or "The Beauty and
The Heart". In the kingdom of Body there is a King
– Mind (Reason), and he has got a son – Heart. When he
reaches adulthood the father presents him with a state
and his mother gives him a book. In this book the Heart
reads about Obi Hayot, the Water – or Source – of Life,
and then falls ill. His father talks to him; recognising
the problem, he calls his servant Nazar (the name means
Sight) and sends him to find the source of life. In the
fifteen thousand lines of the poem narrating his search,
Nazar encounters Pride, Honesty, Shame – in fact, every
human attribute – but nowhere does he the source of life.
Some kind people like Intuition say to Nazar that the
source he is looking for lies between the lips of Beauty,
who is a daughter of another king called Love or Passion.
Before the Heart can find Beauty there are battles between
two kings – Mind or Reason and Love or Passion. Love is
victorious. Finally all the poem’s heroes are united in
the Garden of Perfection, and there is a Feast where everyone
sings and dances. Heart wins Beauty, and at the same time
finds the Source of Life.
И вот в ноябре прошлого года, как
сейчас помню 12 ноября, в годовщину смерти моей матери,
мне позвонили из Министерства Иностранных Дел Узбекистана
и очень вежливо сказали, что осужденный Х.Исмаилов дислоцирован
в колонии строгого режима Джаслык в Каракалпакстане, и
это несколько усложняет свидание с ним, хотя работа по
организации встречи всё ещё продолжается. Обещали связаться
со мной немедленно по решении вопроса, но предупредили,
что республика проводит в январе 2002 года референдум
и потому реалистичней будет планировать возможную поездку
на февральмарт.
Обрадовался ли я звонку? Конечно же. И в то же время мне
показалось, что со мной затеяли долгую игру, которой не
будет конца, хотя, признаться, при новом размышлении я
опять обрадовался тому, что ведь позвонили, когда могли
бы просто позабыть. И я принялся с новым усердием за изучение
бывшего КомсомольканаУстюрте, переназванного теперь
в Джаслык.
То, что я прочёл в Сети о Джаслыке, отдавало чуть ли не
фашистским концлагерем. Вот, посмотрите сами, что я нашёл
на первом же сайте (http://www.memo.ru/hr/politpr/sng/sv5/Uzbekistan.htm):
РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН
СООБЩАЕТ ОБЩЕСТВО ПРАВ ЧЕЛОВЕКА УЗБЕКИСТАНА
(ОПЧУ)
Парпиев Шухратбек – 1969 г.р., родился
и проживал в г. Андижане. Отец 3 детей, рост 195 см. Был
арестован в середине 1998 года, судили его в составе группы
из 15 человек из Андижана (суд проходил в Верховном суде),
обвиненных в причастности к ваххабизму. Ему было инкриминировано
обвинение по ст.241 (укрывательство преступления), осужден
к 5 годам лишения свободы. До ареста и заключения весил
115 кг. По словам домочадцев регулярно занимался спортом.
Легко поднимал и переносил тяжести весом в 120 кг. Никогда
не жаловался на здоровье.
22.12.1999 года, спустя год после ареста, близкие
родственники посетили Шухратбека Парпиева в тюрьме, который,
несмотря на значительную потерю веса, выглядел сильным
и здоровым. Во время свидания, состоявшегося в Джаслыке,
он (Ш.Парпиев) отказался от лекарств, которые на всякий
случай захватили его родные.
Из заслуживающих доверия источников правозащитникам удалось
установить, что после отъезда родственников, начальник
колонии О.Бабажанов отобрал у него теплые вещи, включая
носки и обувь, а также семейные фотографии, привезенные
ими Ш.Парпиеву и на его глазах все эти вещи сжег. Своеобразный
акт вандализма сопровождался издевательствами над вышеупомянутым
узником.
Шухратбек Парпиев погиб 5 мая 2000 г. в Джаслыке
в результате жестоких пыток.
6 мая с. г. в доме Парпиевых поздней ночью примерно в
2-3 часа ночи раздался телефонный звонок из областного
Главпочтампта. Неизвестный сообщил о телеграмме, поступившей
на имя Парпиевых, в которой говорилось о смерти Ш.Парпиева.
По получении телеграммы выяснился отправитель – морг Сергелийского
(Сиргали) района г.Ташкента.
Телеграмма содержала следующий текст: “Ваш сын Парпиев
Ш. умер от легочной недостаточности, воспаления легких”.
В тот же день родственники прибыли в Ташкент, чтобы забрать
из морга тело Парпиева Ш. Кроме его тела там находилось
тело еще одного усопшего, также доставленного из Джаслыка
вертолетом.
По прибытии в Андижан, перед похоронами по мусульманскому
обычаю, совершается обряд омовения. Присутствовавшие при
омовении свидетельствовали:
1. Затылочная
часть головы размозжена после удара тяжелым предметом.
Видны следы шва;
2. Ключицы сломаны;
3. От 4 до 5 ребер
с каждой стороны грудной клетки сломаны;
4. На руках, выше
локтя, имеются почерневшие ссадины от оков;
5. На спине, между
лопатками имеется огромный синяк с кровоподтеками, по
всей вероятности, от ударов нанесенных дубинкой или палкой;
6. Запястья и икры
ног распухшие, почерневшие от синяков;
7. Кожа на ягодицах
содрана.
Во время похорон родственники и соседи Ш.Парпиева
заметили близ дома около 10 одетых в гражданскую форму
людей из милиции и СНБ (Служба национальной безопасности).
Во время транспортировки тела из Джаслыка в Сергели, его
завернули сначала в одну простыню, а после того, как оно
пропиталось кровью, завернули во вторую, затем обернули
одеялом и простынею. Все три простыни и одеяло были пропитаны
кровью.
Свидетели, а также представитель Хьюман Райтс Вотч (Human Rights Watch) господин Алекс Франгос (Alex Frangos), посетивший семью Парпиевых 16.05.2000 г., располагают
фотодоказательствами и письменными свидетельствами. В
том, что Шухратбек Парпиев был зверски убит в концлагере
Джаслык нет никаких сомнений.
И вот в этот ад земли меня приглашали после референдума.
Но у меня не оставалось ничего, что связывало бы с миром,
со временем, с моим прошлым и будущим кроме вот этой эфемерной,
галлюциногенной, едва живой и всё ещё пульсирующей лазером
ниточки накала, ведущей в темноте к отцу.
*
* *
This poem, with a hero called Nazar, is
written in a language called Chagatay, which can be seen
as medieval Uzbek. Chenghiz-khan, after conquering half
of the world, then left his empire to his four sons; Central
Asia was the domain of his third son Chaghatay, and the
culture and language thus became known as Chagatay. (By
the way the name of the founder – or rather father – of
the Russian Idea Pyotr Chaadaev, is also derived from
this same name.
Почему я был уверен, что этот самый
незнакомый мне Х.Исмаилов, написавший в той самой английской
статье о “Джане” не только историю нашей фамилии, но и
суть пути моего отца и даже нечто большее, во что всё
больше и больше погружался – сам наблюдая за этим – я
сам, может прояснить мне многое? Не только в силу наспех
переведённой, а потому избыточнозаманчивой оксфордской
статьи. Дело в том, что через сайт “Библиомана” я достал
единственный экземпляр его первой книжки, посланной во
Всесоюзный рубрикатор, и там напал вот на этот небольшой
рассказик, который, господин Чандлер, хочу привести Вам
полностью в отсканированном виде. Пробегитесь глазами
по нему, и Вы поймёте суть моей надежды, а то и больше
– уверенности в том, что я во что бы то ни было должен
отыскать этого человека на этой земле, поскольку то, что
не может выразить о себе физик, то выражает писатель.
Отец, Сын и …
Отцу моему, никогда меня не видевшему.
Сыну моему, никогда меня не увидящему.
Комната,
стол, остановившиеся часы. Тело в чёрных одеждах, склонившееся
над столом.
Вначале
было Слово. “Люблю, – сказал ты. – До сих пор люблю!”
– Это маму мою, которая умерла девять лет и месяц с днём
назад. Ты стоял надо мной, сидевшим на тахте, близко,
так близко, что дыхание твоё касалось моего лица и я прятал
его в ладони. В свои привычные, шероховатые ладони. Я
знаю, ты её любил.
Ты приехал в мою пустую комнату издалека и издавна. Двадцать
лет лежало между нами. Двадцать – какими они могли бы
быть?! – лет. Но хватит об этом.
Утром ты повёл меня по магазинам. Было воскресенье и было
дождливо. Хорошо сидеть в сухой машине. Хорошо сидеть
и долго-долго смотреть в промокшее окошко. Ты дал мне
покататься вдоволь, и мы с тобой объездили уйму мебельных
и всяких магазинов. Ты купил мне всё, что тебе казалось
нужным. Я часто отказывался. Ну зачем мне полированное
кресло?! Ты часто сердился. Мальчишка, ты хоть раз послушаешься
меня?! Ты говорил, что всё должно быть как у всех.
К вечеру мы вернулись домой. Ты протянул свои ноги, чтобы
я стащил с них сапоги. Я свернул твои грязные портянки
и вложил их в голенища пустых сапог. Потом мы расставили
купленные тобой вещи, и ты устало обрадовался.
Я уселся на полу по-турецки на свой единственный тюфяк.
Мне было привычно, за окнами готовился вечер, и я бы размечтался,
если бы рядом не было тебя.
Ты
– как новая одежда – стеснял движения.
Ты
сел в своё кресло и спросил, что я ем. Я вспомнил, что
нам надо ужинать. Ты резко остановил меня. Я послушался.
Ты встал и назвал мою жизнь собачьей, а квартиру – вонючей
конурой. Ты сказал, что я должен жениться. Мне стало смешно.
Ты не заметил и добавил, что пора прекращать эту подделку
под хиппи. А что это такое? – спросил я. Ты стал злиться.
Мне становилось всё смешней. Ты женишься? – тихо спросил
ты. Я рассмеялся в свои ладони.
А потом, потом ты торопился уезжать. На самом пороге ты
остановился и сказал: “Если тебе не жалко, я взял вот
эту штучку себе, она мне часто бывает нужна”. Это была
лупа, обыкновенная, в пластмассовом кожушке. Она всегда
лежала в моём кармане. И ты уехал с ней. Мне стало грустно.
Комната,
тикающие часы, кровать. Тело, обнаженно высвечивающее.
Великий
Отче – породивший, в иступлённой игре случая случайно,
в потугах прекословия камнем упавший, утаивший искорку
на ветру, сохранивший её в угоду новому случаю и давший
начало.
Отче – скала, кремнисто разверзшая тропу, резкие сколки
камней, криком тел своих брошенные под пухлые ножки ребёнка,
лепечущего шагами.
Отец – слепящий сполох света, вспоровший тьмину над головой,
звездой снизринувшийся в бездну.
О… – камень!!!
…Там,
на Голгофе, в палящий солнцем день, выхватывающий каждый
бугорок обнажённого тела, принесший крест свой и телом
в него впившийся, был распят Сын, искупитель Варравы,
разбойника, не помнящего отца своего. Его потрескавшиеся
губы сбивались в мучительный шёпот: Ели, ели, лама сабахтани,
– и длинные пряди волос падали на глаза. Солнце свирепо
жгло и тело, давно чужое, немо взывало у краешка ослепшего
сознания.
И губку обмочив в уксусе, на камышине, подали ему, и губы
его зашевелились, и голос, ломая хрип, произнёс: Отец,
в руки Твои отдаю дух мой!…
Тело
моё, каждая неровность на ощупь, – прикоснись, прогладь,
трогай и обожжённо шарахайся. Этот локоть – мой, холодом
лепящие руки – мои, грудь зажавшая дыхание, бугорчатый
живот, волосы от пупа – тысячу раз как в первый – всё,
всегда одно – моё. Воплощение капелюшечной вероятности,
необъятной в равенстве и единстве с другими, одно, отметая
кровную нескончаемость, сплетя непреодолимую усладу в
кричащий узел с вынесенным страданием, явилось потворствовать
и узаконить сущее, явилось дышать и мучиться жаждой, жаждой
невыжженной вероятности. Тело моё: рука, голова, глаза,
губы. Тело, мучимое и манимое, выпестованное из женщины
и к женщине стремящееся. Ах, постель так мягка! Как хочется
умиротворения этим, чуть не лопающимся мускулам…
А тело не знает
примирения, бушующее и неусмиримое, из-под рук выскальзывает
и змеится, смеётся и плачет над тщетными потугами, стучит,
стучит, стучит… И холодно, и жарко. И больно. И несу,
несу я его по свету, и несёт, несёт оно меня по жизни.
Ни конца, ни начала тому. И не может оно одно, одиноко
любимое и хранимое, в пустой постели ворочаться, скрипя
мышцами, оно – ищущее вожделенный покой…
Комната,
кровать, тихая темнота. Едва выскальзывающие линии тела,
утопшего в постель.
Беззубая
пустыня. Солнце, сожравшее небеса. Воет песок, ложится,
встаёт и опять в путь. Кустики – редкими закорючками на
барханной глади. Человек. От куста припадая к кусту. И
руки в кровь. Сухое волокно кореньев, зубы забитые ими,
судорога глаз. Мрёт пустыня.
Язык липнет к нёбу, губы бьются и рвутся, соча кровинки;
солоноватая горячка вкуса, желтеющий песок валит в глаза
и каждая песчинка – уже каленый шар, неумолимо пущенный,
слепит глаза. Краснокрасно.
Растекается.
Мутная зелень счищенно размывается. Дождевые листья. Чащоба
непролазной зелени. Дребезги солнца, мелко посыпанные
по траве. Влага на ногах. Туда, глубже, угрюмейшая тень,
сыро тянущаяся вверх, к колодцам рыхлого, дрожащего света.
Птицы густо сыпят голосами. И шелест мешается с ними.
Солнечная поляна. Оранжевые ягоды на порыжелых кустах.
Дальше и выше – сад на склоне прилёгшей горы. Увесистые
фонари яблок, сбитых в один разрывающийся хруст, налитые
утренним солнцем, и виноградник с позолотой застывших
капель пресочного лета. Женщина, смеющаяся телом. Тряпьё
одежд. Это не кровь в глаза, это истома застигшего тепла
и покоя, сытое лето…
Дрожа коряво на ветру, режет пещеры глаз, торчащий из
пошелёстывающего песка стебелёк. Срезанные в зелёную кровь
пальцы гудят и жгут, подёргивается ладонь, и зубы скрипят.
Песок гудит. Песок жжёт, дрожит песок. Скрипит. Ветер
накрадывается. И сбивает с ног и катит. Какие тупые ноги…
И вдруг – удар. Сруб заросший песком, и шелест… Тихо,
тихо… Это не песок. Губы рвутся и кровоточат, язык во
весь рот и дыхание, клокочущее в груди, сжигает и горло
и… и… вода… вода…
И с шумом он падает. Там, в чаще зелёной влаги, криком
остался сын. Дитятко. В тени лесов бьющий ножками. Ах,
крикливая память, пронзительная, истошная. И нет спасения,
вода схватила тело, вцепилась холодом в горло и неотвратимо
захлюпала выше. Тело рвалось, хватаясь за своё, но упало
и внезапно, устало и грузно обнаружило, что это – дно.
Тяжело отпуская, ломающая блеск вода обвилась вокруг пояса
и онемела. Небо опускалось осторожно в колодец. Ослизлые
стенки сверкали сбивающим коварством, и небо опять уползало
вверх. И сын живёт под этим небом, небом давнишним, ведущим
все пути к этой минуте и от неё безотвратно сбегающим.
Тело его и дух, те, которые остались там, в дремоте неподвижного
леса, смотрели в землю, пугаясь вскинуть глаза к просторам,
своей синевой неподвластно зовущим, влекущим, ослепляющим.
Нет,
нет, ему не видеть этого… Но откуда, откуда это сбитое
тело, спускающееся из-под небес, откуда руки, поддерживающие
под локоть и влекущие наверх? Ступень, ещё одна… и срыв…
Гниль вымокшего среди пекла дерева, полая и обманчивая.
Но он тянется, карабкается наверх. И на выступе, на котором
не удержаться двоим, в человеческий рост от головокружительной
синевы – какая тяжесть на плечах, ах, не сбить бы дыхание!
– воздухом сшибло его и обрушило вмиг назад, и он успел
сообразить, что сослужил опорой… и взвизгнувший всплеск
гнилой воды поглотил его навсегда…
А
самая душа его, взлелеянная затенённым шумом зелёного
леса, в прозрачной качалке светлого воздуха, с плеч, снизринувшихся
в распозабытую бездну, рванулась к небу, мелькнувшему
синей капелькой над головой, схватив с собой всё непосильное
и надорванное в тяжком пути по оставленной теперь земле,
как вздох, последний, усталый, умиротворённый…
Сын…
А
в глаза бил песок. Земля сутулыми плечами вздымала одинокое
тело, бегущее от корня к корню, падающее и преодолевающее
бархан за барханом, и не было во все глаза никого вокруг:
одна великая земля, в которую ушёл отец, могучая выжженная
земля, на которой отец оставил память о дремучетенистом
лесе, о хрустящих травах по берегам запрокинутых озёр
и о растрёпанном солнце над робкими верхушками дерев,
земля, дарованная отцом и с ним же ушедшая, как плечи
из-под ног…
И
сын проснулся. И было слов вновь.
*
* *
I have spoken of these two poems not in
order to argue that Platonov was definitely familiar with
them, though their popularity was so great that their
motifs probably saturated the songs of the bakhshy – the
bards or minstrels whom Platonov mentions both in his
notebooks and in Dzhan itself.
Do you remember the songs which he mentions
in Dzhan: “We won’t cry when tears come to us, we won’t
smile from joy, and nobody will be able to reach as far
as our deep heart, which will make its own way towards
other people and the whole of life and stretch out its
hands to them, when its bright time comes. And then: “every
man has his own pitiful dream, some beloved, insignificant
feeling, that distinguishes him from everyone else – and
this is how the life inside us closes our eyes to the
world, to other people, and to the beauty of the flowers
that live in the sands in Spring”.
У нас в современной физике теперь
говорят о струнной теории. Суть её в том, что фундаментальное
строение материи напоминает струны и колебание струны
– какой бы длины она не была – равнозначно по всей её
длине. Мне показалось тогда, что эта струна и связала
меня с Джаслыком, с этим незнакомым человеком, который
описал меня как закон физики наперёд.
Я не только изучил рельеф, местность, обычаи, но
и обнаружил, что в Нукусе – столице Каракалпакии есть
Музей Современного Искусства имени Савицкого и во мне
вспыхнула догадка, что это и есть тот самый художник Савченко
или Савицкий, которому тётушка продала в послевоенные
годы ту маленькую картину моего детства, изображавшего
человека, несущего за спиной лестницу – эти две параллели,
перехваченные вместе – в небо, чтобы потерять голову.
Теперь этим человеком я был сам.
И вот наконец в марте этого года мне позвонили из
узбекского посольства и попросили срочно связаться с Министерством
Иностранных Дел Узбекистана на предмет немедленной поездки
в Ташкент. 15 апреля я вылетел из Москвы и после удивительно
недолгих формальных встреч с иностранными и тюремными
властями, мне разрешили вылететь в Нукус, и далее в Джаслык
в сопровождении дипломата и офицера милиции на встречу
с Хамидом Исмаиловым.
Дорогой господин Роберт Чандлер, позвольте рассказать
Вам о самой поездке чуть подробней и просто привести здесь
свои дневниковые записи, которые я естественно вёл каждый
вечер в гостиничном номере в столь важном для меня пути
в Джаслык. Признаться, сейчас, когда я просмотрел их вновь,
спустя два месяца после поездки, они мне кажутся несколько
странными, но уж как всё было…
1.
The parallels between those two Sufi poems
and Platonov's Dzhan are not merely a matter of subtle
motives; more importantly, they are present at a structural
level. First, let me make clearer the concept of the Sufi
mystical way and of its stations or stances. There are
different views according to different
schools, but most Sufis agree that the
first station on your spiritual path is Repentance. There
are grades of Repentance: if, for example a simple man
repents because of his sins, a more advanced one repents
because of his negligence. The highest grade is marked
by repentance of everything apart from God. The saying:
"The sins of the beloved by God are the virtues of
ordinary people" is about them.
Апрельским вечером этого года я вышел
в железную калитку Нукусского аэропорта. Встречающие лица
бросились в глаза разнообразием мимик, ракурсов, любопытства.
Две девочки – одна полукровка, и другая – выпестованная
каракалпачка, ждали маму или ещё кого из родителей и их
лица застолбили круг моего ожидания по тем, кто сопровождал
меня чуть запоздалым следом. Они переступили из калитки
– один из Министерства Внутренних, другой – из Иностранных
дел и чтобы сохранить себе свободу обозрения двух безнадёжно
молодых пятен, скользнувших в ответ, я стал немедленно
набирать на благоприобретённой в Ташкенте сотке номер
местной справочной по домумузею художника Савицкого с
его авангардной коллекцией. Тонкие лица девушек вечерних
в свет красоте уже смеялись в профиль, оставив по глазу
для должного ожидания, и я слышал вполуха их степной,
диковатый акцент.
2.
The next station is Circumspection. Here
the Seeker separates what is allowed from what is not
allowed, but once again the concept differs for different
grades. One famous Sufi, Ash-Shibli, said that Circumspection
is a sense that there is danger in everything that distracts
you from God. The next stations are Abstention, Penury,
Patience and Reliance, and the final one is Acceptance.
All of these stations have their respective grades, whose
subtleties are reminiscent of Hegelian dialectics: if,
for example, the first grade of Abstention is Abstention
itself, the highest grade is Abstention from Abstention
– because earthy life is nothing, and abstention from
nothing is just ignorance, according to the same Ash-Shibli.
Милицейским УАЗиком под дружественным конвоем
угнетающих тюремщиков нас увезли в центральную гостиницу
города, куда стекались струйки нерасторопнобесхозных иностранцев
предыдущего рейса, а город, оставшийся позади сравнением
с каким-нибудь пустынным Ургенчем, доказывал им вдогонку
у самой гостиницы свою самобытность пыльным свирепым ветром.
Этот ветер колотил воздух по обратную сторону накрепко заколоченных
окон огромного номера, в пять разом комнат которого нас
поделили троих, и оттого занавески тревожно сбивались в
кучу.
Иностранцы гремели аппаратурой по ту сторону входной двери завидного номера,
ютясь за те же деньги в ежедневных двуместках и навлекая
подозрения угрюмых тюремщиков, оставивших нас на волю ночной
гостиницы.
С дипломатом мы спустились в ресторан, хранивший
своё название среди обшарпанных стен поверх замызганных
столов и уцелевшей посуды, но и здесь нам отвели номер,
дверь в который закрывалась наброшенным под косяк густым
полотенцем. Вошла девушка местных черт с биркой “Гуян” на
подъёме груди, хотя дипломат обратился к ней проще: “Гуля”
и она откликлнулась: “Гульнара”. Она была хорезмийкой –
типом девушек, заставляющих вспоминать огузский говор и
с нарастающим ужасом расшатывать общий язык, на который
она не улыбается ни в ответ, ни в отместку. Я предложил
её похожесть на ташаузку Алму из нашего института, мать
которой просила сперва выйти замуж за хорезмийца, потом,
спустя срок, хотя бы за узбека, позже – пусть и за туркмена,
а то и любого мусульманина, а в конце концов – за кого угодно,
лишь бы был хорошим человеком и лишь бы вышла. Не вышло,
хотя я ел преданно и недосолённую шурпу, и чахомбили, в
котором можно было глотать всё что было, кроме болезнетворных
кусков прежней курицы…
Она – потерявшая в борьбе с жизнью все признаки возраста
– сновала в ряду профессиональных деформаций, как те кувалдорукие
тюремщики видят во всяком встречном несбывшегося узника,
а я мерю их равновесом вопроса, радиирована или нет, ведь
иначе – почему так лампочно бледна, так и она побуждала
и в присоединившемся позже опере, и в дипломате вожделенное
продолжение ряда: поднимется наверх или, разуется, как та
самая болезнетворная курица здесь…
3.
As well as these stations, which can be
achieved by spiritual development and training, there
are states that are granted according to the devotion
of the seeker. I'll just mention them: Observation, Closeness,
Love, Fear, Hope, Passion, Favour, Tranquillity, Witnessing,
Certainty. These stations and states form a ladder of spiritual ascent
to the Absolute, when the seeker loses, or finds, himself
in God like the thirty birds in the Simurgh.
Там наверху я дозвонился до хранительницы
коллекции Савицкого, рассказал ей наспех свою историю
и, удостоверив в своей безопасности, договорился, что,
несмотря на инструкции, она обещает открыть хранилище
послезавтрашним воскресным утром на час или полтора. Завтрашний
субботний день был рассчитан на Джаслык. Она же встречалась
с досужими иностранцами, добравшимися и досюда в тоске
по смыслу жизни.
4.
Let me now compare the structure of Dzhan
with this brief model of the Sufi way. Let's leave for
a moment the introductory first chapters, which actually
contain the whole story in short, and go straight to the
desert, to which Chagatayev returns to save his tribe.
He could have stayed in Moscow, brought up by the Soviets,
but something like repentance drove him back. He goes
through the desert, recognising forgotten things; he feeds
a dying camel and sleeps near him, wondering about “unordinary
reality”. Observation and Wonder are his first station
and states in his new old life.
Утром в четыре часа бодрый как будильник
шофёр ввёл нас троих в двухприводную “Ниву” – самолёт степей,
и взял путь по городу в степь. В темноте, через которую
был проложен мост, сперва через канал, потом АмуДарью,
Нукус распространялся в то, что впоследствии оказалось Ходжейли.
Ветер менял угол воя, пока не кончились дома вразнобой,
и не началась равновеликая степь, рассеченная надвое мокрым
асфальтом. Колёса жерновами мололи тьму, и дождь крупного
помола стал сыпаться по сторонам. Опер спал впереди, его
голова стучала затылком на ухабах. Сын профессораарабиста,
дипломат ёжился в костюме, и галстук, сгорбившийся поверх
живота, грел его клюющий подбородок. Я же, не доверяя сну
любопытства новых мест, силился вглядываться вперёд вслед
за фарами, и не видел ничего кроме мокрой дороги, несущейся
под колёса. Водитель тем временем делил со мной темноту
пространства, хотя страх, что он давно уже спит, опираясь
костлявыми локтями на руль, принадлежал одиноко мне.
Я вспоминал своё детство, как однажды в ночь тётушка
несла меня на своих руках по калмыцкой степи – к доктору
в соседнее село. Дикие собаки выли на нас, а однажды сквозь
воспалённое жаром сознание я почуял, как оказался на земле
и тётушка что-то вопила – ещё пронзительней, чем эти собаки,
обернувшиеся степными шакалами и хватала горстями землю,
которую – как воображаемы и ею, и этой голодной стаей,
она швыряла на остриё своего крика. Я сам схватился тогда
за землю, и вдруг из-за туч выплеснула луна и от света
её, как от жилого фонаря шарахнулись по сторонам шакалы,
а воющая для острастки тётушка, сгребя меня в охапку,
бросилась вперёд, где низким продолжением смурных звёздочек
мерцали болезненные фонарики калмыцкого села…
Вскоре и наши фары стали вязнуть в сером густеющем
осадке, а дождь – всё более чернеть, прежде чем сбрасываться
на ходу монотонными дворниками с увеличительного лобового
стекла. Проснулся по распорядку опер, почуял общее шевеление
вокруг дипломат – его галстук вытянулся в рост, как будто
принимая парад последнего вагончика у последнего шлагбаума,
после которого дорога теряла обозначение вместе с асфальтом,
и уже тревожный взгляд достигал смутных очертаний плато,
резко ломавших горизонт. Там начинался Устюрт – некое
древнерусское слово из стародавнего учебника географии
за 5 класс, переведённое языком водителякаракалпака столь
просто – Верхний Мир.
Ещё с полчаса сокращался несгибаемый взгляд, не воображая,
как можно обогнуть этот вал в несколько полных горизонтов,
и тем более – взобраться машиной по его отвесному белому
фасаду, каким бывают зубы в пасти у кита. Бездорожье нижнего
пустынного мира плеснуло последним рывком вездехода, и
как доисторическая волна билась, закручиваясь здесь, о
берег, машину бросило в сторону – к началу оголённого
спиралью подъёма. Скорость грязного потока, захватившего
скудную дорогу первым – сверху вниз – дразнила иллюзией
нашей подвижности, подкрепляемой прыткими камнями и скрытыми
ухабами, и только повороты, где вода кружила голову, возвращали
реальность опускающейся высоты: кроме шофера, которого
не пускал руль, остальные согнулись вперёд – галстук дипломата
как ленточная борода фараонов – торчал из-за спины водителя,
а я держался руками за недавнее место головы тюремного
милиционера. Так начинался Устюрт, где внезапно, как сметённая
верховным ветром, кончалась всякая литературность.
5.
Chapter 5: Chagataev meets a tortoise
– a symbol of self-protection – and then Sufian, who is
wrapped in his knowledge just as the tortoise is covered
by its shell and who becomes in a way Nazar's guide. Notice,
that Sufian is the plural or respectful form of Sufi and
that and in the list of the characters Platonov descrives
him as a “durak zhizni”, a fool of life – almost a holy
person. Nazar kisses him and realises that his lips have
the same taste as the lips of Vera – is lost beauty. By
the way, the rite of initiation in Sufism could, technically
speaking, be performed by transmission of saliva from
mouth to mouth. As Virgil takes Dante to the circles of
the Hell, Sufian tells Nazar that Sary-Kamysh used to
be the hell of the world. Nazar recollects the Zoroastrian
story about Ormuzd and Ahriman. He is impatient, full
of intention to change people’s lives. Then Nazar recalls
how the Dzhan marched to Khiva and how, where he and Sufian
are now standing his mother said to him: “Lucky the man
who dies inside his own mother”. "Die before your
death" is a famous saying that expresses the essence
of Sufism. Platonov goes further, saying through Gulchatay:
"Die before your birth".
Представьте себе телевышку в 180 метров,
верхнюю точку которой ветер раскачивает с амплитудой в три-четыре
метра. Это – допуск качения. Устюрт же чуть ли не вдвое
выше. Правда, машина наша шла, медленно вгрызаясь в землю,
и оттого боковой ветер шумом ничуть не меньше мотора, не
пугал, как мог бы на равнинной скорости. Мы ехали вихляя
по плато, следуя двумя глубинными утрамбованными колеями,
оставленными прошлыми КАМАЗами и ЗИЛами дальнобойщиков,
колеями всё больше и больше наполняемыми ливневой водой.
Рассвело, а потому мы живо разбирали слово Устюрт по слогам,
противопоставляя его Пастюрту – Нижнему Миру, оставшемуся
позади дном незапамятного океана, обращённого геологией
в пустыню. Шофёр заметил, что поверх Устюрта это место называется
БарсаКельмесом, слева начинаются солончаки – место из которого
нет возврата, и от этих переводных слов повеяло детдомовским
детством о трёх узбекских богатырях, расходящихся по трём
тропам: откуда есть возврат, откуда возврат возможен, и,
наконец, откуда нет возврата.
Но нас занимала больше наша скорость: “Сколько ещё километров
пути?” – “Двести-триста?” – “И никак нельзя ехать быстрее
тридцати километров в час?” – “Это же сколько времени ещё
в пути?” Впрочем, несмотря на бодрые заверения шофёра, машина
шла двадцать километров по спидометру.
Воды в колеях прибывало: круглый Устюрт был наглухо закрыт
серой крышкой неба и дождь вколачивал гвоздь за гвоздём
по диагонали. Машину от этого болтало, она то ныряла, то
вскидывалась с рёвом из воды и опять скакала между редкой
зеленью перекати-поля, пробивавшуюся сквозь желтизну прошлогоднего
покрова и чёрными проталинами мокрой насквозь земли.
Проехали с десяток километров, пообвыклись с дорогой, опять
стали пересчитывать время: 160 километров от Нукуса по дороге,
сорок до вагончика и шлагбаума, впереди же…
Впереди в ложбине скопилась вода с полфутбольного поля и,
не доезжая её, водитель дал резкий крен вправо – в объездную
шлею, намеченную посуху теми, кто наверняка боялся разбить
легковую подвеску мотоциклетной люльки ли, или кардан Москвичка.
Наша Нива скользнула юзом и забуксовала. Водитель поддал
газу, машину скривило и снесло немного вбок. Ещё газу –
она застыла. Шофёр включил передний привод – даром что ли
вездеход – машина качнулась и нос её пошёл книзу. “Дай назад!”
– скомандовал милиционер. Водитель послушно загнал в угол
ручку коробки передач. Машину затрясло, она опять повиляла
кузовом, и мотор заглох. Шофёр повторял свои движения, но
машина отказывалась двигаться, как упрямый осёл. “Сейчас”,
– сказал водитель и вышел под дождь оглядеть колёса.
“Брось под колёса сухостоя!” – посоветовал кто-то из нас,
водитель пошёл, скользя по грязи до ближайшего чёрного куста
тамариска и стал тянуть его из земли. Пустынный куст изо
всех сил сопротивлялся, вцепившись в землю. Тогда водитель
стал скручивать ему голову: укололся, попытался вытащить
занозу, схватился покрепче за низ ствола и опять напрягся.
Но внезапно ноги его поехали вперёд как на водных лыжах,
он сел полной задницей в грязь, обматерился под наш дружный
хохот, и гневно стал раскачивать куст из стороны в сторону,
пока не выгреб его из липкой земли, чтобы принести к машине
и утрамбовывать под переднее колесо.
“Надо бы побольше”, – посоветовал милиционеру дипломат.
Мокрый и грязный водитель пошёл тягаться с другим кустиком.
Потом он вошёл в машину, шмыгнул растаявшим носом, вытер
грязь с рук промасленной марлей и сказал: “Ну, теперь пойдёт!”
Мотор взревел, передние колёса вскинулись на мгновение копытами,
но задние не пускали, и тогда шофёр осмелился сказать: “Выйдите
из машины…” – “Надо побольше травы”, – согласился я в промежутке
между тем, как он пояснил: “Машина станет легче, может быть,
тогда выберется…”
Милиционер вышел в свою дверь и плюхнулся в грязь, а потому
я пошёл за дипломатом в водительский проём. То, что казалось
твёрдой каймой колеи, расползлось под ногами, и два-три
шага прочь в сторону будто бы устойчивости вынесли нас на
ветер, выстреливающий из-за неподдающегося кузова. Я замёрз
немедленно и побежал в своих московских лаковых туфлях спасаться
к редкому кустику. Ещё до того как я бросил свою долю под
колёса скрежещущего автомобиля, дипломат растёкся соплями,
или это дождь цеплялся за его крючковатый нос, прежде чем
упасть каплей на вздувшийся галстук.
Машина истерично визжала, но колёса лишь месили грязь, разбавляя
её при этом скудным сухоломом. “Давайте толкать”, – предложил
я. – “Лучше согреемся сперва”, – решил милиционер, и мы
мокрые полезли в кабину. Дрожащий шофёр вытерся марлей и
протянул её мне, а я дипломату. Милиционер закатывал брюки
наперёд и затем стал разливать чай из благоприпасённого
термоса. Водитель достал из бардачка пакет с лепёшкой и
восемью отваренными яйцами. “Да, холодно”, – сказал кто-то,
другой рассмеялся в ответ: “Это только начало лета…” – “Признаться,
за бессонницей я подумал было там, в Нижнем Мире: а что,
если мы застрянем в этой степи…” – начал я, но милиционер
прервал: “Кто-то плохо подмылся перед выездом…” Опять рассмеялись…
“Сейчас наберёмся сил и станем толкать машину”, – предложил
он. “А может быть взяться вчетвером и перетащить зад машины
насухо?” – это я. “Надо найти камней”, – это опять милиционер.
6.
At end of the chapter, in their desperate
hunger, Sufian and Nazar eat the raw meat of the camel
. This marks the end of Chagataev’s initiation to the
life of the Dzhan: if the tortoise is like Sufian, the
camel with the two loads of his humps is similar to Nazar
himself with his two loads of memory: Moscow with Vera
and Ksenya and his childhood in the tribe. He who died
before his death is now on the path to the Soul, the Dzhan.
Chapter 6. The mosquitoes who killed the
Dzhan are dying themselves from the antidote produced
by the Dzhan. The Dzhan are so full of Death. In one of
the most famous Sufi treatises As-Sarradj says: If the
earthy life meant for Allah even as much as the weight
of amosquito's wings, He would not let infidels drink
a gulp of water. But here Molla Cherkezov is ready to
exchange his daughter Aydym for a donkey. Nazar leaves
Sufian with Molla and takes Aydym away. She says: “I love
you and I'm afraid of you”. Love and Fear are the next
states on the spiritual way.
Он был в прошлом десантником и воевал
в восьмидесятых в Афганистане. Оцеплял Кундуз, Мазар,
Гардез. Афганские узбеки спрашивали его: “Ты мусульманин?”
Он кивал согласной головой, тогда они просили его произнести
шахаду, он спрашивал у них: “А что это такое?”
Однажды, когда их сбросили ледяной ночью вразброс
в горы Бамияна с заданием выходить на перевал, обозначанный
на карте, он неудачно приземлился и то ли сломал, то ли
вывихнул себе ступню. Боль была такой, что он не мог двигаться,
а обнаруживать себя ни криками, ни свистком, ни ракетой
не дозволялось по приказу. Он полз одними руками в сторону
назначанного пункта сбора, но утро настало раньше чем
он преодолел половину надлежащего пути. Он скрылся в арчовнике
– советский десантник, воюющий с единоверцами моджахеддинами.
Разбухшая нога всё так же свирепо ныла. К полудню, когда
он врылся под выступ скалы, застелив землю и себя ветками
арчи, и стал накрепко перевязывать красную ногу своей
майкой, над соседней горой пролетел их вертолёт – собирать
остатки команды. Так он и остался там в осенних горах
один на один с жизнью и смертью.
Он рассказал между делом, как на третий день подкараулил
кабанёнка, пока его родители бегали на водопой, как ел
этот “харам” – мало того что недозволенное Аллахом, но
к тому же сырое мясо, как обвязывал животным жиром свою
не только вывихнутую, но и отмороженную ступню, но както
умолчал, каким образом остался жив и вернулся домой…
Было странно слышать это от него – подполковника
милиции, который не далее как позавчера лебезил перед
своим генералом, лепеча: “Есть товарищ начальник!” – когда
тот материл его на чём свет стоит за какойто бюрократический
пустяк, посылая его куда подальше, пусть даже и проводником
в Джаслык…
7.
Chapter 7. Nazar meets his mother. In
the middle of their Penury he sees a mirage of the future.
This is his Hope.
Это я вспоминал со вчерашнего вечера
в тёплом и грязном ресторане, когда кабина Нивы пропахла
яичным желтком и мы, жуя лепёшку вперемешку с яйцами,
стали раскладывать варианты. “Сколько километров мы проехали
после подъёма?” – и хотя вопрос был задан водителю, угрозу
почувствовал я и поспешил перебить его медленную мысль
другим: “А что, дорога до конца такая?” – и не дожидаясь
ответа, закруглил: “Давайте, сперва вытащим машину, а
потом уже разберёмся как и куда…”
Водитель выключил мотор, когда набралось достаточно
тепла, чтобы нейтрализовать липкую влагу одежды, бросающей
в дрожь, и в тишине тикнула стрелка часов. Время было
7.40 утра. “Хуже было бы застрять вечером…” – “ И здесь
вы ищете формулу?” – опять рассмеялись.
“Ну что, выйдем толкать?!” – бывший афганец поднял ещё
на один оборот свои штанины и застегнул борт парадного
гражданского пиджака. “Обувь снимаем?” – спросил я. “У
меня кеды в сумке, – ответил эксдесантник, – я пойду
в них…” Мы с дипломатом поначалу собрались выйти в носках
и сохранить сухими туфли, но посмотрев на их грязь, я
решил оставить в кабине носки. Поверх пиджака я надел
тряпичную куртку, а голову покрыл бейсбольной кепчонкой.
Все мы закатали брюки, и скользя по каёмке кювета, приблизились
к машине. Она целиком стояла в грязи. Наклонившись можно
было опереться о кузов, но чтобы толкать – следовало становиться
в жижжу. Первым вступил в грязь десантник. Я всё ещё сохранял
надежду на сухость ног, но безостановочный ливень вымочил
сперва бёдра, чем распустил закатанные брюки, потом вода
стала пробираться за шею, а потому на первый толчок исполнив
нечто наподобие тягла, я ощутил, что машину так не сдвинешь,
хотя ещё некоторое время кричал в такт милиционеру: “Надо
– раз! – дать – два! – качку – три!” То, что я делал и
впрямь раскачивало кузов из стороны в сторону, но эта
качка лишь вкапывала визжащую машину глубже и глубже в
грязь.
“Вон там есть каменная крошка”, – указал милиционер на
россыпь геологической породы, и сам пошёл искать в ней
камни. Я охотно потянулся следом – всё лучше, чем лезть
по колено в грязь. Если бы не бездорожье, то можно было
бы подумать, что строители оставили кучку раскрошенного
бетона на краю дороги, точно такая же кучка вздымалась
и впереди. Мёрзлыми, негнущимися пальцами мы стали выковыривать
нечто среднее между галькой и булыжником – смотря как
раскрошится порода, и носить смешными порциями под колёса
машины. Воды под машиной прибывало по кузов, и когда водитель,
сидя в воде, заложил нашу крошку под колёса, а десантник
по засученные колени в воде стал напирать на взревевшую
машину, не оставалось ничего, как вступить и нам в грязь
в полные ноги и вложить всю ненависть к этой слякоти в
силу толчка: “Раздва – взяли! Ещё взяли!” Машина покачнулась
и въехала на камень: “Давайдавай…” – брызгая грязью задних
колёс нам в лицо, машина тронулась, вырываясь из наших
рук и вода стала замыкаться перед нами. “Давайдавай!”
– кричал милиционер, дипломат лил слёзы от дождя, и я
шлёпал по скользкой луже, и только машина, проюзовав по
этой запасной колее ещё пять метров, стала намертво.
8.
Chapter 8. Every chapter contains some
creature, which plays its own role in the narration, but
at the same time supports the main theme as an overtone.
Here Platonov describes a dog without teeth, which is
followed by a man speaking nonsense – nonsense, however,
that is meaningful in the context of the work as a whole:
"Ascend to Ustyrt, raise something and bring it to
me, I'll put it into my chest". Ust-Yurt, by the
way, means Highland and the phrase returns us to the diptych
in Vera’s room at the beginning of the story. Later, in
a scene that parallels Nazar's search for the source of
life, two poor people in a hut whisper about conceiving
a baby; this would represent a poor kind of happiness,
but would nevertheless be their own happiness.
Правда, поначалу мы решили, что она дожидается
нас, но с нашим приближением включённый мотор раздулся в
вой, колёса завертелись понапрасну перемалывая воду, мы
по инерции налегли сзади, смывая грязь курток и пиджаков
этой жидкой водой, но машина не двигалась. Она сидела на
подвеске. “Попробуем назад!” – распорядился милиционер и
мы зашли спереди. Я почемуто вцепился в зеркало, которое
свернул, как ненужный артикул, потом взялся за раму передней
дверцы – но сил на второе не было.
“Давайте согреемся и потом станем толкать…” – предложил
мирно дипломат, пресекая мат милиционера, поливавшего беспутного
шофёра и мы – стекая с себя воду и грязь – полезли снова
в кабину… Масляной марли хватило лишь на ноги – стереть
грязь с еле вылезших из разбухших туфлей неживых ступней,
шофёр пустил в расход полотенце, в которое укутывал свой
литровый термос. Я выжал штанища, ощутил боль посёка в голени,
и накрутил на ступни носки. Пятно на заднем сидении оставалось
сухим и я согнулся вчетверо, чтобы ступни пришлись на это
пятно. Дипломата трясло, его волосы ёжиком разбрасывали
капли с кончиков, непокрытые же волосы милиционера растеклись
чёрными струйками по всем сторонам от макушки, сверкавшей
передо мной. Милиционер принялся вновь материть подчинённого
шофёра сперва за то, что тот остановился посреди хода, а
потом ещё изначальней, за то что свернул на боковую колею,
а не пошёл по утрамбованной. Тот чтото отвечал замёрзшими
и невнятными губами.
Выпили остывающего чаю, запахшего марлевым маслом, съели
по куску лепёшки. Тикающее изредка время близилось к десяти.
“Бензина на обратную дорогуто хватит?” – спросил дипломат.
Шофёр кивнул в ответ и я уже не возражал. “Надо вот что:
подложить камни под домкрат и поднять сначала переднее колесо,
заложить под него другую порцию камней, а потом проделать
то же самое с задними колёсами”, – стал излагать свою физическую
рассудительность я, тем самым сознательно или бессознательно
от вины за происшедшее и за то, что час назад ещё надеялся
продолжать дорогу вперёд, и за то, что привёл этих городских
функционеров сюда на БарсаКельмес своим полудосужим любопытством…
Шофёр включил мотор и печку. “Здесь в степи люди выживают
один день летом и полтора зимой…” – сказал зловеще он. “Летом
они скидывают с себя всё: сначала рубашку, потом брюки,
потом майку, потом трусы, и уже голых их находят трупами
под какимнибудь саксаулом, рывшими яму для своей головы…”
– “Сегодня двадцатое апреля”, – вспомнил к чемуто дипломат.
“Надо понанести камней в сумке… – сказал милиционер, – там
за спиной есть пакет…” Я освободил пакет от хлебных крошек
и трёх оставшихся яиц и протянул его вперёд. “А я надену
этот пакет на голову!” – воскликнул дипломат и стал обвязываться
целлофаном, из которого вытащил свои запасные носки. Все
с дрожью готовились к следующему выходу. Мотор соревновался
с секущим ливнем в шуме и милиционер с досадой сказал: “И
ведь не разойдётся… Арал бы можно заполнить этой водой…”
Небо держало всё ту же суровую гримасу нерассветающего утра.
“Может быть попытаться поехать пока мы внутри – прижмёт
ко дну, к камням…” – малодушно предложил дипломат, на что
водитель непонятно пожал плечами и поставил машину на скорость.
“Включи передний мост!” – проинструктировал командир. –
“Дай задний ход!” – скомандовал он через мгновение, но команды
его, исполняемые шофёром, не достигали машины. Эта зверь
прочно сидела на пузе. Надо было выходить ещё раз.
9.
I'll stop the overview of the chapters
here, firstly because Platonov refers later in the story
to “people carrying on their old discourse, an eternal
conversation, as if they lacked the wit to come to a definite
conclusion and shut up for good” and secondly because
in any chapter one can find countless allusions, near-quotations
and parallels to Sufi texts: Gulchatay, whose strength
is too weak even to support her greed; Nazar, listening
in the desert to the sound of the last regret of the sense
and repeating the ritual of Sama' , that is of listening
to the internal, eternal Music of God; the sheep, going
round in circles, like Sufis performing their Zikr in
Halqas or Circles; Sufian, saving his eyesight from damage,
as Sufis do (they save their eyes, ears and tongue) to
protect their soul, when they; Nazar, understanding and
acceptance of life, his thoughts about the unity of a
living world in which a wise-looking tortoise and a dignified
bush are the equals of human beings, thoughts that are
a perfect illustration of the Sufi concept Vahdati Vujud
in Sufism, and so on and so forth.
На этот раз мы решили таскать камни в пакете,
правда пакет тут же разошёлся по швам, и всё же его можно
было держать снизу. Странно, но стоять в воде было теплее,
нежели ходить по воющей степи за камнями, и после двухтрёх
ходок все столпились в воде у машины. Водитель стал прикладывать
к кузову домкрат, грязь не давала вставить его в паз. Он
разгрёб жижжицу и заложил дно камнями, потом установив на
них домкрат, стал крутить его ручку. Машина пошла вверх,
но по мере того как она поднималась, всё более и более заметным
становилось то, что поднимался сам кузов на рессорах, тогда
как колёса стояли мёртво вцепившись в клейкий суглинок.
Так черепаха поднимает поверх своего тела свой панцирь,
высовывая изпод низу уязвимые мясистые клешни… Здесь же
рессоры стали скрипеть и тогда водитель остановил накрутку,
полез под переднее колесо, чтобы воодушевлённо закладывать
камни якобы под него.
Мы стояли и мокли в наблюдении, изредка подкидывая водителю
камней. Он проделал то же самое с задним колесом, и опять
кузов вздулся, обнажив верх колеса, но отметка воды на диске
немного опустилась, оставив пенистый след ватерлинии поверх.
“Теперь ты рули сразу налево – на основную колею!” – наказал
начальник и шофёр полез в кабину.
Мы толкали машину без прежних сил, в уверенности, что если
ей суждено поехать по каменному настилу, она должна поехать
сама, но странное, необъяснимое физикой трения дело – она
завертела впустую колёсами, выбрасывая очередную порцию
грязи на вымокшие до последней нитки брюки и заглохла.
“Давайте греться!” – предложил милиционер и мы поплелись
в мокрое брюхо этого мерзкого чудовища.
10.
I am not arguing that Andrey Platonov
was closely familiar with the theory and practice of Sufism.
Sufism is a living concept which tries to understand and
underline the human intention to be better, to be perfect;
so are the works of Platonov. One can argue that Tao is
the same Way; Buddha talks about the eight-fold paths
to Nirvana; the road to Golgotha also of Christ had its
stations. This is indeed a universal concept. And we could
also compare Dzhan with the path of Faust, the journey
of Dante or the search for the Holy Grail. But Dzhan of
Platonov is about Khorezm, not about Beijing, Calcutta
or Jerusalem and he explores the local characters with
such profoundness, that this story is considered by many
local researchers to outweigh the whole Uzbek Soviet or
Turkmen Soviet literatures.
Теперь никто ничего не говорил. Я
опять натянул уже мокрые носки, но в них было уютней,
чем в раздувшихся туфлях, в которые не помещались порезанные
ноги. Чаю уже оставалось на пару глотков, однако уже ни
пить, ни есть не хотелось. Шмыгая и обтираясь, каждый
сидел сам по себе. Дипломат снял с головы целлофановый
пакет и слил воду под ноги. “Когда они поймут, что мы
застряли?” – спросил я подполковника. – “Может быть сейчас…”
– неопределённо ответил он и наши взгляды упали на тикнувшие
в очередном броске часы. Время показывало свои 11.04.
“Они поймут куда надо ехать?” – продолжил мой вопрос
дипломат, правда, не было понятно, спрашивает ли он водителя
об этой дороге или милиционера о предварительном уговоре…
“Степь большая…” – сказал в тон водитель и все опять замолкли
каждый по себе…
Дипломат был молод – недавний выпускник местной Академии
Дипломатии – бывшей Высшей Партийной Школы, но не по годам
кругл. Спирально кругл: сейчас на сопровождении и бдении,
завтра на протоколе, послезавтра – дальше по спирали –
глядуном в зарубежной поездке, потом секретаришкой, атташе,
а там, глядишь пообтерев сингапурские брючки в ташкентском
кабинете начальничком отдельчичка, можно рассчитывать
и на посольство в какомнибудь восьмистепенном Йемене.
Так вчера, после своих кувалдоголовых тюремщиков, подполковник
внутренних дел расписывал по пьянке и в шутку лестницу
успехов дипломата. Тот даже тогда промолчал.
Ведь наверняка знал, что и вправду досидит до роли посла,
когда по молодой ретивости подготовит восемь страниц плана
развитий дружеских отношений с Йеменом или Бременом и
лишь только шеф из Министерства позвонит по засекреченному
с двух концов телефону, станет докладывать, что первым
пунктом… Шеф остановит его и скажет: “Отличный план, направька
его мне дипломатической почтой. А вот что я тебя попрошу…
Ты ведь знаешь моего племяшку ТашматИшмата, ну тот, который
после тебя учился в Академии, так вот он женится. Там
у тебя на территории, говорят, есть бирюзовые ожерелья
и рубиновые кольца… Мода тут такая пошла, видишь ли… Организуй
парочку… Да, да, дипломатической почтой…”
И даже на этой шутке опьяневшего вконец тюремщика дипломат
лишь переплёл свои хрустнувшие пальцы. Вот это воля, –
подумал я тогда…
А теперь он сидел, раскиснув своим шмыгающим носом,
этот доморощенный сын профессораарабиста и капли неподсыхающего
дождя спиралями мешались с его бессильными слезами на
круглом и рыхлом лице… Видя мельком его, не помню, когда
я стал расчислять ход назад – те самые сорок километров
до вагончика со шлагбаумом, но по такой погоде даже если
бежать – никак не меньше 810 часов, и всё же спросил
водителя я именно об этом: “Неужели здесь поблизости нет
ничего жилого?!” – “160 километров”, – ответил он, но
тут же наклонился к противоположному окну и сказал: “Воон
там есть вышка… может быть там есть чтото…”
Мы все втроём выглянули из дверцы: на горизонте и впрямь
чернела малюсенькой галочкой вышка. “Чего же, дружок,
ты не сказал раньше?!” – заверещали мы. “Были заняты”,
– объяснил шофёр. Но следом добавил: “Я сам только что
её увидел…”
“Я сбегаю”, – вызвался в нетерпении я. “Мы пойдём вместе”,
– недоверчиво добавил подполковник. “Может быть вам лучше
проделать с домкратом то же самое с другой стороны и заложить
камни и под эту пару колёс?” – обратил я их внимание на
свою сторону. “Если нет никого, то хоть лопатку или какое
железо принесёте”, – высказался водитель и милиционер
поддержал: “Поэтому надо идти вдвоём…”
Ходу до вышки казалось километров от силы восемьдевять,
но я уже дрожал от нетерпения…
11.
Although it is easy to find correspondences
between Dzhan and the stations and states of the Sufi
way, there is, however, one major difference: the fact
that the world of Dzhan is an atheistic world, whereas
Sufism is about the unity of man with God. This leads
us to the biggest controversy of Dzhan, because the word
Dzhan, which is the key to the story and means not just
an abstract soul, a pure spirit, but rather a fleshy vital
force, has to do with the idea of transcending human existence.
The whole story is the purest possible experiment, one
that corresponds to the Soviet experiment. The question
being asked is whether feeding people physically is enough
to make them happy spiritually, or whether there is something
more important in this world, which keeps people living
in spite of the poorest living conditions. Sufism would
say that this something is God, our belief in God, that
He is within us and we are within Him. Just say any three
words to someone and that someone will try to make sense
out of their wholeness; just as the requirement of sense
precedes the real end of the sentence, so our belief precedes
our existence.
Когда мы с милиционером вышли из машины,
наказав дипломату и водителю заниматься домкратом, дипломат
вынул из сумки припрятанный изначально для себя зонт и протянул
его мне, а шофёр напутственно бросил нам обоим вдогонку:
“Идите по насыпной стороне!” Мы двинулись в ту сторону,
но степь была одинаково расхлябана. Ветер поливал мерзким
ливнем в лицо, и тогда я, пытавшийся держать вывернувшийся
наизнанку зонт перед нашей спаркой, отдал его милиционеру,
а сам, закинув свою тряпичную куртку поверх кепчонки, задёрнул
снизу молнию до подбородка, так что лишь глаза мои смотрели
в ветровую щёлочку. И хоть живот мгновенно намок, но лицу
стало уютно. Я прибавил шагу. Эксдесантник в своём парадном
пиджаке и в кедах шёл с непокрытой головой, пристраивая
к ней мятущийся зонт дипломата. Я побежал трусцой, но через
десяток шагов задохнулся от встречного ветра, переполнившего
лёгкие, которые уже стучали в горле. Земля расступалась
и растекалась изпод редких растений, которые секли ноги
своими степными, колючими ветками, цепляясь за тёплую прохожую
жизнь.
Хотелось упасть и плакать. Ато просто улечься под первый
саксаул или тамариск, противостоящий этому тропическому
дождю, штормовому ветру, селевой грязи. Я вспомнил зачемто
по ходу как на асфальте часом ранее сверкали молнии и я
думал тогда: оборудован ли автомобиль громоотводом.
За этими мыслями или скорее их обрывками я выглянул в щёлку
куртки и не увидел вышки – она ушла влево – я обернулся
– напарник шагал тоже вслепую. Лицо его раскраснелось от
мокрого ветра, волосы лились уже назад, и зонтик висел обузой
под мышкой. Мы шли то по травам, то по камням, но больше
всего по известковой грязи, с любопытством и досадой изредка
пересекая утрамбованные степные дороги, расходящиеся по
законам, известным лишь им да безвестным водителям прошлого,
потом опять ступали по глине, имевшей единственное приличное
свойство – не налипать к туфлям, поскольку она была слишком
жидка от потоков.
Ветер с дождём шёл сквозь нас, как и мы шли сквозь него,
но нам оставалась непрекращающаяся дрожь. Машина давно пропала
из виду за бугром, а вышка всё ещё оставалась основанием
за горизонтом. Опять наш путь пересекла дорога – ровная
и укатанная наподобие галлюцинации, потом пошли нескончаемые
лужи, которые перешли в болото с топорщащейся растительностью,
выкачивавшей нам под ноги поверхностную воду. Да, для полноты
картины не хватало лишь землетрясения…
Я шёл и думал о том, что иду, или же это мысль о том, что
я иду – вела меня дальше и дальше помимо моих сил, моей
воли. Ещё один вязкий косогор и вдруг показался не ожидаемый
противопожарный щит, но крыша целого строения у подножия
вышки. То, что дипломату казалось давеча человеком на вышке,
уже различалось гигантской тарелкой антенны, и мы, не сговариваясь,
прибавили шагу. Я шёл быстрее, как будто бы моё нетерпение
облегчало мой путь и должно было подтягивать подполковника,
но он шёл скучно и неодолимо, не подымая глаз вперёд.
Я шёл быстрее, а потому, когда час или другой спустя вышка
стала приближаться в росте, я вдруг заметил, что нечто под
ней уходит вниз, и это был не дом, стоящий уже в полный
рост, и даже не двор, оцепленный столбами и невидимым отсюда
забором, а ещё ближе – и вдруг эта линия обнажилась, земля
внезапно сменила цвет, и я увидел стену, уходящую вниз,
и ещё сотня шагов, и я ошарашенно понял, что вышка на другом
плато, а между нами – отвесная пропасть…
12.
But Platonov's world is different. Though
he constantly provokes and teases this same pre-requirement
of sense, putting together almost incompatible words and
contents, in fact he just extends the field of sense –
in the same way as the writers of the Old Testament or
Gospels. He re-writes, re-arranges these works in Russian.
He is the fisherman of human souls, but the souls in his
stories are writhing with suffering and pain like fishes
out of water. We could say that Platonov creates in Dzhan
a virtual God, a minus-God, such as might exist in a Sufi
treatise, but in Dzhan the place of this God is empty.
This is why emptiness plays such an important role in
the story. Platonov can say: The wind is the universal
leading force or engine of life, moving everything from
grass to human beings -- and we realise that this wind
is the same Holy Spirit, but an empty Spirit, that is
blowing over the land.
Я дошёл, а вернее добежал до её края:
Устюрт обрывался вертикально под ногами и только сила
ветра удерживала моё головокружение – обрывался, чтобы
через двестидвести пятьдесят метров подняться новым Устюртом,
на котором стояла вышка. В прагеологическую древность
здесь наверняка была бухта – подумалось напрасно мне,
и я стал выкрикивать своё отчаяние ничего не подозревающему
подполковнику. Пока и он подошёл к краю обрыва, с которого
ветер выбрасывал водопады наизнанку пятиметровыми гейзерами
обратно в степь, я уже подумал, что придётся идти в обход,
где эти два Устюрта смыкаются, ведь горизонт вглубь не
прерывался в единой нити, но идти этим кругом надо было
по меньшей мере ещё полдня…
Милиционер подошёл к краю обрыва и молча ступил на
отвес, по которому вниз сыпалась каменная дорожка, пробитая
весенними ручьями. Я стоял балансируя между ветром и головокружением,
но страх мой оказался сильнее и я стал кричать ему сквозь
ветер и вслед чтото несусветное – то ли: Остановись!
Убьёшься! – то ли: Я не пойду ни за что! – или: Я за тебя
не собираюсь отвечать! Я кричал, а он спускался камень
за камнем, и то, что должно было по моему разумению посыпаться
камнепадом, держалось под его кедами, а ветер, этот вездесущий
ветер прибивал его к стенке в особо отвесных пролётах.
Вскоре его голова и его тело скрылись внизу, и тогда я
пошёл следом.
Камень за камнем я опускался скорее пятясь, нежели ступая
вперёд, и не столько ноги, сколько руки цеплялись что
было сил за остроконечные выступы камней. Вода укрепила
эти камни, снеся видимо всё сносное за собой, и всё же
когда изпод моей неверной ноги сбился один из камней,
он покатился вниз одиноко, не захватывая с собой лавины,
аккуратно минул голову десантника и загрохотал гдето
внизу, чтобы там глухо заглохнуть.
Я не помню как мы прошли эти двести или триста метров
отвесной стены, разбитой на ступенчатые камни потоком
– мозги отключают память, оставляя лишь звериные инстинкты
выживания, двигающие коченелыми пальцами и вздутыми ногами,
но я опомнился внизу – на первом же шаге, а вернее ещё
до него, когда мы вдвоём взглянули не назад – на пройденный
путь, а через пропасть – на другую стену по которой лезть…
Я увидел ряд столбов, перехваченных проводами, поднимавшимися
наверх, в сторону вышки и заключил, что там наверняка
есть дорога, хотя подполковник, как и прежде, молча посмотрел
на белеющую россыпь потока прямо напротив нас. Этот поток
камней вихлял из стороны в сторону, оставляя шанс на подъём,
однако с самого верху виднелся острый выступ козырька.
Вода вздетала над козырьком. Мы пошли наперерез и через
два шага в этом желанном безветрии вдруг почувствовали
разом как нас засасывает грязь, стёкшая сюда на дно с
обоих стен Устюрта. Эта клейкая известковая грязь булькала
под ногами – мы замесили её из отчаянных сил, восставших
против тихой смерти здесь в промежутке, куда никто не
доберётся, пока на последнем дыхании не выбрались к потоку,
в котором воды было больше чем грязи. И мы вошли в этот
поток, как в спасение, и смывая эту грязь по бёдра, этот
поток пошёл наискосок нашей дороге, потом шли травы и
камни древнего русла, и опять поток, и опять грязь, и
опять поток, но это уже было знакомым и не страшным, как
будто ктото дал нам обязательство обернуть всё это в
память и буквы…
Четыре потока шло по этому ущелью и два человека наперерез.
13.
Or Nazar looks in the middle of the desert
for “a human being in that unknown place, someone to hear
him and be with him -- as if everyone has a tireless helper
who follows behind, waiting until the moment of final
despair before letting himself be seen”. So God is not
there, but He is there, just as in the main Islamic negative-positive
formula: There is no God, but God. Either because of the
restrictions of the Soviet epoch, forcing Platonov to
use the artefact of Stalin instead of God or because of
the deliberate Nietzschean approach of Platonov himself,
the main question for Nazar is whether at least a small
portion of soul still remains in his people for finding
common happiness.
Не стану рассказывать как мы поднимались
по противоположной стене Устюрта, скажу лишь то, что я
шёл первым, а посреди этого каменного потока, под которым
шуршала дождевая вода, увидел конский навоз и страшно
этому обрадовался, а ещё скажу, что у самого конца стены,
на самой вершине, она уже шла не отвесно – нависала козырьком,
и оттого надо было цепляться за бока этого козырька, и
камень за камнем, боясь сорваться на последнем повороте,
карабкаться вверх, где с последним шагом, когда ты уже
наверху во весь рост – в тебя опять врежется тот самый
свирепый ветер и почти сбросит назад, но растренированные
инстинкты бросят тебя на землю и ты поспешишь предупредить
своего напарника, попытавшись бросить ему трос, валявшийся
поблизости и оказавшийся прогнившим и рассыпающемся надвое
на весу. И всё же он вылезет наверх, десантник, презревший
свой нажитый сытыми годами живот. И вот уже мы бежим через
жижжицу строительной, рукодельной грязи к строению, и
уже служитель вышки видит нас и указывает на дверь в проволочном
заграждении, и уже мы приближаемся к нему, а он вместо
приветствия говорит: “Сбрасывайте всё с себя на веранде
и идите вовнутрь…” Потом добавляет в наше недоумение:
“Там таких шестеро…”
14.
In those years in these lands people used
to say: You communists and we Muslims have much in common
and we can create a union of KM. You are based on Kapital
of Marx, we are based on Koran of Muhammad. But Platonov
finds deeper levels and layers of similarity than that
curious one; in particular he underlines the wordy, or
ideological, nature of these two concepts, in each of
which a word can prevail over a thing. Platonov says:
“Food at this moment would serve both
to nourish the soul, and to make empty, impassive eyes
begin to shine again and take in the sunlight scattered
over the earth. It seemed to Chagataev that the whole
of humanity, if it were there before him, would be looking
at him with the same expectancy, ready to delude itself
with hopes, to endure disappointment, and to busy itself
once again with diverse, inevitable life”. "They
don’twant communism, – Nazar understands – and the story
tells how the Dzhan search instead for their identity. Platonov
uses the phrase "people of great will" – a strikingly
similar expression to that used by Chenghiz-khan's people,
who used to call themselves "the people of long will".
Sufian says about them: "They will figure out themselves
the life which they need".
Сбросив всю мокрую и грязную одежду
на веранде, а стало быть оставшись: подполковник – в трусах,
а я – в подштанниках, мы вошли не то чтобы дрожа, а околев
до бесчувствия в дом, который был натоплен, но мы ещё
не чуяли тепла. Прихожая вела направо в котельню или кухню
дома, однако мы пошли прямо – в жилую комнату, где сидело
четверо полуобнажённых людей. Не помню деталей – здоровались
ли мы с ними, отвечали ли на их вопросы – память с первыми
чувствами холода в теле стала возвращаться позже, наверное
в первые полчаса. Но тем не менее мы просили хозяина связать
нас с Большой Землёй, с Нукусом – с тюремными властями,
чтобы те послали за нами спасательную машину ли, вездеход
ли, танк – это я помнил даже в беспамятстве тела. Хозяин,
который долго не заходил в комнату, а потом, появившись,
отказывался звонить немедленно, прося нас немного отогреться,
был прав: ощущение времени стало возвращаться вместе с
остальными чувствами – и прежде всего с чувством холода.
Надевать было нечего, но это чувство охлаждения зашевелилось
изнутри и тронулось в отличие от застрявшей в грязи памяти
машины от первых же пиалок безвкусного, но горячего чая,
заваренного в литровый металлический чайник.
Тихопотиху я познакомился с обитателями этого “дома
лесника” в степи – двумя мотоциклистами, погрязшими в
топь ущелья немногим ранее нас и оставившими своего “железного
коня” до лучших времён, чтобы самим прибрести сюда по
этой самой “столбовой” тропе линии электропередач, которую
я заметил ещё в ущелье. Они ехали в посёлок Равшан, в
восьмидесяти километрах отсюда, за вязанкой дров для дома,
но дождь заглушил их мотор. Были ещё двое, кроме двух
хозяев станции. А станция, как объяснил один из хозяев,
была объектом особой важности, подведомственнымм КГБ –
радиорелейной вышкой номер 16, ретранслирующей телевизионные,
радио- и прочие сигналы, хотя именно прочих, как сказал
он, почитай и не осталось, да и радио с телевидением на
последнем издыхании. Дескать, раньше было 5 станций в
степи, а теперь осталась одна – остальные снесли или демонтировали…
Он жаловался на одно, а я, или наверняка мы, воспринимали
совсем иное: представить, что после нашего перехода мы
бы наткнулись на одну из этих четырёх захороненных вышек…
Я огляделся по сторонам. На протвоположной
стене висела карта электрификации СССР с известным уравнением:
“Коммунизм есть Советская власть плюс электрификация всей
страны”, которую в студенческие годы мы испытывали на
всякую обратимость: “Советская власть есть коммунизм минус
электрификация всей страны” или “Электрификация всей страны
есть коммунизм минус Советская власть”. По советским меркам
это была достаточно свежая карта, если на ней значились
и СаяноШушенская ГЭС, и Чернобыльская АЭС.Далее висела
то ли аэронавигационная, то ли геодезическая, как быто
ни было – больно специфическая карта Карракалпакии, на
которой поверх Устюрта был показан солончаками да топью
наш заоконный БарсаКельмес. Ещё дальше висел рубильник,
с отметками на четыре программы: две под словом “Москва”
и по одной у слов “Ташкент” и “Нукус”. Огромный старинный
телевизор, стоявший на тумбочке неподалёку, переключался
этим рубильником, свисавшим из угла. Оттуда же велись
и радиопереговоры с Нукусом.
“База, база, я – шестнадцатый, база, база, я – шестнадцатый.
Ответьте, приём, приём…” – застучал по микрофону хозяин
станции – желтобровый и коренастый каракалпак… Там, на
том конце чтото зашуршало, запершило и раскрошившийся
голос донёс: “Шестнадцатый, я база… чего хотел?!..” Наш
без обиняков попросил Нукус связаться с тюрьмой… Нукус
поначалу растерялся, потом узнав о пришельцах, взбунтовался:
“Ты чего их пустил, ёб твою мать, на совершенно секретный
объект?!” – “Один из них из МВД!” – оправдался смотритель
вышки. “Тем более… Ты проверил хоть, блядь, его удостоверение?”
– не унимался Нукус. – “Он в форме!” – солгал и подмигнул
нам русоволосый каракалпак. Подполковник потряс при этом
своим членом изпод оживших трусов. “Какая тюрьма? – пошёл
со скрежетом на попятный центровой. – Я вам, сука, не
коммутатор ёбаный!…” – “Ноль два! Ноль два!” – зашептал
подполковник смотрителю. “Они просят соединить с 02”,
– ретранслировал наш. Тот опять зашуршал, как черепаха,
теперь упрятывающая чресла и через долгие дветри минуты
ответила Нукусская милиция, а потом и начальник Нукусской
тюрьмы, с которым подполковник пил прошлой ночью после
общего ресторана.
Несмотря на субботу и обеденный час, тот был на работе
из непонятного коварства, и узнав, что мы застряли, стал
выяснять наш адрес… Но разве в степи бывают адреса кроме
вышки да случайного столба, и мы оставили смотрителя объясняться
с тюрьмой на предмет общего спасения и нашего ориентира,
и напоследок подполковник бросил: “Привези три бутылки
водки! Слышишь! Три!” Жизнь возвращалась их хроники к
литературе.
15.
There is the last but not least aspect
of Dzhan, which I would like to mention. Though Dzhan
is an oriental parable, the fact that Nazar Chagatayev
is half-Russian and his name as I said before is the same
as the name of the founder of Russian Idea Pyotr Chaadayev
(in Tatar they often interchange the arabic letters Ghayn and 'ayn, so Chaghatayev
could be spelt both as Chagatayev and Chaadayev) draws
our attention to the Russian aspect of the story. Not
just the fact that the Turko-Mongols of the Golden Horde,
who played so important a role in the ethno-genesis of
the Russian nation, then moved to the Central Asia, leading
Lev Gumilyov to refer to the peoples of Russia and Central
Asia as "historical cousins", but even passages
from Platonov№s own notebooks about returning to his pre-historic
fatherland, where he refers the common Arian history,
which started in Central Asia (by the way there are theories
that Zaratushtra lived in Khorezm), make the content of
Dzhan relevant to the Russian idea itself. The theory
of Euro-asiatism was quite popular at the time when Platonov
was writing Dzhan; and Fyodorov, whose philosophy was
so important to Platonov's vision of the world, thought
extensively about Russian-Asian, or as he put Iran-Turan
relations.
Мы
наперебой рассказывали то, что произошло с нами, остальные
перемежали наш рассказ своими злоключениями, и то, что
казалось нам тонкой полоской между жизнью и смертью, здесь
звалось обыденной повседневностью. Прерывая охотничьи
рассказы в дверь постучался ктото с дождя. Хозяин крикнул:
“Входи!” и вошёл, поливая полы внесённым ливнем некто
в брезентовом солдатском плаще с капюшоном. Лицо его было
чёрным, а глаза – красными. Изпод расстёгнутого ворота
выбивалась нагрудная наколка непонятного, но зловещего
значения. Милиционер напрягся, сквозь майку его проступили
краснеющие погоны, и пришелец двинулся по нюху прямо на
него. Он шёл к нему с протянутой рукой, как будто в пустой
руке был неподвижный пистолет, но в самый последний момент
подполковник сообразил, что это приветствие и протянул
навстречу свою ладонь, которой едва коснулся незнакомец.
Не меняя положения руки, а вернее, “угла атаки”, он “обмазал”
её о мою ладонь и я подумал было, что это – местный обычай
приветствия, однако когда местные же хозяева изо всех
сил жали ему руку, но его ладонь – “пистолетом от живота”
не отвечала, я смекнул, что рука попросту заморожена,
и мужику стоило неимоверных усилий да чувствительности,
чтобы поднять её до этого уровня.
Мужик, как завсегдатай, вышел в прихожую с хозяином
и скинул там свою брезентовую накидку. Минутой позже вернулся
русоволосый хозяин и объяснил, что мужик завалился спать.
Минуты хватило ему, чтобы выяснить всё о прихожем: застрял
на мотоцикле с люлькой в 2025 километрах отсюда, когда
поехал привезти доктора для свое жены из Равшана за 150
километров, шёл со вчерашнего вечера, ночь провёл в ржавой
кабине оставленной машины, разжигая тряпку, обмоченную
в бензине, и вот пришёл сюда в первом часу полудня. Немного
обсохнув, собирался идти дальше, спасать свою слёгшую
жену. Вот и вся жизнь…
Впрочем, посидев немного среди этого народа, начинаешь
соображать, что жизнь каждого здесь умещается в дватри
предложения, что и говорить. Двое хозяев вышки – русоволосый
и лопатолицый – сидели здесь на вахте по два месяца –
сторожа вышку, потом два месяца отгула – то, сё по дому,
отвёл на базар бычка, купил трёхчетырёх ягнят, и опять
откармливай до следующего отгула…
Платят на вышке по здешним меркам неимоверные деньги – 140 тысяч сумов за
два плюс два месяца (милиционер быстро сосчитал: двадцать
пять долларов в месяц!) – как не сидеть здесь, даже сходя
с ума. “Другие вон сходят с ума, работая и не зарабатывая
и десятой доли того… Вот, этот козёл, например!” – русоволосый
начинает бороться с одним из мотоциклистов. Потом валит
его на грязную кровать и сверху заключает: “Приду к тебе
– дашь теперь жену на ночь!” Тот отряхается как помятая
квочка и огрызается: “Я скорее сам доберусь до твоей жены,
пока ты кукуешь здесь…” – “Доберёшьсято доберёшься, да
вот собака у меня злая, голодная, разом откусит всё лишнее!..”
Оба голозубо хохочут…
16.
To go further, here I should refer to
the philosopher Sokrat Sharkiev, who says in his article
"A scandal and Russian literature" that there
is a fundamental gap between the native language of a
nation and an imposed religion. He continues that for
instance all Christian nations of Europe have adopted
Christianity, which is of Semitic origin, to their mentality
in different forms like Catholicism or Protestantism etc.,
but that Russians and Greeks took in the very core of
it in the form of Orthodoxy. This, in his view, is a central
cause of the vanishing of the greatest Greek civilisation
and of the constantly scandalous situation in Russian
mentality. The philosopher calls Khlebnikov in Russian
poetry and Platonov in prose "new yazychniki",
who have tried to return through language to the original
sources of Russian mentality.
Если час за часом не глядеть на настенные
часы, оставшиеся от Советской эпохи, время тут не движется
вовсе: всё то же свинцовое небо в окне, всё тот же дождь,
несущий ветер, или наоборот – ветер, несущий дождь. Ато
и они переплетаются как эти в какойто игривой ли, дикой
борьбе. Потом они садятся за шашки на доске, едва различающей
свои клетки. Хозяин, как водится, разбивает гостя в пух
и прах, тут нравы степные, прямые. От делать нечего и
я сажусь за доску и проигрываю хозяину три игры кряду:
не то, чтобы скрасить его скудное существование, а от
неумения, замешанного на скуке. Милиционер наблюдает одним
глазом за нами, другой его глаз всё ещё ждёт спасителей,
хотя он лежит всем телом на топчане и притворяется, что
спит. Я обращаюсь к нему, когда его нетерпение открывает
оба глаза разом: “Давайте, на помощь!” Милиционер как
бы сросонья садится на моё место.
Первое поражение хозяин попросту игнорирует как зевок.
Второе – раззадоривает его. Третье – заставляет прервать
сеанс. Он встаёт и выходит в прихожую. Внезапно будит
чёрного пришельца и велит тому идти дальше. Затем возвращается
в комнату, открывает скрипящее окно и вопреки мокрому
ветру, врывающемуся в дом, говорит двоим мотоциклистам:
“Дождь пошёл на убыль. Давайте, гоните за мотоциклом!
Если что – оставите здесь…”
Я напрягаюсь – что же теперь ждёт нас? Но здесь он выходит
на кухнюкотельню, куда мы ранее перенесли свою мокрую
одежду с веранды, и расшвыривая её, достаёт изпод тряпья
венки с тазиком, и вернувшись в комнату, начинает свирепо
мести, приговаривая при этом безобидные и безадресные
слова: “Бардак! Всё обосрано! Столько грязи понанесено!”
Милиционер уходит строго на кухню, сушить свои брюки.
Я жмусь на кушетке и слабосильно вопрошаю: “Может чем
помочь?” В ответ хозяин выдёргивает половичок изпод моих
ног и уносит трясти его в прихожей, так что вся высохшая
грязь идёт пылью в котельню к милиционеру. Неукротимый
порыв к чистоте продолжается может быть с час…
* * *
Я засыпаю на мгновенье на лежанке, боясь положить
голову на чёрную от замусоленности подушку безо всякой
наволочки. Непонятно, чего я боюсь, вшей или плеши, но
подкладываю на всякий случай голую руку под голову и снится
мне, что страшно хочется помыть руки как после лепрозория
или туберкулёзной клиники, и я иду и не вижу ни воды,
ни крана. А вымыть руки хочется так сильно, что руки запотевают
– и до такой степени, что в ладонях появляется вода. Я
опрокидываю её и вытягиваю руки вперёд, и вдруг горсти
мои наполняются безвестной водой, и я начинаю их мыть.
И ещё раз протягиваю их вперёд – горстями к сухому небу,
и опять пригоршня наполняется сама по себе водой. И так
это легко, и так это светло, что Бог посылает что хочет
тому, кому хочет, что в этой воде начинают отражаться
бликами невидимые ангелы, и здесь я просыпаюсь…
Наши спасители приехали к четырём часам пополудни.
Это были те же самые гнетущие тюремщики, которых я неслышно
пугался вчера. Они приехали на бензовозе КАМАЗе во двор
радиорелейки номер 16 и вломились в дверь с полной сумкой
свинины да водки. У хозяина, чью кухню изучил пытливым
обыскным глазом подполковник и ничего там не нашёл кроме
десяти буханок чёрствого хлеба, был теперь пир. Казалось
и тюремщики мгут быть людьми… Пили за спасение, за хозяев
вышки, за Устюрт, за местного главу, который честно объявил
недавно по телевизору: делай кто что хочешь, я вам не
спаситель!.. Заедали жирной непровареной свининой, и лишь
после второй бутылки вспомнили о двоих оставшихся посреди
степи в “Ниве”. По пьяному заторопились спасать их. Тюремщикам
– самое главное, чтобы все были заперты под один замок…
И даже хозяин засуетился под тяжестью оставляемой ему
провизии, лепеча на прощание и подавая всё ещё мокрую
одежду: “Видишь, как я кстати стал убираться, к гостям
это было…” Но разве кто бы стал ставить ему в упрёк его
внезапный психоз…
* * *
На огромном КАМАЗе мы впятером с водителем, и тот
чёрный человек – на подножке, поехали кругом в степь –
спасать нашу “Ниву”. Объезд и впрямь был дальше того,
что я предполагал над обрывом – километров десять тряски
и брызг. Но и объехав ущелье, мы не знали какую из дорог
выбирать: в степи все дороги равны и ни на одну нет ориентиров.
Решили опять брать азимут вышки, мелькавшую над горизонтом,
как будто хозяин её всё ещё махал своей ручкой наподобие
метронома. Но когда ни солнца на небе, ни компаса на руках
– вышка со всех сторон стоит посреди горизонта – а “Нивы”
всё нет и нет. Мы ездили около часа, выгадывая правильный
угол между началом обрыва и вышкой, пока совершенно случайно
милиционер не вскрикнул, указывая совсем в другую сторону:
“Вон она!” Да, машина стояла по противоположную сторону
от предполагаемого, и даже казалось ехала в обратном направлении,
нежели нужно. Правда, ехала изъявительно, поскольку погрязла
уже по двери в топь. Завидев наш грохот, водитель выскочил
из “Нивы” и замахал руками, наверняка засверещал и тогда
милиционер скомандовал “КАМАЗнику”: “Езжай мимо, как будто
не заметил!…”
Водитель КАМАЗа так и сделал: он промчался по параллельной
колее, пока из машины не выскочил и дипломат, и вдвоём
с водителем они почапали по морю грязи и дождя наперерез,
и КАМАЗ, проделав дугу, в конце концов развернулся, и
стал наезжать с обратной стороны.
Счастью этих двоих, стоящих по колено в грязи и обливаемых
беспробудным дождём, не было ни края, ни предела – как
этой степи, этой грязи, этому потопу…
Через минут двадцать КАМАЗ потащил “Ниву” бульдозером на тросе – та настолько
погрязла в землю, что ещё усилие – и колёса оторвались
бы от кузова…
17.
One can argue with these views, but in
fact Platonov deliberately works in Dzhan beyond the patterns
of Christianity and if we continue the symbolism of "creature
versus human-being" relationship, which I mentioned
above (when he starts a chapter with the story of a certain
creature which is deeply connected with the consecutive
human story), he goes even further: the Trinity of Celestial
Creatures almost kill Nazar Chagatayev at the end of his
battle against the heavens.
Мы возвращались в Нукус, а я думал
как обойтись завтра: брать поезд, который задержит нас
на этом БарсаКельмесе ещё на два дня, или снять самолёткукурузник,
чтобы слетать туда и обратно в один день за двести долларов?
Нас привезли в ту же самую гостиницу, и если бы не устрашающие
начальники тюрьмы со своими краснокожими удостоверениями,
нас бы, грязных по уши, в гостиницу попросту не пустили.
Там мы опять сбросили всю одежду в кучу, на этот раз для
стирки и утюжки, размякший дипломат дал мне лишние носки,
в остальном я укутался в банное полотенце и первым делом
стал звонить опять директрисе авангардного ДомаМузея,
объясняя ситуацию, разбившую планы…
Затем был ужин, поданный в столовую нашего люксномера,
обслуживала нас опять девушка по имени Гуля, но на этот
раз каракалпачка, и несмотря на алкоголь в крови, в этот
вечер никто почемуто ни о чём лишнем не подумал, и ничего
ей лишнего не произнёс. И даже милицейское: “Садитесь
с нами кушать!” – отдавало скорее братским милосердием,
нежели чемто зазывающим.
Правда, под самый занавес, даже дипломат проговорился:
там в степи, когда после обречённых десятка часов на горизонте
показался КАМАЗ, водитель признался дипломату, что этим
вечером у его брата свадьба, а потому ему ни с какой руки
было ехать в Джаслык… “Нашу смерть хотел променять на
свою свадьбу, курва…” – угрюмо констатировал десантник…
18.
Dzhan is in a way an Odyssey of Russian
identity. Let's now look briefly at the first chapters,
which as I said above, contain the entire the story in
short. Nazar Chagatayev gets familiar with a woman, whom
he doesn't love, but just feels pity for her. Her name
is Vera, which means as you know, Faith. Let's
be some time together, proposes Nazar.
Nothing happens between them, though they register their
marriage. She's pregnant with a baby from another person.
Then Vera introduces him her daughter Ksenya, which means
as all you know "different, strange" and Nazar
can not deny the remark of Vera, that he loves Ksenya.
While Chagatayev is in the desert, Vera dies with her
baby. It happens in the 9th chapter and there, loosing
his Vera, Chagatayev goes into the desert and sees many
unnecessary things – died grass, lost Russian lapot, traces
of strange life and activity. He buries a tortoise, whom
even the shell does not protect any more. He looses the
meaning of life, and here at the edge of his despair the
vision of tireless assistant, the sound which reminds
the sound of Sufi sama' attends him...
Ранним и ветренным утром мы повторно
сели в тюремную “Ниву”, правда с другим шофёром – теперь
уже при благонадёжных погонах, и в темноте, заштрихованной
вкосую дождём, двинулись тем же путём. Нукус в несколько
поворотов перелился в Ходжейли, а Ходжейли незаметно избылся
в степь. И всю эту дорогу люди тащили на базар худой скот.
Кто – волоком тощего бычка, кто – в кабине “Москвичка”
костлявую козу, кто – на аркане угловатых баранов. Трудно
было разобрать, где этот самый базар, поскольку предутренние
люди двигались разнообразно, лишь одномерно шлёпая по
грязи кюветов. Мы рассекали их движение и они сливались
по бокам в воду упорных “дворничков” лобового стекла.
В машине, между тем, было чисто и тепло.
Отутюженная одежда отдавала вчерашней влагой, но
ещё более мыльным старанием горничной, не спавшей над
нею всю ночь, и новый водитель то и дело шмыгал от непривычной
чистоты запаха. Неясно, где мы свернули с той одноногой
дороги, ведущей на насупленный сквозь разряжающуюся темноту
Устюрт, но через часдругой появились мимо первые дома
и водитель объявил Кунград.
И здесь тощие люди тащили свой скудный скот по воскресенью.
Но ещё более стройное движение, параллельное нашей машине,
текло сквозь Кунград через навесные мосты и круговые развязки,
кубовые кварталы и глинобитные проулки, и как вода в устье,
или бензин в воронке, выплеснулось к вокзалу. Море разливанное
или взрывоопасный бак – вокзал кишел как базар базаров,
будто бы все рассветные скотоводы и воскресные кочевники
схлынулись разом здесь и наша машина пробиралась сквозь
эту толчею как упрямая скотина, не нашедшая ни хозяина,
ни покупателя.
Она становилась там, где люди стояли стеной и даже воля
не давала им расступиться. Водитель выбрался в дверь,
мы пролезли один за другим в ту же щель, и шофёр, заключив
кабину, пошёл искать станционного милиционера по кличке
“Майк Тайсон”. Нас он оставил как на привязи у машины,
хотя толпа нахлывами относила нас всё больше и дальше
в сторону.
Вскоре мы заметили “Тайсона”, поскольку не заметить эти
пудовые кулаки, размахивающие поверх голов, командуя кому
и куда идти, было невозможно. Было невозможно не заметить
его и потому, что это галактическое столпотворение странным
образом вращалось вокруг этой чёрной фигуры, засасывающей
всех наподобие дыры. Поскольку нас изначально удостоверили
в договорённости, было несколько странно видеть сколь
ненужен и необязателен наш шофёр вокруг всесильного Тайсона,
расфасовывающего людей по полутора десяткам старосоветских
вагонов, в которых новыми были разве что фанерки в нескольких
разнобойных окнах. Люди лезли на абордаж с тюками, сумками,
баулами, кто – увешанные гроздьями детей, кто – обузой
стариков. Поезд стоял, как палка, засунутая на мгновение
в муравейник или как магнит в железных опилках.
Некоторое время спустя водитель обнадёживающе подошёл
к нам, хотя Тайсон стоял как и стоял, в упор не замечая
нашу затерянную делегацию. Приблизился к нам один из его
незаметных и вездесущих подручных, и повёл нас к началу
состава. Поезд давно был забит до отказа по самую крышу.
Какие только лица не смотрели из окон и дверных проёмов,
тамбуров и подножек: нетерпеливые, запуганные, женские,
усталые, приезжие, сиротские, служивые, худые, морщинистые
и ни одного счастливого.
Нас тоже загрузили в одно из служебных купе с замызганными
матрацами, поверх которых проводник принёс несвежие простыни.
Не успели мы их расстелить, как нас попросили перебраться
в другой вагон и другое купе, распоряжённое очередным
рассыльным Тайсона, и мы сели на засаленные матрацы уже
без простыней. Господи, о чём я вообще говорю в поезде,
на который сотни бы отдали последнее, чтобы проткнуться
в проход…
Только сели, как сломанная дверь купе вскрылась наново
и вошёл сперва высокий казах в шляпе, возраст которому
придавала скрюченная старушка, вошедшая следом и юноша,
занёсший чемоданы напару с очередным рассыльным. Казах
поначалу расположил багаж под наши сидения, затем рассадил
семью и уж потом рассудительно сказал: “Дорога далёкая.
Давайте, как говорится, знакомиться: подполковник ГАИ
в отставке Абишев. Это моя жена Сара, а это мой сын, боксёр
Ермек. Студент второго курса Алмаатинского института…”
Последних слов я не расслышал, поскольку в это время со
скрежетом тронулся поезд и перрон со столпотворением вокзала
двинулся в прошлое.
19.
There is a Sufi parable, which says: God
and a man were crossing a desert, leaving two lines of
tracks behind them. But when it was too difficult to bear
heat, thirst and hunger, when the man used to lose his
consciousness, he has later noticed that the single line
of the footsteps was left behind him. He complained to
God: Why do you leave me alone, when it's particularly
hard for me? Why there is only one curved line of footsteps
behind me? And God replied: That was when I was bearing
you on my back...
Поезда хороши к воспоминаниям о Советском
Союзе. То была железнодорожная страна. То была страна
Железной Дороги. И этот поезд шёл больным, пенсионным
милицейским вспоминанием сначала подполковника Абишева,
работавшего с десяток лет назад в ГАИ Зерафшана, а теперь
живущего в Актау – бывшем городе союзного значания Шевченко,
чтобы получать пенсию полновесными казахстанскими тенге,
а тратить их в неконвертируемом узбекском Зерафшане, где
до сих пор прописана жена, и жизнь втрое дешевле.
В своё время выйдя на пенсию, он купил себе КАМАЗ
и гонял по начинающемуся капитализму дыни в Россию – милиция
не трогала его по солидарности, рекетиры – из предосторожности.
Хотя и того, и этого было по разу. Однажды сержант остановил
его на подъездах к Гурьеву и объявил надлежащий платёж.
Абишев показал красное удостоверение пенсионера, сержант
не унимался: “Давай, дед, на дороге все равны!” Тогда
Абишев сказал: “Я дам тебе тридцать твоих долларов, но
отсюда поеду прямо к начальнику управы, и пока он самолично
не сдерёт с тебя погоны – я не успокоюсь…!” Этих слов
сержант испугался и тут же стал лепетать: “Давай, дед,
гони вперёд как и все! Я имел в виду – будь острожен в
пути…”
А с рекетом было иначе. Абишев гнал на заработанные КАМАЗом
баксы три старых БМВшки из Польши, и ни Польша, ни Белоруссия,
ни Россия, не тронули заслуженного ветерана, а вот в родном
Казахстане их микроколонну обогнал чёрный Мерс и преградил
посреди кустанайской степи единственную дорогу вперёд.
Абишев остановил свой БМВ не доезжая до Мерса. Парень
в очках высунулся из кабины и поманил подполковника пальчиком.
Подполковник проделал то же самое. Некоторое время спустя
парень вылез из машины и лениво подошёл к Абишеву. “Что,
батяня, песок сыпется из жопы, что выйти не можешь?! Дорога
затаксована, понятно обосновал?!” Абишев вытащил из кармана
своё заслуженное удостоверение ГАИ: “Я сам таксист!” –
сострил он. И тут же указал на остальных: “И у них табельные
обрезы. Уж одногото тебя скрутим какнибудь…” Парень
сплюнул, выматерился и прошипел вполоборота: “В Кустанае
получишь скелеты машин!” – и хлопнув дверцей, взял с места
в рёв. На всякий случай они въехали в Кустанай объездной
дорогой, но в конце концов ничего нештатного не произошло.
Между этими рассказами каждую минуту всовывались
женские головы и предлагали то рыбу, то чай, то водку,
то лепёшку, то пива, то сметаны. Всё это приобреталось
подполковником на его щедрый пенсионный достаток и водружалось
не впрок, а на столик посреди. Два подполковника: отставной
и действительный, пили пиво, мы с дипломатом и домочадцами
– чай, заваренный в молоке, дипломат к тому же ел вяленную
рыбу. Один из рассыльных сержантов Тайсона оказался ответственным
за правопорядок и законность в поезде и после того как
он наспех установил всё это хозяйство в один обход – Абишевым,
как почётным подполковником поезда было решено усадить
сержанта за стол и непочатую водку. Из соседнего купе
на замерцавшие звёздочки сержанта вошёл ещё один подполковник,
правда, тюремный строитель, уже косивший от недобора,
и почуяв безбедную компанию, он начал с того, что Устюрт
без стопки не принимает в себя никого. То ли он знал о
наших вчерашних злоключениях, то ли всякое движение по
Устюрту было злоключением изначально, но его слова звучали
угрожающе убедительно, и он сам, как бывалый солдат Устюрта,
опрокинул первую стопку, не дожидаясь замешкавшегося сержанта.
Строитель был страшно и попустому болтлив, но даже водка,
заливавшая эту пустоту, лишь множила его полые слова,
он то подначивал ветерана, тем, что тот рано сдал водку
на пиво, потом перебрасывался на своего коллегу и запугивал
его таким же будущим, следом он обрушивался на сержанта,
ёрзавшего в компании бесполезных ему подполковников и
спускавшего здесь почём зря драгоценные часы своей настоящей
всесоставной власти.
Здесь пили за офицерской болтовнёй. В соседнем купе бесслёзная
женщина рассказывала другой о том, что едет навестить
мужа в тюрьме, что осталась при четырёх детках, отца забили
в зоне за то, что не прекращая молился, труп же доставили
посреди ночи, заставив тут же захоронить до рассвета и
объявили, что отец повесился в камере… Её рассказ пробивался
сквозь подполковничью браваду, но тонул в гомоне тех,
кто торговал в проходе чем мог. С другой стороны шёл по
вагону рассказ пожилого хорезмийца о том, что он едет
на заработки в Бейнеу, что дома люди кормятся лепёшками
из комбикорма, что в Казахстане пусть даже милиционеры
вылавливают их и заставляют петь по камерам шлягер Юлдуз
Усмановой: “Не отдадим тебя никому, родной Узбекистан!”,
– но даже через эти унижения – дают всётаки заработать
несколько сот тенге, на которые дома можно жить месяцы…
Другой рассказывал о том, что их всем районом выселили
из горных кишлаков, обвиняя в пособничестве исламистам.
Молодёжь всю поарестовывали, стариков пустили по миру,
вот и он, оставив семью приживальщиками у дальних родственников,
сбегает куда глаза глядят, ведь чего доброго, завтра придут
и за ним…
Я вышел в тамбур, там стояли двое мальчишек и курили
самосад из грубых листьев. Чтото детдомовское заговорило
во мне и я спросил их: “Сколько вам лет?” Они както сердито
обернулись и я увидел, как взрослы их лица. “Вон, спроси
у моего сына!” – огрызнулся один из них и показал в проход,
где перед женщиной, кормящей грудного младенца, облепленного
мухами, стоял долговязый паренёк. Я слышал о новом генотипе
людей и честно говоря именно нас, ядерщиков, обвиняли
за всё, что наш головной институт оставил в Семипалатинске.
Но в этом могли быть виноваты и биологи, испытывавшие
свои штаммы на острове Возрождения посреди Арала… Словом,
в неловкости я пошёл обратно в купе…
Поезд шёл по Верхнему Миру. Уже строитель завалился
на бок под тяжестью своей облысевшей головы, пенсионер
дремал, посвистывая по ГАИшной привычке, правда теперь
в тон со своей старушкой, бывший десантник поклёвывал
сухим носом, с которого вчера струились капли устюртовского
ливня, и даже дипломат разменивал политическую бдительность
на бытовую полудрёму, а взбодрённый водкой и напутствием
сержант наконецто двинулся обеспечивать состав законностью
и порядком, и только Ермекбоксёр, студент бог весть какого
института проснулся к анекдотам, рассказывая их со второй
полки в спёртое пространство купе.
“Едет както старикказах поездом в АлмаАту и захотелось
ему вздремнуть. Зовёт он проводника и гладя свою огромную
белую бороду, говорит: “Сынок, разбуди меня перед АлмаАтой!”
– и ложится спать. А в купе с ним едут шмаровые, играют
в карты и один из них проигрывает всё! “Давай, – говорят
ему, обрей старика!” Тот сбривает старику и бороду, и
усы, и брови. Поезд к тому времени приближается к АлмаАте
и проводник в темноте будит старика: “Вставайте, ата,
скоро АлмаАта!” Старик идёт в туалет, умыться, смотрит
в зеркало и говорит: “Акенди сикейм, биряуды уятиб жубериптигой!”
– “Ёптать, просил разбудить меня, а этот балбес разбудил
другого!”…
*
* *
"Perhaps, these sounds were coming
from somewhere far closer, from inside Chagataev№s own
body, unless their origin was the slow pulse of his own
soul, reminding him of what was central, of the essential
life that had been forgotten, stifled by the sorrow in
his clenched heart..." says Platonov, once again
choosing not to name God by his own name. The last sentence
of Dzhan says: іChagataev was certain now that help could
come to him only from another human beingІ. Does he mean
Ksenya – a stranger, an other, with multicoloured eyes,
who symbolises another belief, another faith? Or does
"drugoy chelovek" means "a different, yet
not existing, future son of man" In a typically Platonov
way, this important question is disguised as a statement.
За всем этим мы доехали до Джаслыка.
Станция как станция, каких сотни, скажем, в казахстанской
степи – едете ли вы поездом из Ташкента в Москву или из
Арыси в Новосибирск. Бесцветная желтизна глины, разлитая
по земле, строениям, лицам. Чёрный ствол редкого дерева,
или пыльная зелень джудовых листьев, или корпус старого
вагона, обращённого в станционную санчасть – в таких местах
кажутся всплеском, здесь даже металл, ржавея от ненужности,
приобретает черты пыли. То, что некогда было трубами и
компрессорами на трассе газопровода “БухараУрал” стало
теперь пылью пейзажа, зато базар, где поезд торгует на
станцию, и та отвечает подобным – это уже новое старое
время. Тягучие шаги путевых обходчиков, их смуглые слова,
жарко укрупняющиеся как встречный поезд, постукивания
их остывающих молоточков сменились теперь грязным топотом
роящейся толпы и конвоирным шагом тюремщиков, идущих навстречу
поезду – отрапортовать нашему подполковнику о том, что
машина стоит на пристанционном пустыре.
Абишев на всякий случай отдал честь к бескозырьковой
пенсионной голове, в которую, как чуть раньше заметил
едкий боксёр, он всё ещё кушал кусок вяленной рыбы; пьяного
военного строителя составной сержант перепоручил разношерстным
стройбатовцам, и подступы к поезду замкнулись за нами
волной тех, кто пробивался к составу, как кровь к аорте
жизни.
Мы сели в штатный УАЗик и тронулись сперва по грунтовке
посёлка, которая сразу же за последними строениями сменилась
военной бетонкой в один ряд. Странно оказаться на бетонке,
удаляясь в пустыню, ещё более странно увидеть в пустыне
колючую поволоку наружного заграждения запретной зоны,
но страннее странного въехать в этой невыживной степи
в военный городок, где дети играют в футбол, – первые
дети, увиденные мною за последние три дня, и тут же играющие
в футбол.
Но бетонка продолжалась. Она прошла сквозь городок, окружённый
от степи не только колючей проволокой, а и бетонной стеной
с запертым шлагбаумом, который открыл один из тех, кто
молчаливо и подозрительно сопровождал нас в УАЗике. Ещё
одна сурово нейтральная полоса, за которой в отдалении
бетонки показалась сам зона Джаслыка.
*
* *
Whether Chagatayev, who had been looking
for so long into the unknown and alien space in the desert,
forgetting about the rest of his body, which had been
left below the ordinary sky could escape the fate shown
in the second picture of diptych – this is a question
that Platonov puts not just in a universal sense, but
most particularly with regard to his Russian identity.
Уважаемый господин Роберт Чандлер,
здесь кончились мои дневниковые записи, которые я привёл
полностью, отнимая Ваше время на чтение, если не переживание
их. Я сам, увы, дальше не смог писать, не хватило тогда
душевных сил, но теперь, несколько месяцев спустя, отыскав
по случайности Ваш адрес, я решил изложить Вам эту историю
до конца с надеждой на Ваше участие.
Итак, я оказался в Джаслыке. Представьте
себе заброшенную советскую стройку, но прибранную и поднадзорную
– территория с огромное двойное футбольное поле и огромная
бетонная четырёхэтажка – которая и есть собственно тюрьма
с густо зарешёченными бойницами. Но сразу по входу в зону
– опыт я Вам скажу – незабываемый – эти лязгающие засовы,
за которыми кончается мир – налево – отсек посетителей,
который был в тот день закрыт. Своего рода дом свиданий.
Отсюда и до самой тюрьмы – пустырь с типовой баскетбольной
площадкой, турником и железными брусьями. А за ними –
справа от тюрьмы – два полудостроенных здания – будущая
медсанчасть, как сказал один из тюремщиков, перехватывая
мой ошарашенный взгляд. Мы пересекли пустырь по всё той
же типовой бетонной дорожке и с лязгом нескольких замков
вошли в здание самой тюрьмы.
Скажу Вам честно, я был в таком подавленном состоянии
духа, что плохо помню, всё что происходило вокруг меня,
но одно я помню хорошо, как суетливы были тюремщики от
непонятности того, что они делают для меня, ведь они привыкли
обращаться с контингентом зоны совсем поиному…
На стене по входу висел распорядок дня этого учреждения
– напоминавший при броском взгляде армейский режим, впрочем
и зычный голос тюремщика, отдавшийся эхом в бетонном коридоре:
“Организовали Исмаилова?!” – заставил вспомнить меня сначала
детский дом, а потом армейские годы в Калининграде в войсках
связи. Этот рёв рассыпался на ряд меньших команд и заключённые
самой ближней камеры вскочили на мгновение с нар и хором
отрапортовали в дверь гражданину начальнику. Но это касалось
не их, хотя вся камера так и осталась стоять по стойке
“Смирно!”, тем временем, как замначальника зоны завёл
меня в первый по эту сторону двойных железнорешётчатых
дверей кабинет.
Сердце моё колотилось набатом или скорее сердечником в
электромагните то ли от волнения, то ли от жалости, то
ли от животного страха, и я представлял себе аморальность
своего свободного присутствия перед заключённым Х.Исмаиловым,
которого должны были ввести с минуты на минуту. Мне предложили
пройти вглубь кабинета вдоль стола к аквариуму с медленными
золотистыми рыбками. Дипломат и милиционер сели с двух
моих сторон и дипломат включил свой диктофон. Тюремщик
остался стоять по ту сторону стола. Я стал вспоминать
лицо Х.Исмаилова по единственной фотографии на сайте Фергана.Ру
и думать о первом слове. Как и что спросить? Поймёт ли
он зачем я здесь? Как отнесётся к моим вопросам? А потом,
эти двое по обеим сторонам сидят затем, чтобы я повлиял,
но что я смогу сделать, и смогу ли вообще? Или, вернее,
должен ли?!
Что сейчас заключённому Х.Исмаилову до какогото там Назара
Чагатаева или его жены Ксении, что ему до досужей картинки
человека, потерявшего голову в небе и до Савицкого, скупившего
её?! Рой беспорядочных вопросов, разгоняемый кровью колотящегося
сердца…
В дверь постучали. Палачевидный тюремщик рявкнул: “Да!”
Дверь со скрипом открылась и сначала показался тюремный
сержант, а вслед за его рапортом в кабинет вошёл долговязый
и худой заключённый с эмбриональной головой и, заложив
руки за спину, доложил: “Заключенный Исмаилов по вашему
приказанию прибыл!” Сердце моё ёкнуло. Свисающая чёрная
роба висела на его лопатках, выпирающих из его спины вверх.
Бледнопалевое лицо, глубоко запавшие глаза – всё это
было всамделишное, но чтото шевельнулось в моём недоверчивом
сердце и я переспросил его в профиль: “Вы – Хамид Исмаилов?”
– “Так точно! Хамид Исмаилов, осуждённый по 159 статье
к двадцати годам по вашему приказанию прибыл” – он обернулся
ко мне в полное лицо. – “Вы тот самый писатель Хамид Исмаилов,
который…” – “Никак нет, заключённый Исмаилов осужденный
к двадцати годам за терроризм и попытку свержения конституционного
строя, ничего не писал…” – отрапортовал он с испугом в
голосе. “Так вы писатель или нет?…” – ещё раз взывая к
человеческому тону переспросил я. И перебивая его рапорт,
задал прямой вопрос: “Кем вы работали до ареста?” – “Забойщиком
на скотобойне…” – выдохнул он и ошарашенно оглянулся по
сторонам… И мне вдруг показалось, как эмбриональная голова
его рубком скатывается с его угловатых лопаток под ноги
к начальнику при его живой голове…
*
* *
Once a Sufi was praying in the mosque.
After his prayer someone asked him about his soul. Sufi
said: It's bigger than anything in the world. Bigger than
the mosque? Yes, bigger. Bigger than our kingdom. Yes,
bigger. Bigger than Earth? Yes. Bigger than God? Yes,
bigger. But there is nothing bigger than God! This nothing
is my soul, – replied the Sufi. I think that the Platonov
of Dzhan would have agreed with him.
Господин Чандлер, это был другой Хамид
Исмаилов. Представьте теперь себе мою ситуацию: два года
жизни – день за днём положенных на то, чтобы оказаться
там, куда никого не пускают по своей воле и, пережив столькое
уже здесь, вдруг обнаружить, что всё это – не к тому!
Честное слово, не помню, чья голова скатилась на бетонный
пол, по которому как в коммунальном душе или на бойне,
была проложена ложбинка в угол – к замедленным рыбкам
– вполне возможно, что и моя, поскольку я совсем забыл,
о чём я говорил с тем самым не тем Хамидом Исмаиловым:
допытывался ли к его вящему страху почему он не писатель,
или знает ли он Назара Чагатаева, а то и помнит ли он
картину того, как с человека слетела голова – что бы я
ни говорил – это лишь ужасало и без того изувеченного
заключённого – это я понял уже вернувшись в Москву, когда
горячка – физическая, настоящая горячка, возбуждённая
то ли каким вирусом, или же притаившейся простудой, а
то и всем происшедшим, а вернее, не происшедшим со мной,
свалила меня в обратном самолёте и оставила лишь две недели
спустя в клинике Склифоссовского.
В глубоком детстве тётушка рассказывала мне сказку,
которую я никогда и никому не пересказывал, как последнее,
что дано мне хранить как амулет до самого конца. И рассказывала
она эту сказку, глядя на ту самую картинку над моим деревянным
топчаном, которую я так и не смог увидеть в Нукусе, в
Домемузее художника Савицкого. Я не понимал этой сказки,
поскольку был слишком мал, и сейчас, как голограмму, я
попытался собрать её вместе, внутренне ощущая, что она
имела нечто общее с моим отцом.
Давнымдавно жило в пустыне племя и искало это племя день и ночь человеческое
счастье. И родился в этом племени мальчик, который рос
не по дням, а по часам, и вырос скоро настолько, что решило
племя отправить его за счастьем в дорогу, которая длиннее
этой пустыни. И пошёл юноша по пустыне, день шёл, два
шёл, пока не увидел вдалеке марево, в котором вздымались
неописуемой красоты дворцы посреди неба и облака бились
о подступы как волны. И правила этим миром красавицапери,
владелица счастья, хранившегося в её золотом ларце. И
эта пери увидела юношу и влюбилась в него, а потому спустилась
на верёвке, пока он спал под корявым тамариском, утомлённый
дорогой, и забрала его к себе в царство миража. Зачаровала
пери юношу и забыл он о счастье, по которому шёл свою
долгую дорогу.
И зажил юноша с этой пери в том царстве, забыв о своём
скудном народе. Долго ли, коротко ли он прожил там, никто
не знает, но однажды, когда царица послала его выпалывать
небесную траву среди звёзд, он по неосторожности выдернул
с корнем ботву двух спаренных звёздочек и вдруг увидел
в образовавшуюся небесную дыру свою бедную землю. И затосковало
его сердце, и вспомнил он свою мать, своего отца, своё
тусклое племя и то самое счастье, нетерпением которого
они дожидались его. И потянуло его назад. Долго упрашивал
он пери отпустить его хотя бы ненадолго на землю, но не
соглашалась она. И вот однажды, когда она спала, юноша
выкрал тот золотой ларчик со счастьем и схватив кусок
веревки, ринулся к той самой небесной дыре, чтобы вернуться
на грешную землю. Да только веревка была коротка, а потому
пришлось прыгать юноше со звёздной высоты огненной полосой
и упал он, почти обугленный в свою пустыню, хотя ларчика
из рук не выпустил.
Долго искал он в той пустыне своё племя, держа шкатулку
со счастьем в руке, а находил лишь давние следы жизни
– кость обглоданного барана, череп иссохшего старика.
Он обошёл пустыню и вдоль, и поперёк, но народа своего,
которому принёс счастье, так и не нашёл. Вымерло его племя
за тоской несбыточного счастья и за разницей времени между
нищей землёй и маревом неба.
И сел тогда он на кочку земли и заплакал, положив перед
собой своё не нужное и никчемное счастье. И от слёз его
зашевелился ветер и опрокинул ларец, и вылетело из него
две спаренных звезды и как два серебряных гвоздичка, со
звоном вбились в ту самую небесную дыру, из которой спустился
он наземь, заколотив её собою навеки…
Вот и ходит теперь этот человек по пустыне с лестницей за спиной и долго с
тоскою глядит на звёзды, а потом каждую могилку, что находит
на своём пути, обозначает ею же, вколачивая в землю два
шеста и шесть перехватов между ними…
Не знаю, я не литератор, и даже не гуманитарий. Меня
смущают своей непонятностью такие слова. Мне проще объясниться
принципом дополнительности, по которому если ты можешь
замерить массу световой частицы, то никогда не сумеешь
сказать о её местоположении, и если же зафиксируешь её
позицию, то никогда не узнаешь её массы. Не так ли и я
сам в этой ситуации. Или мне проще истолковывать себя
принципом Шрёдингера, по которому всякий исследователь
по неизбежности обречён влиять на объект своего исследования,
становясь в конце концов частью полученного результата.
Лишь задумайтесь над моими словами.
Наконец, мне проще почувствовать себя потоком полупроводниковых
дырок, несущемся в обратном направлении тока электронов,
как будто бы я полое отражение всех этих чувств, влечений,
страстей, миражей, иллюзий, обманов времени и пространства,
запутавшихся друг в друге.
У нас в физике есть очень простое и странное по непонятности
правило, которое называют правилом буравчика или же законом
Ленца, если быть академичным. Согласно этому правилу,
если линии магнитного поля входят в ладонь левой руки,
а четыре пальца указывают направление силы тока, тогда
большой палец покажет направление силы магнитного поля.
Говоря простым человеческим языком, ты думаешь, что некие
силы ведут тебя в одном направлении, а на самом деле в
самом основании мироздания есть некая запутанность, когда
ток течёт в одну сторону, а его магнитное поле влечёт
тебя вбок.
Вот пишу я Вам, господин Чандлер, эту белиберду, и сам
думаю: а зачем я пишу? Что я ищу у Вас? Изначально мне
казалось, что Вы мне поможете отыскать Х.Исмаилова – настоящего,
нужного мне Х.Исмаилова, публиковавшегося два года назад
в Вашем сборнике, того Х.Исмаилова, который будет способен
объяснить мне чтото о моём отце, а стало быть чтото
обо мне самом в этом мире. Но не увлекла ли меня в этом
изначальном поиске совсем другая сила, созданная тем самым
первозначным порывом, совершенно в другом направлении,
как будто бы вопреки силе моего первобытного тока крови,
как будто бы есть в этой природе чтото неощутимое, но
непреложное как магнитное поле, в котором я обречён был
оказаться или как то самое царство миража, о котором мне
рассказывала моя тётушка?
У того Х.Исмаилова, которого я считал изначальным
и настоящим, я прочёл стихотворение – перевод Алишера
Навои, что кончалось такими словами:
Навои, не говори ни слова об исходе,
поскольку безысходность стала исходом твоей тоски…
и вдруг понял, что именно эти слова обо мне, о том, что произошло
и происходит со мной. Может быть бессмыслица происшедшего,
происходящего и есть самый смысл его?!
И вдруг, сейчас, уважаемый Роберт, когда стало светать
за моим долгим письмом и две одиноких звёздочки в моём
голом окне стали тускнуть от неба, оглядываясь с тоскою
назад, я увидел, что Устюрт и Сарыкамыш, худосочный скот,
растаскиваемый по базарам и овцы, ходящие по кругу, релейная
вышка номер 16 и коммунизм, поезд – греющий кровь угрюмой
нации и осёл для согрева личной крови Суфьяна, списки
НурМухаммада и зловещий Джаслык, путь моего иллюзорного
отца и мой к нему – всё это – одно, как человек, притороченный
ногами к земле парит головой в небо, всё это – одно, разве
помеченное разносторонним направлением сил полярного буравчика,
который кружится бабочкой над поверхностью земли, а врезается
остриём всё глубже и глубже в мясо и кровь боли человеческого
сердца…
|