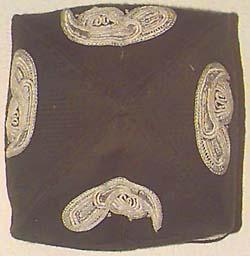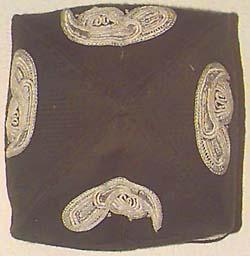|
Велимир Хлебников. "Любовник
Юноны"
1
Бежим дитя, бежим за ели,
где вороны овна заели.
2
Тётенька милая, тётенька, тише,
здесь камни, здесь больно, мне трудно и выше.
3
Здесь озеро блещет
и волнами плещет.
4
О, сын мой любимый, сыноня,
или стал ты милым Юноне?
Он кроток и тих. Какая в нём корысть?
Уж лучше взяла бы трясуха иль хворость.
5
Кто это там? Опять твоя мать?
Она не устанет меня проклинать.
Кто это там? Опять твоя мать?
Она не устанет меня проклинать.
6
..............................
7
Здесь золотые цветут травы
И белые купавы.
8
Прекрасная тётя, зачем ты снимаешь?
Не надо, не надо родная.
9
Красный ребёнок, ты не понимаешь -
Смою я грязь, в воде погружая.
10
Всё же снимай. Видишь, и я -
чиста, прекрасна, как влаги струя.
11
Домой ты придёшь, и нас будут бранить,
если не вымоем каждую нить.
12
Я сделаю всё, что ты хочешь!
Тётя, русалка, зачем ты щекочешь?
Не надо, не надо, родимая,
Я слёзы на личице вымою.
13
............................
Чьи жемчуг-зубки сделал токарь,
ты бел и нежен, как этот осокорь.
14
Сюда, сюда, куда веду,
В вилы и косами встретьте
Шлюху ту гордую, что на беду
Сына завобила в сети.
15
О, проклята, проклята буди,
Пусть хворью покроются вечные груди.
16
Кто это там? Опять твоя мать?
Она не устанет по сыну рыдать.
17
Где зеркальный водоём
Весь сокрыт в плакучих ивах,
Там Юнона и сын мой вдвоём
Предаются делу красивых.
18
То к нам уже идут, то к нам уже идут.
Мальчик, нам хорошо тут?
19
С дрекольем идите все сразу и вместе,
Вперёд образа.
Да не дрогнет рука.
Так хочет дело мести.
20
Сюда идите! Здесь вон они
Между осинок в роще в тени.
21
Она из облаков спустилась
И за руку схватив, бежать пустилась,
Коса по ветру развевалась,
И ноги пыли пальцами касались.
Он жалобно просил её итти потише,
Но она не слушалась,
И скоро в роще ближней,
Хищно озираясь, скрылась.
Сегодня среда, и хоть грех убивать,
Да нужно!
Вот где их стонов и воплей кровать!
Ну же, друзья мои, сразу и дружно
Дрекольями дружно коли!
А вы: раз, два - пли!
22
Сына целует бедная мать.
К плечам прижала седым.
Но мёртв он. Вотще подымать
Веки бессильны как дым.
23
А сквозь ругань, крик "ура" -
Высокомерна и красива,
К небу взымалось меньше пера
Голубооблачное диво.
Federico Garsia Lorca. "Romance de la luna, luna"
La luna vino a la fragua
con su polison de nardos.
El nino la mira, mira.
El nino la esta mirando.
En el aire conmovido
mueve la luna sus brasos
y ensena, lubrica y pura,
sus senos de duro estano.
Huye luna, luna, luna.
Si vinieran los gitanos,
harian con tu corazon
collares y anillos blancos.
Nino, dejame que baile.
Cuando vengan los gitanos,
te encontraran sobre el yunque
con los ojillos cerrados.
Huye, luna, luna, luna,
que ya siento sus caballos.
Nino, dejame, no pises
mi blancor almidonado.
El jinete se acercaba
tocando el tambor del llano.
Dentro de la fragua el nino,
tiene los ojos cerrados.
Por el olivar venian,
bronce y sueno, los gitanos.
Las cabezas lavantadas
y los ojos entornados.
Como canta la zumaya,
ay, como canta en el arbol!
Por el cielo va la luna
con un nino de la mano.
Dentro la fragua lloran
dando gritos, los gitanos.
El aire la vela, vela.
El aire la esta velando.
Подстрочный перевод:
Романс о луне, луне
Луна пришла в кузню
в своей шали из жасмина.
Ребёнок на неё глядит, глядит,
ребёнок стал на неё глядящим.
В воздухе движущемся вместе
зашевелила луна руками
и показала влажные и чистые
свои груди из твёрдого олова.
Беги, луна, луна, луна.
Если придут цыгане,
сделают из твоего сердца
браслеты и кольца белые.
Ребёнок, оставь, дай мне потанцевать.
Когда придут цыгане,
тебя найдут на наковальне
с глазками закрытыми.
Беги, луна, луна, луна,
потому что я чувствую уже их коней.
Ребёнок, оставь меня, не наступай
на мою белизну крахмальную.
Всадник приближался,
играя на барабане рассвета.
В кузнице ребёнок
с закрытыми глазами.
Из олив вышли
бронза и сон, цыгане.
Головы поднятые,
и глаза прищурены.
Как запела сова!
Ах, как запела на дереве!
По небу шла луна
с ребёнком за руку.
В кузнице плакали,
вскрикивая, цыгане.
Ветер её разносил, разносил /как парус/
ветер был разносящим /дежурящим/.
Вы прочли два стихотворения
крупнейших поэтов ХХ века.
Похожи ли они? Несомненно. И вместе с тем даже невооруженным
глазом видно насколько они разнятся по ... да, почти по всем
поэтическим параметрам. Предполагая с самого начала, что перед
нами два совершенно оригинальных творения, в высшей степени
заманчиво, так сказать, и "на глаз" и "на ощупь"
почувствовать природу их различия и схожести.
Число два - идеальный вариант для сравнения, а поэтому представляется
возможным наложить ряд ограничений, которые, как думается,
будут способствовать "чистоте опыта". Постараемся,
чтобы в нашем сравнении двух текстов было возможно малое количество
контекста, как и внетекстовых отступлений. Не будем уточнять
место этих двух стихотворений в творчестве каждого из поэтов.
Итак, вычленяя общее из двух этих стихотворений, можно представить
модель ситуации в следующем виде:
Небесное существо женского
рода спускается на землю и совращает мальчика. Мальчик - в
смятении, опасаясь вмешательства земных, враждебных их отношениям
сил.
Внешние, земные силы вмешиваются в их отношения, что приводит
к развязке. Небесное существо покидает землю.
Придерживаясь этой схемы попытаемся
сравнить оба стихотворения в различных отношениях.
НАЗВАНИЕ
Уже самый приблизительный анализ названий позволяет заметить,
что в первом случае небесное существо имеет человеческое или
вернее божественное имя. Кроме того, сочетание "любовник
Юноны" - это человеческое, действительное, "тварное"
отношение, тогда как название "Романс о луне, луне"
несёт в себе элемент художественной условности как в том,
что предполагает условные отношения,
так и в двукратном повторении названия луны, луны. Весьма
примечательна в этом случае и отстраненность предлога "о",
существенна и акцентация в первом случае на любовника Юноны
- земного мальчика, во втором - на небесное существо - луну.
АРХИТЕКТОНИКА "Любовника" состоит из 23 пронумерованных
отдельных строф с различным количеством стихов. Наиболее частый
вариант - двустрочие, затем
четверострочие. Все строфы, за исключением нескольких, имеют
вид прямой речи Юноны, мальчика и матери. К авторским словам
можно отнести разве что только название и две заключительные
строфы. Иными словами, это по существу обрамленный диалог
героев, включенных в действие. Каждая строфа полновесно принадлежит
высказыванию лишь одного из них. Можно сказать, что во всей
архитектонике "Л.Ю."
проводится идея множественности и сопутствующей ей дискретности.
И наконец, следует заметить, что двустрочные строфы к концу
стихотворения сменяются более длинными (так в 21 строфе -
14 стихов) строфами.
Архитектоника "Романса", напротив, характеризуется
тем, что начинается с большой (в 20 стихов) строфы, вслед
за которой идут 4 четверостишия. Кроме диалога ребёнка с луной
всё является последовательным авторским рассказом о происходящем.
Диалог естественно вплетается в авторскую речь и стихотворение
читается как монологическое единое, непрерывное авторское
высказывание.
Монтажная фрагментарность авторского взгляда здесь выступает
в отличие от "Любовника Юноны" к концу и её природа
будет рассмотрена ниже.
ПРОСТРАНСТВО
В самом общем виде построение
пространства в обоих стихотворениях казалось бы идентично.
Небесное существо спускается с беспредельного неба на землю
и после некоторых земных событий покидает её и уходит в небо.
Выражаясь современным языком: "воздух - земля - воздух".
И вместе с тем в этой общей казалось бы схеме можно обнаружить
много интересного и своеобычного, характеризующего пространственные
представления каждого из поэтов.
Имея в виду эту общую схему, любопытно детально проследить
за формированием пространства действия, обращая кроме прочего
особое внимание на предлоги, указывающие на определённые пространственные
отношения.
В "Любовнике Юноны" действие начинается уже на земле.
Не углубляясь пока в содержательную сторону приема, заметим
лишь, что относительно выделенной из обоих стихотворений модели,
пространство уже прервано. Второй момент, на котором следует
остановить внимание - действие на земле происходит в незамкнутом
пространстве. Высказывание "бежим за ели" ограничивает
пространство с одной стороны и это почти иллюзорное ограничение.
Иллюзорность этого ограничения подчёркивается и тем антагонизмом,
который наполняет и то пространство, "где вороны овна
заели". Это горизонтальное движение, вернее побуждение
к движению сменяется реальным движением, которое для мальчика
совершается по вертикальной линии, снизу вверх. Причём это
восхождение дано как внутреннее переживание: "мне трудно
и выше". Вместе с тем сравнительная форма "выше"
предполагающая движение (выше - ниже) даётся на фоне закрепляющего
внешнюю неподвижность обстоятельства "здесь", повторённого
дважды. Неподвижность внешнего пространства усилена словосочетанием
"здесь камни". Следующее пейзажное двустишие закрепляет
через это "здесь" горизонтальную плоскость озера
с предполагаемой вертикальной перспективой ("блещет").
Эта же перспектива поддерживается волнами.
Из следующего вслед за этим высказывания матери прямого заключения
ни о её местоположении в пространстве, ни пространственных
характеристик действия извлечь нельзя. Косвенное указание
на внеположность её к пространству события Юноны и мальчика
можно усмотреть лишь в форме глагола "взяла бы"
в сочетании "взяла бы трясуха иль хворость". Эта
внеположность явственно звучит в вопросе Юноны:" Кто
это там? Опять твоя мать?" Двукратное повторение
лишь закрепляет эту поляризацию.
Этому "там" противостоит "здесь" с цветущими
травами и купавами. Цветущее - это в пространственном смысле
более богатое, чем растущее, не двумерное (вверх - вниз),
но трёхмерное отношение.
Следующий диалог мальчика и Юноны лишён пространственных перспектив,
и если появляются какие-либо ассоциации с пространством, то
они весьма зыбкого водного свойства:"смою я грязь, в
воду погружая", "как влаги струя", "слёзы
на личике вымою".
Строфа 14 резко ломает пространственную неопределённость предыдущего
кличем матери, в котором любопытнейшие пространственные отношения.
"Сюда, сюда, куда веду" - это завлечение, предполагающее,
что кто-то следует вслед за ней. И тут же это заявление, поначалу
будто усугубляемое "в вилы и ..." вслед за этими
выворачивает это пространство наизнанку:"косами встретьте".
И это мятущееся пространство должно разорвать замкнутое, по
матери, пространство сети, в которые завобила сына Юнона.
Можно толковать и продолжение слов матери "пусть хворью
покроются вечные груди", но интересно как в, казалось
бы, едва изменённом вопросе Юноны расчленяются два пространства
- матери и сына.
Кто это там, опять твоя мать?
Она не устанет по сыну рыдать.
Следующее за этим высказывание
принадлежит матери и горизонтальное построение предыдущего
своего видения она сменяет на их вертикаль ("где зеркальный
водоём"). Её вертикаль - это отражённые в воде плакучие
ивы, которыми сокрыт (следует обратить внимание, что характерное
для матери пространственное построение: "покроются груди",
сменяется на "сокрыт" водоём. Это чужое пространство,
которое лишь зеркально дано оплакивать, чужое пространство:
там Юнона и сын мой вдвоём предаются делу красивых. В этой
зеркальности неопределима перспектива "верх - низ",
потому что она чужая. Так пространственно решается содержательная
сторона отношений.
Этому опять противостоит "тут" Юноны и мальчика
("мальчик, нам хорошо тут?"). Так же соотнесены
две формы глагола "идти" (Юнона: "то к нам
уж идут", мать: "с дрекольем идите все"...).
Слова матери "вперёд образа" - это предел материнского
пространства, "пентаграмма" внедрения в чужое непонятное
пространство.
Смятение матери не имеющее определённой пространственной соотнесенности
особенно явственно в следующей строфе. "Сюда идите!"
- это уже расположение матери впереди тех, кого она насылала
идти вперёд. И, наконец, казалось даже когда она вошла в это
"здесь", мальчик и Юнона тем не менее остаются вне
пределов её "здесь" - "вон они".
И вот пространственно мать решает расправиться с ними: "вот
они между осинок" - это первое их определение, ограничение
в плоскости их вертикали ("между осинок"). Второе
накладываемое ограничение уже не плоскостно, а пространственно
- "в роще" и наконец доминанта материнского пространственного
антагонизма (то самое "покроются") "в тени"
- сверху вниз - так замыкается на землю мешок пространства.
21 строфа повторяет, но уже более определённо те пространственные
потенции, которые были выявлены выше, и придаёт матери определённость
вне этой рощи. И, наконец, пространство Юноны и сына стягивается
до площади кровати, и через указательность, предполагающую
отстранённость в одной плоскости - "вот где их
стонов и воплей кровать". И вот суматошная попытка объединения
пространств, где теряется всякая перспектива: близкое на уровне
соприкосновения ("дрекольями дружно коли") и далёкое,
хотя бы в минимальном смысле: ("а вы: раз-два-пли!")
смешиваются.
И здесь развязка. Невозможность вертикального, чужого движения:
"вотще подымать" ... для матери веки бессильны как
дым - естественно должные бы подняться. Вот наказание неестественностью.
А сквозь пространство ругани, крика "ура" высокомерна
("мерима высотою") к небу вздымалось меньше пера,
Юнона, чьё существо облачно.
Проследим как строится пространство в "Романсе о луне,
луне". Первая же строка ограничивает сцену события кузней.
Вместе с тем остается неопределённым направление входа луны
в это пространство. Потенциально многосторонне и положение
мальчика относительно луны. Глядит ли он на неё снизу вверх,
или же глаза в глаза на одном уровне - главное, что он глядит,
что мальчик глядящий. Луна зашевелила руками и воздух двинулся
вместе. В кузне ли луна или это взгляд мальчика, находящегося
в кузне несёт в себе эту луну - ведь между ними и этот слой
двинувшегося воздуха, сквозь которые луна показала свои груди?
Во всех глаголах, обозначающих движение нет его направления,
это скалярное движение, движение само по себе, потенциально
всестороннее движение.
"Беги луна, луна, луна..." Есть ли в этом крике
мальчика какое-нибудь положительное пространство кроме страха
замкнутости кузни, куда придут цыгане?
"Ребёнок, дай мне потанцевать." Танец - вот разгул
движений, вот освоенные потенции пространства. И в контраст
этому танцу предположительная неподвижность мальчика на наковальне.
Вот появилась определённая пространственная "привязка"
и она действительно оказалась привязкой, т.е. первая же пространственная
определённость тут же связана с неподвижностью.
"Беги луна, луна, луна, потому что я уже чувствую их
коней" - чувства мальчика мечутся в неопределённости
и страхе между предполагаемой вертикалью луны и горизонталью
скачущих цыган.
"Ребёнок, оставь меня, не наступай на белизну мою крахмальную".
В этом: "оставь меня, не наступай", есть возможность
двух противоположных движений. Если противоположить "оставь
меня" следующему "не наступай", то это возможность
мальчика вознестись над белизной крахмальной. Это вертикальное
прочтение. Но можно прочесть и в горизонтальном плане - "оставь,
не наступай, не уравнивай меня с землёю, не вноси своё земное
в меня".
Видимо есть характерность в том, что далее даже рассвет определяется
(рассвету даётся предел) барабаном, - рассвет и сверху в небе
и снизу на земле - ограниченный кругом горизонта, даже простор
оказывается замкнутым как сцена. Барабан - это, наконец, плоскость
в которую бьют. Это движение сверху вниз, и одновременно приближающее
всадника, движущее его по горизонтали к кузне.
Эти два пространства - ограниченный лишь по горизонтали рассвета,
и ограниченной со всех сторон кузни с некоторой долей условности
можно представить в виде плоскости барабана ("в"),
по поверхности которого приближается стуча и бия, всадник
("по"), иными словами это противопоставление прочитывается
как внутреннее и внешнее.
Развязка романса казалось бы чуть ли не в каждой строке несёт
пространственные координаты ("из олив вышли", "ах,
как запела на дереве"), но это обманчивое впечатление.
Попробуйте соотнести эти координаты между собой. Есть общее
внешнее кузне пространство, где из олив выходят цыгане, головы
подняты, глаза прищурены. И это контрастная направленность
верх-низ, которая выдаёт их тревогу, взмывает вертикалью вверх,
через дерево, где закричала сова и в небо по которому шла
луна с ребёнком в руках. Эта же причастность цыган вертикали
(верх-низ), луны же - горизонтали ("по небу шла")
готовит последний акт трагедии, когда силы меняются пространствами,
внешним, открытым и внутренним, замкнутым, в котором внутри
кузницы плачут, вскрикивая, цыгане.
ВРЕМЯ
Прежде всего заметим, что события
в "Любовнике Юноны" происходят днём. Если попытаться
предположить длительность происходящего события, то действие
длится видимо не более часа.
Течёт ли время непрерывно и равномерно в этом промежутке?
Уже начало стихотворения, разворачивающееся в настоящем времени
("бежим дитя") тут же прерывается аппеляцией, к
памяти к прошлому ("где вороны овна заели"). Прошлое
в настоящем времени появляется затем в вопросе матери ("или
стал ты милым Юноны"), хотя следующее предложение матери
дано в настоящем времени ("он короток и тих"). И,
наконец, временное смятение матери выплёскивается в неопределимом
во времени конструкте ("уж лучше взяла бы трясуха иль
хворость"), который одинаково может быть отнесён и к
прошлому, и к настоящему, и к будущему времени.
Из настоящего в будущее длится и ответ Юноны ("она не
устанет меня проклинать").
Следующий за этим диалог Юноны и мальчика весь выдержан в
настоящем (часто длительном) и условно-будущем временах. Единственная
отсылка в прошлое это восхищение Юноны ("чьи жемчуг-зубки
сделал токарь") которое тут же переносится в настоящее
("ты бел и нежен").
Чрезвычайно интересным является во временном плане следующее
высказывание матери, которое начинается с настоящего времени,
перекидывается в будущее ("в вилы и косами встретьте")
и кончается прошлым ("сына завобила в сети"). Все
времена перекрыты, и всё повернуто в прошлое. И тут же проклятия
в будущем времени. Ответ Юноны всё так же длится из настоящего
в будущее.
Строфа 17 - это вынужденность матери всем высказыванием признать
настоящее Юноны и сына ("предаются делу красивых").
Но вот из будущего в будущее продлевается и мстительный голос
матери ("с дрекольем идите", "да не дрогнет
рука") и опять возвращается в настоящее ("сюда идите").
21 строфа попытка матери представить в прошедшем времени всё,
что произошло. И вместе с тем, это начало всего действия,
прошлое в будущем, противопоставленное прошлому. Есть пребывание
Юноны и мальчика в бессрочном, неподвижном, настоящем, с гипотетическими
связями с земным по природе будущем, и есть метания матери
по обе стороны этого непробиваемого их настоящего.
И только вот какой ценой:"сегодня среда, и хоть грех
убивать, да нужно!"
И вот мать оказалась в этом настоящем. "Сына целует бедная
бедная мать". Настоящее, длительное время. Но не дано
ей это продление, это вечное пребывание, оно мгновенно: "к
плечам прижала (не прижимает) седым. Но мёртв он ..."
А длительность, длительность эта в прошлом, где сквозь ругань,
крик "ура" к небу вздымалось полуоблачное диво.
Время события происходящего в "Романсе" - ночь.
ЦВЕТ
Различна цветотехника двух
поэтов. Если выписать из стихотворений все прямо указанные
цвета, а также цвета предметов, имеющих определенный колорит,
то получится весьма любопытная картина. Вот палитра "Любовника
Юноны". Обозначенные цвета: золотые, белые, красный,
белый, седые, голубооблачное - цвета которые можно предположить:
зелёные ели, чёрные вороны, вероятнее всего белый овен в традиционном
восприятии агнца, голубое озеро, зеленоватая струя влаги,
такого же видимо, цвета русалка, жемчуг-зубки, зеркальный
водоём, зелёные ивы, осинки и т.д.
Кроме того, что палитра достаточно богатая, можно ли заметить
какую-нибудь закономерность в этой гамме цветов. Прежде всего
конфликтность ситуации задаётся чёрно-белым контрастом второй
строки ("вороны овна заели"), продолженное зелёным
цветом жизни. Без особого труда можно заметить, что "дело
красивых" происходит среди зелени растений и голубизны
воды. Эти же цвета "маркируют" и Юнону, русалку,
которая в этих цветах, как рыба в воде.
На этом фоне особо контрастен единственный раз вспыхивающий
цвет - красный ребёнок. Красный цвет как известно является
дополнительным, ровно противоположным зелёному цвету. Весьма
примечательна в стихотворении как маркировка цветом всех участвующих
в событии сил, так и диалектика их цвета. Характерен металлический
в этом смысле: дреколья, вилы, косы, цвет земных сил, обращающихся
в дым, как выстрела: "раз-два-пли!", так и "век
бессильных как дым".
И, наконец, ещё одна особенность цветоупотребления в "Любовнике
Юноны". Цвет в финале вочеловечивается, воплощается и
материализуется, как и в трагических седых плечах матери,
так и в виде восходящей холодной отдаляющейся, отторгающейся
Юноны - голубооблачного дива.
И вместе с тем как зыбко, дымчато это воплощение. Как оно
играет на происшедшее.
Обобщая сказанное можно сделать вывод, что палитра "Любовника
Юноны" полихромна, цвет в стихотворении функционален,
содержателен. Гамма цветов, если искать аналогий в живописи,
родственна русской литературе.
В отличие от "Любовника Юноны", "Романс о луне,
луне" монохромен. Все цветовые характеристики относятся
почти исключительно луне, а потому представляют собой различные
оттенки (различный материальный носитель цвета) белого: шаль
из жасмина, груди из твёрдого олова, браслеты и кольца белые,
белизна крахмальная.
Можно предположить, что монохромность диктуется ночью, которой
происходит событие. Однако с наступлением рассвета цвет и
вовсе исчезает и единственная казалось бы цветовая характеристика
"бронза", вместе со следующим именным определением
"сон" - "цыгане", даёт в большей степени
условно-поэтический, нежели цветовой образ. Можно ли в данном
случае говорить о маркировке цветов? Разумеется при монохромности
можно предположить, что всё, что не белое, то - чёрное. Даже
при таком предположении цвет мальчика мерцает. С одной стороны
- противопоставление с наковальней даёт ему предпочтительно
белый цвет. Затем же - "не наступай на мою белизну крахмальную"
- чёрный. Таинственное серебристое мерцание достигается и
указанным выше различным предметным носителем цвета.
Иными словами можно сказать, что один и тот же цвет разлит
в "Романсе" по различным предметам с различной интенсивностью,
и вместе с тем это не чёрно-белая графика, но, скорее, техника
офорта.
ПРЕДМЕТНЫЙ МИР
Прежде всего следует заметить,
что в двух стихотворениях различна степень предметной насыщенности,
Так, если в "Любовнике Юноны" из общего массива
слов различные формы существительных составляют менее трети,
то в "Романсе о луне, луне" их количество составляет
половину всех слов. Природа этого различия рассмотрена нами
при анализе субъектно-объектных отношений и в самом общем
плане связана с большей динамичностью изображения в "Любовнике
Юноны". В обоих стихотворениях предметный мир до предела
конкретен, почти напрочь отсутствуют абстрактные существительные.
Предметный мир "Любовника Юноны" это прежде всего
герои, данные глазами друг друга, это природа, их окружающая,
и, наконец, при рефренном характере, одна перемежающаяся с
этим миром линия, относящаяся к характеристике внешних сил
и развёртывающаяся от наклинаемых болезней: трясуха иль хворость,
хворь и т.д. через "дело мести", противостоящие
"делу красивых", к дрекольям, косам и вилам и в
конце концов к дыму криков и ругани, сквозь которое вздымается
к небу меньше пера Юнона, воплощённая в почти единственное
абстрактное слово - "диво". Опять естетвенен вопрос:
маркированы ли предметно действующие силы стихотворения?
Что касается чужих сил, то вышесказанное достаточно наглядно
показывает характер предметного развития этих сил. Объекты,
которыми в своих высказываниях оперирует Юнона характеризуется
следующим. Первое высказывание, самое короткое по размеру,
предметно насыщено до предела, причем существенным является
их антагонизм. Строфы 3, 7, в которых описывается природа,
видимо должны быть отнесены как к Юноне, так и мальчику, и
вместе с тем, указания принадлежности этого высказывания как
одному из героев, так и авторской речи, здесь не даётся, если
не считать того, что с предшествующим им высказыванием мальчика
связывает форма употребления, начинающаяся обстоятельством
места "здесь".
Но возвращаясь к предметам непосредственных высказываний Юноны,
отметим: постепенно их предметный мир тяготеет к природному:
"смывая грязь" к воде, чистой прекрасной струе влаги,
к каждой вымытой нити. В последних высказываниях Юноны противопоставление
враждебного мира чужой матери и отчуждаемого мальчика - ("она
не устанет по сыну рыдать") и почти беспредметно-усладного
обращения к мальчику ("нам хорошо тут").
И, наконец, предметный мир, связанный с мальчиком. В первом
же высказывании мальчика появляются камни, которые затем в
минуту признания будут опять произнесены теперь уже Юноной
("жемчуг-зубки сделал токарь"...). И в конце концов,
мёртвый он сам и окаменевший в руках матери ("вотще подымать").
Вместе с тем, весьма примечательно что в минуту признаний
мальчик как бы меняется местами с Юноной, обращаясь в её стихию:
"я сделаю всё, что ты хочешь" и затем: "я слёзы
на личице вымою". Дважды повторённая влага - это как
диалектически снятая форма камня (свет плюс свет - тьма!).
Природа в стихотворении играет далеко не декоративную роль.
Из предыдущих размышлений мы видели, что первая природа выступает
здесь как выразительная характеристика состояния героев, и
с другой стороны, как то очистительно высшее, что охраняет
дело красивых. Интересно заметить, что с появлением враждебных
сил первая природа (озеро, волны, травы, купавы, вода, осокорь),
вытесняется всё больше второй - производной природой: вилами,
косами, сетью, дрекольями, наконец - "вперёд образа!"
Когда как первая природа от водоёма, плакучих ив, уменьшается
в устах матери до осинок, а потом роща и вовсе подменяется
предметом второй природы: кроватью, но воплей и стонов. И
в конце концов первая природа восстанавливает свои права -
веки матери бессильны как дым. Апофеозом же первой природы
вздымается к небу голубооблачное диво. Здесь весьма интересным
представляется прочтение "пера" как предмета написания,
быть может безосновательное, и все же не лишённое искуса.
Проанализируем предметно-природный мир "Романса о луне,
луне". Уже из той посылки, что луна спускается к мальчику
в кузницу можно предположить, что природа здесь включена в
действие и является сама действующим лицом. Вместе с тем,
если природа, предметный мир в "Любовнике Юноны"
были в известной степени автономны, то здесь предметный мир,
употреблённый в авторском высказывании не существует сам по
себе, а целиком вплетён в существование главных действующих
лиц. Шаль из жасминов, воздух, движущийся вместе, груди из
твёрдого олова, браслеты и кольца из сердца (серебра?!!),
белизна крахмальная - всё это луна, это её характеристики,
это её аура, её танец. Кони, всадник, барабан рассвета, бронза
и сон - это всё цыгане. И опять мальчик оказывается между
металлом наковальни и крахмалом лунного танца.
И, наконец, природа авторского голоса - мудрая сова, запевшая
на дереве, чей плач с плачем цыган разносит ветер.
Здесь нет антагонизма двух природ, что происходит в кузнице
- продолжается под открытым небом, более того, обе враждующие
стороны и луна, и цыгане принадлежат к одному и тому же природному
лагерю. И кузница, поначалу вместившая в себя танец луны,
вмещает затем и плач, и крики, и трагедию цыган. Градиент
между внешним миром и кузницей, таким образом, лежит в области
пространственных, а не предметных отношений.
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОСТЬ И ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ
Разумеется, нельзя говорить
об абсолютном противопоставлении этих двух понятий, поскольку
речь идёт о поэзии, которая и выразительна, и изобразительна
одновременно. Но, вместе с тем, о превалировании одной из
этих сторон художественного образа при сравнении двух взятых
произведений можно говорить. Так, при первом и наиболее общем
приближении можно заметить, что в "Любовнике Юноны"
автор говорит от лица участников события, как бы изнутри происходящего
за исключением двух последних строф, иными словами, автор
выражает происходящее через высказывания героев. В "Романсе"
же автор изображает происходящее, иными словами, точка зрения
автора здесь внешняя по отношению к участникам происходящего.
Характерно и соотношение частей речи в этих двух произведениях.
При приблизительно равной (+/- 10%) доле прилагательных в
общем массиве слов, доля глаголов различных форм уже разнится:
в "Любовнике" они составляют шестую часть, в "Романсе"
- четвертую часть всех слов. Еще более контрастно соотношение
существительных: соответственно треть и половина. Если последнее
обстоятельство можно истолковывать так, что изобразительный,
объектный мир "Романса" гуще, в некотором смысле
статуарней чем в "Любовнике", то первое обстоятельство
требует предварителього анализа вида употребляемых глаголов.
В "Любовнике" глаголы в основной массе переходного
вида, т.е. направленные на объект и на каждые два существительных
приходится приблизительно по одному из них.
Интересно, что модальные глаголы (хочешь, хочет) встречаются
лишь в высказываниях мальчика и матери. Характерны глаголы
высказываний Юноны. Вначале это побудительный глагол множественного
числа ("бежим!"). Затем, говоря о матери, Юнона
употребляет отрицательную форму ("не устанет.... проклинать").
Эта же отрицательная форма переносится и в начало следующего
её высказывания, уже обращенного к мальчику ("не понимаешь")
- (см. различие времён этих двух отрицательных форм!). И опять
побудительное отношение к мальчику, которое через ряд уступительно-условных
конструкций ("видишь... придёшь и будут бранить"),
находит выход в новом совместном действии ("вымоем").
Следующий за этим ряд глаголов, при внешнем единстве Юноны
и мальчика становятся всё безотносительней к мальчику, всё
анонимней (от "сделал токарь", через новое "не
устанет рыдать" к "идут, идут").
Что касается глагольного ряда речи мальчика, то он в основном
ограничен 12 строфой и в нём нет ни одного "совместного"
глагола, и даже "вымоем" Юноны превращается в покорно-подчиненное
"вымою" (ед. число) мальчика.
Значительно богаче ряд глаголов матери. И в нём наблюдается
определённая упорядоченность. В 4 строфе глаголы ("стал",
"взяла бы") относятся к мальчику. 14 строфа - образец
воплощения сумятицы и расчётливости действий ("веду"
- мать, "встретьте" - внешние силы, "завобила"
- Юнона). На Юнону направлены стрелы гнева матери. Характерен
в отличие от мальчика обобщающий глагол матери ("делу
красивых" - 17 строфа. Интересна по глагольному строению
19 строфа. Побуждение матери "идите" реализуется
через всё более анонимный механизм ("да не дрогнет"
- "так хочет дело мести"). Не таков ли всегда механизм
"вперёд образа"?!
"Сюда идите" 20 строфы вновь даёт понять, что это
дело матери, ведь через нагнетаемый ряд глаголов 21 строфы,
относящихся к поведению Юноны на земле раздаётся команда единственного
числа "коли!" и "пли!"
Говоря вообще, и в речи Юноны и в речи матери всего по разу
встречаются глаголы первого лица, иными словами чисто субъективные
глаголы - у Юноны это глагол "смою" на самом пике
совращения, у матери - "веду" когда родился замысел
"в вилы косами" встретить Юнону. У мальчика таких
глаголов два - "сделаю" и "вымою" в знак
согласия и подчинения воле Юноны.
Говоря далее об изобразительности и выразительности, следует
рассмотреть и соответствующий ряд прилагательных или вернее
различного рода определений. Их в "Любовнике" около
9 процентов от всего массива слов. Подавляющее их количество
приходится на описание Юноны: здесь чрезвычайно характерный
своей традиционностью небольшой ряд, принадлежащий мальчику
("милая, прекрасная, родная, родимая"), ряд, позволяющий
истолковывать поведение матери в некоторой степени как "подмененной
Юноной" матери. Не отсюда ли и отчаянное проклятье матери
"пусть хворью покроются вечные груди!" с
оттенком самопроклятия, проклятия не только шлюшного, но и
материнского начала?
Юнона по матери и гордая, и груди её вечные, и дело их с мальчиком
- дело красивых. В 21 строфе, в снятом виде повторяющей всё
что произошло, в интересующем нас ряду происходит последняя
попытка разъять это дело красивых на любимого, кроткого и
тихого (3 строфа) сына - ("он жалобно просил её...")
и на Юнону, которая теперь уже просто, "хищно озираясь",
скрывается. Да безуспешно. "И хоть грех убивать",
но "там где их стонов и воплей кровать, нужно!"
И вот уже неразъятому противопоставляется множество ("дружно
коли!"). (Богатство окружения матери, ее природа и развитие).
(Замена прилагательных обстоятельствами образа действия т.е
пристр. действ. хар-ра).
"Партия" Юноны значительно беднее в определениях.
Божество есть божество, надлежит описывать его, а не ему.
Она лишь замечает, что сама "чиста и прекрасна"
и дважды характеризует мальчика "красный ребёнок"
и "ты бел и нежен".
Эту разноречивость можно истолковывать и как чрезвычайное
внимание к изменениям внешности мальчика, но равно как и безразличие,
когда сравнение "ты бел и нежен как этот осокорь"
- даётся пусть даже в смысле смытости, поверхности, но как
просто род комплимента.
И, наконец, ещё одна особенность употребления определений
в "Любовнике". По мере развития стихотворения традиционные
поначалу прилагательные (милая, любимый, золотые, белые, прекрасная,
родная и т.д.) впоследствии приобретают структурную значимость
и в конечных двух авторских строках на них падает основная
смысловая нагрузка ("бедная мать, к плечам прижала седым,
мёртв он", веки бессильны, высокомерна и красива,
меньше пера, голубооблачное диво"). Эта метаморфоза перемещает
акценты с первоначального "кто" и "что"
они? на последующее "какие" они? т.е. субстанциональность
уступает место становлению, и воистину явление становится
явлением сущности, как можно было бы сказать "явление
Юноны земле".
"ФИЛЬТР ОЩУЩЕНИЙ"
В рассматриваемом аспекте любопытно
проанализировать какие ощущения акцентируются в герое в пределах
текста и какие этим самым предполагается продуцировать в читателе.
Прежде всего поскольку "Любовник Юноны" дан в основном
в диалогах, то ориентация его на слуховое восприятие в художественном
пространстве происходящего, как говорится, очевидно. И это
не игра слов, но в данном случае разделенные автором пространства
героев и читателей. Они говорят, мы - "держим картинку".
И с другой стороны - они видят всю картину происходящего,
мы же - о ней можем лишь догадываться по их высказываниям.
Но вернемся к ощущениям. Есть ли приоритеты в ощущениях героев
трагедии? О том, что слух героев постоянно напряжён мы сказали
и тонкости происходящего диалога рече-слухового общения будут
рассмотрены отдельно. Заметим лишь, что слух, пожалуй, самое
чувственное из человеческих ощущений, вспомните лишь музыку.
"Бежим дитя" - моторное побуждение, связанное с
ощущением тела, самое "тварное" из человеческих
ощущений. Божество влечёт к стихии тварности ("где вороны
овна заели"). "Тётенька,тише!" - это буквальное
замешательство чувств, "тише" - это и не "громко",
"тише" - это и медленней. И последующий ряд ощущений
мальчика: от осязательно-зрительного "здесь камни"
и через "здесь больно", ко всё более неуловимому
"мне трудно и выше". Есть ли орган чувств, ощущающий
это кроме человеческого сердца и духа? Вот куда несёт силовая
линия мальчика. Всему ряду испытанных ощущений есть удивительное
разрешение ("здесь озеро блещет и волнами плещет")
которое и эквивалент и контраст (в нём и движение и покой,
его можно и видеть, и слышать, и оно - природа).
Следующее за этим причитание матери - это безответственность
в чистом виде ("он кроток и тих") - не самое ли
это трагическое и страшное для человека, что мать отчаянно
пожелает сыну трясуху...
Эта анонимность матери и в следующем высказывании Юноны. Юнона
не видит матери, коль скоро дважды спрашивает "Кто это
там?" Но тем, что эта анонимность не исключается в зоне
слуха, то она приобретает человеческую, диалогическою окраску.
Юнона может слышать проклятия матери.
6 строфа многоточий логична как отсутствие всяких ощущений
смятенного мальчика.
"Здесь золотые растут травы и белые купавы" - раздолье
зрению и может быть единственный раз можно ощутить запах высокого
луга. Движение кончилось, осталось соединение неба с землёй.
Следующий диалог Юноны и мальчика происходит под знаком телесности
- осязаний ("зачем ты снимаешь?.. смою я грязь в воде
погружая, снимай, зачем ты щекочешь? слёзы на личице вымою").
Чрезвычайно знаменательно перемещение Юноной этой осязательности
в область зрения ("видишь и я чиста, прекрасна, как влаги
струя"). Зрение быть может самое разумное (не отсюда
ли умозрительность) из человеческих ощущений, наиболее отчуждённое,
инструментальное, и не здесь ли зреет холод Юноны совратительницы,
видящей всё - и телесность, как картинку ("чьи зубки-жемчуг
сделал токарь"), и мальчика как осокорь ("ты бел
и нежен").
Следующие слова матери, дважды прерываемые высказываниями
Юноны, начинаются с некоторых побуждений ("сюда, сюда,
куда веду"). Но это побуждение, как уже говорилось, вывернуто
в пространственном отношении. "В вилы, и косами встретьте"
- это осязание за осязание - отмщение за тварность, за телесность
и дальше по нарастающей от функциональности до органики: ("пусть
хворью покроются вечные груди").
Упорное непризнание Юноны в следующем этому: "Кто это
там?" Картинное озеро вмещает в себя всё, что творится.
Оно теперь после угроз Юноны ("она не устанет по сыну
рыдать") не водоём ли её слёз, зеркальный в своей отчуждённости?
Опять и эквивалент, и контраст, опять единство противоположностей
("где зеркальный водоём весь сокрыт в плакучих ивах"...).
Последнее высказывание Юноны - синкретично и самодовлеюще
(от смешанного - "то к нам уже идут", к "нам
хорошо тут".
А мать движется, движется и побуждает к движению все эти вилы,
дреколья, наконец, образа. И вот она, проработаннейшая как
стоп-кадр картинка "между осинок в роще в тени".
И обратная прокрутка: движение, бег Юноны с мальчиком, осязание
пыли пальцами, голос мальчика, просящего идти потише, и отчуждающе
ясная зрительная картинка - "в роще ближней хищно озираясь
скрылась". Парад ощущений, их эволюция от "тварности"
к...
"Вот где их стонов и воплей
кровать" - вот ответ на материнские взывания, разрешение
её монолога, вот вожделеющий ответа слух и последняя ответная
телесность: "дрекольями дружно коли!"
И вот отмщенье - людская статуарность - телесность изваяния:"сына
целует бедная мать, к плечам прижала седым. Но мёртв он. Вотще
подымать, веки бессильны как дым". Век - не подымешь,
поскольку это не картина, такое не зрят...
Картина же, сквозь человеческое, презревшее диалогичность
руганью и криком "ура", вздымается вопреки этой
статуарности голубооблачным дивом. В движении пришедшая уходит
движением, подкрепленным длительной формой глагола.
Рассмотрим в таком же порядке
"Романс" и напомним, что существительных в "Романсе"
около половины от всех слов, глаголы составляют четверть,
и прилагательные около десяти процентов.
Первый же глагол (viene) - пришла, относит начало действия
к прошлому, т.е. предполагает уже какую-то временную дистанцию
от происходящего, его изначальную изобразительность. Половина
глаголов "Романса" - это глаголы обозначающие движение
(viene, baila, acercaba, vengan и т.д.). Взгляд автора замечает
и передаёт всё его разнообразие, все его градации, и в первой
строфе он может быть идентифицирован с мальчиком. Это движение
проникает во все клеточки "Романса" как единое дыхание
и даже если попытаться разграничить глагольные ряды мальчика
и луны, то трудно определить, где начинается и кончается это
движение, к кому оно относится.
Так, первое обращение мальчика:"Беги, луна, луна, луна!",
оно так и остается действием в потенции, условным движением,
жаждуемым мальчиком, но так и не предпринятым луной. Условны
и следующие глагольные конструкции мальчика: "Если придут
цыгане, сделают из твоего сердца браслеты") отнесённые
к неопределённому будущему. Надо помнить, что мальчик с самого
начала глядит, он зритель танца луны и эфемерное - танец луны
- становится наиболее реальным, наиболее изобразительным.
И вместе с тем, что изобразительного можно сказать о мальчике,
кроме условного будущего ("тебя найдут на наковальне
с глазками закрытыми")? Здесь реальное и иллюзорное как
бы меняются местами и характеристиками, взаимно отражаясь
друг в друге. Мальчик характеризует луну, луна мальчика.
Этот же приём отражённых действий, приём косвенного изображения
или же своего рода изобразительной выразительности, развивается
и в последующих строфах. "Всадник приближался, играя
на барабане рассвета". Это не цыгане, это условный знак
приближения ожидаемого, равно как и пение совы, когда цыгане
вышли из олив. Запела сова - это и знак случившейся трагедии
- это и звук уходящий ввысь, это и изображение тревоги перерождающейся
в горе цыган (см. подробнее в разделе "Образный строй
и композиция").
Характерен в этом смысле ряд определений "Романса".
Чистых прилагательных в "Романсе" - минимальное
количество, и все они (duros, blancos и др.) относятся к луне.
В "Романсе" самым телесным, материальным существом
оказывается луна. Основное же количество прилагательных отглагольные
и именные, иными словами, и формы частей речи, свободно перетекают
друг в друга, подкрепляя единое движение.
Наконец
о "фильтре ощущений".
Сразу же по приходе луны задаётся определённая зрительская
двукратным "ребёнок на неё глядит, глядит", закреплённое
следующим: "ребёнок стал глядящим" ("esta mirando")
*.
Разнообразная материя луны столь же разнообразно подмечена
зрением мальчика и в целом можно сказать, что первая строфа
проходит под знаком зрения. И вместе с тем, начиная с диалогов
луны и мальчика, которые, впрочем, и остаются вряду зрительных
ощущений, подспудно пробивается слух ("я уже чувствую
их коней").
Слуховое ощущение закрепляется косвенным образом и во второй
строфе ("играя на барабане рассвета") и после того,
как глаза мальчика закрыты, оно постепенно начинает превалировать
на фоне непрекращающегося (кроме мальчика) движения. Постепенность
эта в том, что чётких границ смены зрения на слух нет.
Цыгане (бронза и сон!) выходят из олив и это можно увидеть.
Но затем поёт сова, ах, как она поёт на дереве и видно, как
луна идёт по небу с ребёнком за руку.
А в кузнице плачут, вскрикивая (их только слышно, они лишь
в этом звуке!) цыгане.
И, наконец, всё синтезирующий в себе и одновременной своей
пустотой сводящий на нет и звук и вид и движение - ветер -
и свеча, и парус, символ, несущий в себе нерасчленимость изобразительности
и выразительности.
И ещё одна характеристика в той или иной степени выявляющая
соотношение изобразительности и выразительности в этих двух
произведениях. Если в "Любовнике Юноны" общее число
вопросительных и восклицательных предложений (тяготеющих к
выразительности) несколько превышает количество повествовательных
(тяготеющих к изобразительности) предложений, то в "Романсе
о луне, луне" повествовательных предложений вдвое больше,
чем восклицательных.
Но это уже синтаксический строй.
СИНТАКСИЧЕСКИЙ СТРОЙ
Итак, в "Любовнике" восклицательные и вопросительные
предложения преобладают над повествовательными. Причём вопросов
и восклицаний приблизительно равное количество. Если характеризовать
типы предложений по принадлежности героям, то получается следующая
картина. Основное количество восклицаний принадлежит матери.
Значительно меньше и приблизительно равно количество восклицательных
предложений у сына и Юноны.
В структуре повествовательных предложений примерный паритет
матери и Юноны, а также автора. Вопрошает больше всех Юнона
и по два вопроса задают мать и мальчик. Удивительная симметрия!
Если подвергнуть синтаксическому анализу блоки сил, то вкратце
можно сказать следующее.
Ряд высказываний Юноны начинается с восклицания, переходящего
в придаточное места, тем самым как бы с самого начала задавая
условную отстранённую значимость происходящего для Юноны,
и кончается вопросом:"мальчик, нам хорошо тут?",
где "место" приобретает в системе значимостей главенствующее
место.
Метаморфоза сомнения, сомнение метаморфозы, когда герой ли
играет в роль или же роль овладевает героем.
Синтаксис Юноны, движущийся по этой направляющей довольно
богат. Интересно, что это богатство проявляется лишь в соблазняющих
высказываниях, обращённых к мальчику, они как бы соблазняют
его и прекрасно построенным синтаксисом. Здесь и разнообразные
сложноподчиненные конструкции с многозначными придаточными,
и синтаксическая инверсия, когда прекрасные качества подаются
вперёд владельца этих качеств и т.п. И насколько бедно и определенно
двукратное выскаывание Юноны относимое к матери.
Что касается самой матери, то градиент её синтаксиса прямо
противоположен, начинаясь с вопроса и кончаясь восклицанием.
Если вопросы Юноны были отнесены к матери мальчика, то вопросы
матери касаются только сына, по отношению к Юноне её высказывания
более чем категоричны от начала и до конца. Это пулемётная
очередь восклицательных знаков прерываемая лишь картинами,
где мать видит Юнону вместе с сыном (строфы 14, 17, 20, 21).
Соответственно этому распределена и синтаксическая сложность
высказываний матери. Наиболее сложные конструкции в отношении
матери к сыну (строфа 4) и наименее - вплоть до синтаксических
небрежностей в отношении матери к Юноне: ("сразу и дружно
дрекольями дружно коли! А вы: раз, два, три - пли!" Это
уже готовые, отлитые веками синтаксические формы.
Просты в синтаксическом отношении высказывания мальчика. Пожалуй,
за исключением первого предложения (строфа 2), подкрепляющего
синтаксическим оформлением смятение мальчика (посредством
многозначного истолкования синтаксиса предложения:и как сложноподчинённого
с придаточным причины и как ряд однородных назывных предложений,
с обращением) другие его высказывания упрощаются по форме.
Между тем характерно чередование восклицаний и вопросов в
строфах 8 и 12. Если в первом случае мальчик ещё во власти
вопроса ("зачем ты снимаешь?"), который и диктует
восклицание ("не надо, не надо, родная!"), то во
втором решимость ("я сделаю всё что ты хочешь!")
господствует над последующим эхообразным вопросом ("зачем
ты щекочешь?") и последнее отрицание смягчается как повествовательностью
предложения, так и его синтаксической неопределенностью: ("Не
надо, родимая, я слёзы на личице вымою" может быть прочитано
и как "не надо родимая, ибо я слёзы на личице вымою"
и как "не надо родимая, тогда я слёзы на личице вымою"
и как "не надо родимая, и я слёзы на личице вымою".
Подобная многозначность синтаксических конструкций достаточно
характерное для "Любовника Юноны" явление и создаётся
она, как можно было увидеть, напластованием одних синтаксических
форм на другие, их сочетанием в пределах одного высказывания,
взаимозаменяемостью различных членов предложения, частым употреблением
"стяженных" конструкций с отсутствием опорных элементов,
а также синтаксическими инверсиями.
К примеру, многое из указанного можно увидеть и в двух последних,
"авторских" строфах. "Но мёртв он. Вотще подымать.
Веки бессильны как дым." Как истолковывать это предложение?
Что вобще подымать? Сына, или веки, бессильные, как дым? Или
же безотносительно к предыдущему "веки бессильны как
дым"? Видимо, правда в многозначности этой синтаксической
конструкции и в её удивительном соответствии оформленному
ею внутреннему содержанию. Это же удивительное синтаксическое
оформление наглядно и в последней строфе почти сплошь состоящем
из сравнений Юноны. Но разве чувствуется хоть в какой-то степени
перебор: "А сквозь ругань, крик ура, высокомерна и красива,
к небу вздымалась, меньше пера, голуооблачное диво".
На 4 строки 3 строки сравнений: высокомерна и красива, меньше
пера, голубооблачное. Первые два, кроме того, что выражены
краткими прилагательными (причём высокомерна с вариантом прочтения
"мерима высотой"), употреблены в женском роде и
предполагают подлежащее женского рода (наслоение).
"Меньше пера" - сравнение, построенное совершенно
из других элементов (полифункциональность), и наконец, апофеоз
определений - двойое прилагательное "голубооблачное".
Так создается многообразное и неуловимое диво - финал инверсии
- надсловесная Юнона.
Первое же отличие "Романса"
- полное отсутствие вопросов и минимальное количество восклицаний.
Причём, восклицательный знак поставлен в стихотворении лишь
однажды, когда "запела сова, ах, как запела на дереве!"
Обращения мальчика к луне: "беги луна, луна, луна",
равно как и обратные обращения восклицательными знаками не
обозначены, хотя и могут быть отнесены к восклицаниям.
Итак, "Романс" в основном повествует. Повествует
ровно, безо всякой синтаксической вычурности и излишества.
Предложения в "Романсе" в основном простые, строго
укладываются в определённое количество строк. И вместе с тем,
несмотря на внешнюю похожесть определённых конструкций они
почти не повторяются и очень разнообразны.
Что касается блоков сил, то особых синтаксических отличий
в их изображении нет. Напротив, имеется намеренная внешняя
схожесть в построениях автора, описывающего различные действующие
стороны. Так, к примеру, внешне однотипные конструкции:
El nino la mira, mira, el
nino la esta mirando.
El aire la vela, vela, el aire la esta velando.
и т.п. Из формообразующее значение
рассматривается в "Композиции и образном строе".
В простых распространённых предложениях разнообразно используется
инверсия. Так, в первом же предложении первая строка "луна
пришла в кузню" своим построением предполагает вопрос
"зачем?", однако вторая строка оказывается ответом
на вопрос "в чём?" и относится к определению луны
"в своей шали из жасмина". Так, синтаксически оформляется
недосказанность, неопредёленность, таинственность происходящего.
Или следующее движение луны вслед простым предложениям о зачарованном
мальчике: "mueve la luna sus brazos", даётся в движение
воздуха, чтобы только затем "y ensena lubrica u pura
sus senos" и стыдливо, исключительно посредством синтаксической
перестройки, "показала влажные и чистые свои груди из
твердого олова". И здесь, как в "Любовнике",
не чувствуется перебора определений. Паратаксическая связь
делает всё это изначально воздушным, и в то же время таинственно
звонким, как звук кастаньет.
Следующий за этим диалог ребенка и луны построен из внешне
неизменных однотипных паралельных конструкций (мальчик: "беги
луна, луна, луна" и т.д., луна: "ребёнок, оставь
меня" и т.д.) и вместе с тем сквозь эти конструкции движется
единая направляющая времени, которая делает каждую из параллельных
форм неповторимой. Так первое высказывание ребенка: "беги
луна, луна, луна" кончается точкой, затем лишь дается
сложноподчиненное предложение с придаточным условным. Причём
расположение подлежащего в придаточном делает предложение
в максимальной степени гипотетичным. Ответ луны перемещает
эту гипотетичность во временную область: "когда придут
цыгане..." И, наконец, второе восклицание мальчика уже
объединено с последующим сложноподчиненным предложением с
придаточным следствия, и появление цыган перемещается в область
реальности: "беги луна, луна, луна, ибо я чувствую их
коней".
Так по синтаксису движется время. Параллельно по этому же
синтаксису движутся градиенты имматерилизации луны (от "браслетов
и колец белых" к неприкасаемой "белизне крахмальной")
и материализации цыган, как бы переливая вещественность наподобие
песочных часов.
Синтаксический разбор двух высказываний луны позволяет так
же заметить, что при внешней однотипности начала ("nino
dejame...") обе конструкции значительно разнятся. Первое
высказывание начинается предложением "Nino, dejame que
baile" - "Ребёнок, оставь меня потанцевать".
Далее предложение о мальчике (см. выше). Второе же высказывание
едино по содержанию и синтаксически оформлено одним сложноподчиненным
предложением: "ребёнок, оставь меня, не наступай на мою
белизну крахмальную".
Всё происходящее в дальнейшем как бы переведено в одну временную
плоскость использованием в начале и в конце "рамочных
конструкций", содержащих деепричастный оборот: "Всадник
приближался, играя на барабане рассвета" и "В кузнице
плакали, вскрикивая, цыгане". Соответственно, к этим
рамкам тяготеют два содержательных поля, многократно отражаемых
друг в друге синтаксически. Остановимся лишь на синтаксисе.
Так, "в кузнице ребёнок с глазами закрытыми" и "головы
подняты, глаза полуприкрытые" (цыган) - это действительно
смысловое отражение, оформленное разным синтаксисом. Или другая
параллель:
Por el olivar venian bronce
y sueno, los gitanos.
Por el cielo va la luna, con un nino de la mano.
В синтаксическом плане это
то, и в то же время на то. При внешней однотипности конструкции
("кто-то такой-то идёт где-то") изменения построения
фразы играют смыслообразующую роль. В первом случае отображена
последовательность появления из-за ряда "кулисных"
определяющих (сначала "где?", потом "какие?"
и, наконец, "кто?") цыган. Во втором же случае трагизм
гол и определён как синтаксис (ориентирующее "где?",
затем "кто?" и "какая?" - с "кем?"),
луна, уносящая ребёнка.
И, наконец, заключительная фраза, окольцовывающая как вторую
часть романса: "el aire la vela, vela ", так и романс
в целом своим синтаксическим параллелизмом с "el nino
la mira, mira " с луной пришедшей извне и ушедшей во
вне этой рамы.
ЭПИКА, ДРАМА, ЛИРИКА
Структуру поэтического высказывания
в самом общем виде можно представить следующим образом. С
одной стороны субъект поэзии - "я" поэта, с другой
стороны объект поэзии и, наконец, средства отображения субъектом
поэзии её объекта. Видовые отличия поэтических произведений,
видимо, коренятся в том, что находится на месте объекта. Отношение
"я" - "они", когда под "они"
понимается внешняя "событийная" по Гегелю объектность
является основанием эпоса, отношение "я" - "ты"
- лежит в основе драматической поэзии и характеризуеся действием,
и, наконец, отношение - "я" - "я" мы отнесём
во владения лирики и напомним, что Гегель называет его самодовлеющим
"высказыванием".
Разумеется, это - схема, лишь контуром обозначающая историческое
движение поэтического восприятия, идущее параллельно духовному
развитию человечества, но попытаемся, придерживаясь этой схемы,
проанализировать видовую принадлежность обоих рассматриваемых
произведений.
На первый, самый приблизительный взгляд "Любовник Юноны"
кажется драматическим действием (составлен сплошь из диалогов,
конфликтов и т.п.), а "Романс" своего рода эпической,
событийной миниатюрой (эпическая отстранённость автора, внешность
события и т.п.). Присмотримся повнимательней.
Прежде всего, вместе с наличием в "Любовнике" таких
основополагающих начал драматического произведения как сюжетность,
конфликтность, членение на сценические эпизоды, почти сплошная
цепь высказываний, имеются и элементы повествовательного начала.
Причём, надо заметить, что эти элементы двойственной природы.
Таковы строфы 3, 7, которые могут быть прочитаны и как "скрепы"
авторского повествования или же описательные ремарки и вместе
с тем как высказывания мальчика. Двойственны по своей природе
(вспомним изобразительность и выразительность) и многие высказывания
героев (вторая часть строфы 4, строфа 17 и, особенно, большая
часть строфы 21).
Эпичность матери в большей части проистекает видимо из её
отстранённости от "дела красивых", ведь в отношениях
и в диалогах Юноны и мальчика нет никакой объектности, вещности.
И ещё одна характерная особенность, оформленная жанровым различием
- отношение матери к сыну начинается с диалогического обращения
и затем приобретает эпическую отстранённость, которая выдерживается
в отмеченных строфах, когда дело касается союза мальчика и
Юноны. Отношение же матери отдельно к Юноне предельно конфликтно,
драматично (строфы 14, 15). То, что постепенно распространяется
на их единство, ещё более внешними, союзными матери анонимными
силами приводится в исполнение с противоположным к исходному
знаком и приводит к трагической развязке.
Эта трагическая развязка (строфы 22, 23) преподнесена событийно,
эпически, но и здесь её можно прочитать как функцию античного
хора, оставаясь в пределах драматического истолкования произведения.
Собственно говоря, эти же жанровые направляющие подтверждаются
и при детальном рассмотрении отношений типа "я - ты",
"я - они", складывающихся между героями произведения.
Для диалога Юноны и мальчика характерно прямое обращение друг
к другу, отношение, раскрывающее формулу "я - ты"
("бежим дитя..., тётенька милая, тётенька, тише"...,
и т.д.). Строфа 4 характерна тем, что мать поначалу прямо
обращается к сыну в этой же сфере, так сказать, на этой же
волне "я - ты" ("о сын мой любимый, сыноня"...),
но вынуждена объектировать отношение, отчуждить сына ("он
кроток и тих"...).
5 строфа закрепляет отчуждение матери обращением Юноны к мальчику,
но о его матери ("кто это там? Опять твоя мать?
Она"... и т.д.).
Следующее изменение в структуре диалога Юноны и мальчика -
появление и развитие самодовлеющего отношения "я - я"
в высказываниях Юноны ("смою я грязь... Видишь, и я чиста,
прекрасна, как влаги струя"), которое затем незаметно
поглощает "ты" мальчика в "мы" ("домой
ты придешь и нас будут бранить...").
Трогательна безуспешная попытка мальчика вырваться из этого
"мы" ("я сделаю все, что ты хочешь") и
его одинокое "я" ("я" слезы на личице
вымою"), одиночество которого на мгновение становится
чужим, внешним, объектированным для Юноны, как бы на миг показав
его фатальность ("чьи жемчуг-зубки сделал токарь...").
Но потом диалог восстанавливается в отношении "я - ты"
и усиленно переводится Юноной в сферу "мы" (строфа
18).
14 строфа вводит ещё одно отношение - отношение матери к анонимным
внешним силам, которые никак не общаются с Юноной и мальчиком.
К этим силам мы ещё вернёмся, заметим лишь, что мать объективирует
для них и Юнону и сына.
В 15 строфе мать ещё раз пытается включиться "на волну"
Юноны. Но эта попытка - попытка отчаяния, это крик ("
о проклята, проклята буди!..").
Отчуждённая от общения мать, вытесненная в сферу "они",
приобретает свой круг общения. С точки зрения нашей схематики
отношение матери к этим "друзьям" чрезвычайно интересно.
Для матери они - "вы" ("с дрекольем идите все...",
"сюда идите" и т.д.). В этом "вы" всё
же остаётся какой-то оттенок чуждости, отстранённости. Не
потому ли мать, общаясь с ними, в то же время является для
них неким рассказчиком, повествователем отношений Юноны и
мальчика (строфы 17, 21). Эта чуждость анонимных сил выражается
в последних строфах стихотворения, когда отношения матери
и сына возобновились ценой смерти - в вещной, объективной
сфере, в сфере "они" ( "сына целует бедная
мать...") и когда затихли голоса общавшихся - и раздался
голос этих внешних сил - безадресный и бесмысленный ("ругань,
крик "ура!"..), сквозь который уходила чужая, объектированная
Юнона.
Рассмотрим теперь "Романс". Предварительно заметим,
что в нашу задачу пока не входит выявление следующей из названия
произведения его специфики, как песенно - музыкального жанра
и т.д. Нас больше интересует характер и структура отношений
между героями в свете сказанного в самом начале этой главки.
В отличие от начала "Любовника Юноны" здесь и луна,
и ребёнок находятся для автора поначалу в сфере "они".
Больше того, они в какой-то степени и друг с другом соотносятся
как два объекта, постепенно переходящие на межсубъектные отношения.
Это движение зыбко, как зыбок переход от взгляда автора ко
взгляду мальчика на луну, который как бы передан незаметно
и утверждён в нём (el nino la mira, mira, el nino la esta
mirando) затем, чтобы смотреть на луну, показывающую свои
груди из твёрдого олова. Этот взгляд - первая ниточка, которой
завязывается их субъектное общение, их диалог. Автор передал
полномочия героям и растворился в них.
Диалог луны и ребёнка никак не комментируется, не прерывается.
Напрашивается вопрос: драматический ли это кусок, который
был предварен авторской расстановкой действующих в сцене лиц,
или же обмен репликами в ходе повествования. Разумеется, такая
поляризация условна и преднамеренна. Можно привести по ряду
аргументов в пользу обоих предложений, начиная от количества
строф на каждую из частей и кончая наличием "действия"
уже в структуре "эпики".
Есть в соединении этих двух разножанровых
частей первого действия "Романса" два чрезвычайно
интересных градиента. Если в "эпической" части
луна все больше материализуется, то в драматической части
этот
градиент направлен в протовоположную сторону - в сторону
всё большей имматериализации - от браслетов и колец белых
к белизне
крахмальной **. Линия ребёнка,
в свою очередь, противоположна этой. Эти многократные косвенные
отражения, при ближайшем рассмотрении, также выполняют своей
конфликтностью драматическую функцию, а своей единой последовательностью
функцию своеобразного стержня повествования. Таким образом,
эпика и драма сочетаются в едином контрапункте.
И всё же, продолжая рассматривать каждую "часть"
по законам соответствующего жанра, можно сказать о диалоге
ребёнка и луны следующее. Конфликт как таковой появляется
именно один в первом высказывании ребёнка ("беги луна,
если придут цыгане" и т.д.) Этот конфликт условен, предположителен,
причём его условность закреплена и тем обстоятельством, что
если для автора луна и ребёнок - "они", то цыгане
в свою очередь - "они" для луны и ребёнка и, по
принципу матрёшки, вдвойне удалены от автора.
Причём, диалог, происходящий в плоскости "я-ты"
постоянно соотносит себя с "ними" - цыганами, и
условность конфликта закрепляется неопределённостью конфликтующих
сторон. Мальчик считает цыган враждебными луне ("сделают
из твоего сердца браслеты" и т.д.), луна противополагает
этому взгляду свою точку зрения ("тебя найдут на наковальне
с глазками закрытыми"). И это отражённость противопоставлений
- как бы зеркало, в которое смотрится танцующая и самодовлеющая
луна ("ребёнок, оставь меня, не наступай на мою белизну
крахмальную..."). Последнее высказывание луны не нуждается
ни в ребёнке, ни в цыганах. Оно самодостаточно, как бывает
самодостаточна лишь лирика.
Итак, событие предположено в диалоге и далее под дробь барабана,
как в цирке, оно превращается из возможности в действительность.
Автор вновь присваивает себе полномочия демиурга, поскольку
глаза ребёнка, которыми автор смотрел на происходящее, теперь
уже закрыты. И он, объективируя событие, "как бы уравнивает
всех героев для себя - все - "они": и цыгане, и
луна с ребёнком на руках, и сова и ветер. Объективное отношение,
как известно, отпускает каждому - своё: сове - песнь, луне
- ребёнка, цыганам - плач, и всему свету - ветер, равно с
этим, автор монополизирует всё происходящее своим взглядом:
это ему пела сова, это он видел, как идёт по небу луна с ребёнком,
это он слышал как, вскрикивая, плакали цыгане, это он был
равен всесветному ветру - машущему всем.
Здесь самое время высказать парадоксальную, на первый взгляд,
мысль о том, что и "Любовник Юноны" и "Романс
о луне, луне" - после всего нашего разбора, поляризации,
тем не менее, прежде всего стихотворения лирические. И дело
даже не в наличие или преобладании лирических элементов в
этих произведениях, но в структуре самих этих высказываний,
в их глубине, втором плане.
Вернувшись к общей для обоих стихотворений мифологеме, выскажем
догадку, что она - есть чистая мифологема духа поэта и поэзии.
Вечная тяжба земли и неба за некоснелый дух ребёнка, или,
чуть упрощая конфликт, идеала и быта - не это ли Сцилла и
Харибда поэзии. Можно привести целый ряд опозиций так или
иначе продолжающих этот главный конфликт, на котором-то и
строится поэзия, но постараемся пока остаться в пределах заданных
двух текстов.
Не нами открыто, что поэзия - вечное детство души, и можно
предположить неслучайность борьбы за обладание именно ребёнком
неба и земли. Детская душа поэта - арена происходящей битвы,
а высказанное о душе - лирика. Так, схематично обозначим свою
мысль с тем, чтобы подробно остановиться на ней в связи с
композицией стихотворений и их образным строем.
КОМПОЗИЦИЯ И ОБРАЗНЫЙ СТРОЙ
Подробно рассмотрев жанровые компоненты в предыдущем параграфе,
построим теперь изучение композиции с точки зрения нашего
последнего допущения, истолковывая оба произведения как лирические
высказывания о душе поэта, за которую борются земля и небо.
Для удобства рассмотрения и сравнения двух стихотворений,
разделим общую модель ситуации на несколько своего рода сегментов:
явление небесного существа ребёнку, их отношения, вмешательство
земных сил, результат этого вмешательства. Подчеркнем еще
раз, что это деление условно и преследует исключительно цели
удобства рассмотрения.
В начале этой работы приведены
два стихотворения, чтение которых должно как предшествовать,
так и сопровождать чтение это статьи. Первое требование равносильно
априорному пониманию того факта, что Хлебников и Лорка - столь
совершенно выразившие себя поэтические миры, что даже почти
одинаковая тема преломляется в их поэзии столь совершенно
разным образом. Второе требование - это путь и самой работы,
попытка постижения "первоатомов" этих миров, природы
различия веры и ремесла поэтов. Ведь уже с названий этих стихотворений
начинаются два мира, построенные, что называется, "на
двух разных геометриях".
Говоря предельно кратко, каждая из функций в стихотворении
Хлебникова проистекает из начал множественности и дискретности,
и принципом её организации становится полифонический принцип,
в "Романсе" же Лорки миром движет единая, неделимая
монодия. Можно сказать и так, что если в мире Хлебникова
у каждой вещи, предмета, творения - свой голос, то мир Лорки
весь говорит голосом Лорки, и если в мире отношений Хлебникова
превалирует объект, то у Лорки - субъект.
В предельно обобщённом виде это противоположение во многом
напоминает выводы иного анализа: анализа М.Бахтиным творческого
метода Достоевского и Толстого, и эта аналогия, быть может,
свидетельствует о фундаментальных свойствах как художественного,
так и просто человеческого мышления, тем более, что сама мифологема,
которая положена в основу обоих стихотворений, а именно: явление
небесного существа ребёнку - совращение - вмешательство земных
сил - развязка и оставление небесным существом земли, - это
мифологема не только самой поэзии, но и всего человеческого
бытия с извечной тяжбой неба и земли, духа и тела, идеала
и быта...
Теперь, после этих обобщений, рассмотрим вкратце архитектонику
обоих стихотворений и обратимся к анализу содержательной стороны
двух текстов.
а) явление небесного существа
ребёнку
О смысло- и формообразующей
роли названий мы говорили отдельно, здесь же напомним, что
Юнона в мифологии - помимо того, что считается богиней, опекающей
женщин, является ещё и родовспомогательницей, выводящей ребёнка
на свет, дающей скелет зародышу. Оба значения богини поддерживают
наше предположение о смысле мифологемы. Но рассмотрим поближе
само явление Юноны.
Прежде всего она уже на земле, она уже в неком отношении с
мальчиком, она уже в земном движении, и это движение - побег.
Первые две строки вместе со всем сказанным, чётко обозначают
и наличие и динамику противоборства.
Бежим дитя, бежим за ели,
где вороны овна заели.
В этих строках и предсказуемая из прошлого жертвенная трагичность
и её природа: множественность "вороны" против единичности
"овна". Но так же как невозможно постигнуть ни места,
ни времени происходящего, невозможно распознать истинного
отношения Юноны к мальчику: в нём и множественность, и соединение,
выраженное одним обращением "бежим дитя". Бежать
туда, где происходит трагедия - не это ли первое искушение
дитяти? Дитя, сразу же поставленное в экстремальные условия
принимает их, его сопротивление не отрицательно, оно жалобно.
По существу, всё что сказано доселе - это уже отношение Юноны
и дитя, по этим строкам мы можем лишь догадываться о явлении
Юноны и лишь в 21 строфе, глаза и память матери восстанавливают
само явление. Впрочем, можно ли уверенно говорить, что это
увидено глазами матери? Только разве по обращению к друзьям
с дрекольями. Или же это переходная от чисто персонажных высказываний
к авторскому слову строфа? И, наконец, зачем и почему она
в конце, перед самой развязкой?
Первое предположение может проистечь из того обстоятельства,
что для изложения самой фабулы происшедшего достаточно трёх
последних строф. Тогда все чувства и страсти, выраженные через
диалогические высказывания героев как бы остаются за скобками
и оказывается наглядным лишь структурный и трагический результат
происшедшего. Между спуском с неба и обратным вздыманием Юноны
произошло всё вычлененное, всё человеческое: страсти, любовь,
проклятия, смерть.
Богиня холодно явилась и ушла, а человеческая неразбериха
осталась с тем, чтобы расхлебывать рождённую небом и землёй
трагедию. Что это значит с точки зрения нашей мифологемы,
попытаемся обобщить ниже, поскольку речь пока лишь о явлении.
Другое предположение о месте и речи 21 строфы проистекает
из природы восприятия произведения. Можно предположить, что
эта строфа обобщает предыдущее, как бы в последний раз глазами
матери перепроверяет всё происшедшее перед последней чертой,
после которого возврата назад уже не будет.
И опять следует, несколько отвлечённо, заметить, что возвращается
назад после происшедшего лишь Юнона. Можно выдвинуть ещё ряд
предположений, к примеру, с точки зрения "динамизации",
путём сближения начала и конца и т.д. Но приведённые два крайних
предположения в достаточной мере разведены, чтобы уяснить
себе полифункциональность использованного приёма.
И всё же есть ещё один аспект размещёния самого явления Юноны
перед самой развязкой, о котором нельзя не сказать. Получается
так, что отношения в которых находится Юнона с дитятей, матерью
как бы предшествуют самому её явлению, и как Афродита рождалась
из пены, так и явление Юноны рождает эти земные отношения.
Ведь и дитя, и мать относятся к ней как к реальному, человеческому
существу. Но вот рассматривая пристальней, как же происходит
само явление, мы можем заметить климаксический ряд, опирающийся
исключительно на конечные, поначалу рифмующиеся глаголы, ряд,
который с убыстрением, в равной мере, и имматериализует Юнону.
Она из облаков спустилась
и за руку схватив, бежать пустилась,
коса по ветру развевалась,
и ноги пыли пальцами касались.
Облако, бег, ветер, пыль...
И соответствующий ему ряд градаций "плотскости":
она, рука, коса, пальцы ног. Так что же явилось с неба под
именем Юноны? И мы опять возвращаемся на круги отношений,
предшествовавших или последующих явлению.
Как же построено явление
Луны в "Романсе"?
Луна пришла в кузню
в своей шали из жасминов.
Просто, как ежедневно. Не спустилась,
а пришла. Пришла в закрытое и определённое пространство кузни,
и пришла не зачем-то, а в чём: в своей шали из жасминов. Так
выходят на сцену, когда неподвижные зрители (и здесь дитя),
что называется "встречают по одёжке". Приход луны
лишён причинно-следственных связей, это данность, наличность,
которая лишает фантастичности происходящее и помещает его
сразу же в другую систему координат, в систему логической
реальности.
Мир, в который пришла луна, неподвижен и определён, и именно
в нём будут причины и следствия, а пока лишь луна в своей
шали из жасминов. Это отвлечение двусмысленно и по своему
внутреннему строю. Ведь можно предположить, что шаль из жасминов
на луне - это звёздный небосвод. И вместе с тем не лишено
оснований и другое истолкование образа - луна, в окружении
своей ауры. Но в обоих случаях, луна безоговорочно едина,
и множественность жасминов её шали лишь подчёркивает единичную
самодостаточность луны.
б) отношения ребёнка с небесным
существом
В "Любовнике Юноны",
как указывалось выше, эти отношения начинаются уже в самом
названии. Далее, мы отметили и второе обстоятельство - что
само явление Юноны композиционно происходит позднее возникновения
отношений между Юноной и ребёнком. Это временное смещёние,
придающее большее значение отношениям как таковым, перед фактом
самого явления, побуждает нас акцентировать внимание с одной
стороны на т.н. субъектах этих отношений, и с другой стороны
на структуре и характере самих отношений.
Что касается Юноны, то краткую характеристику мы ей дали,
здесь уместно, сосредоточившись на её отношениях с ребёнком,
добавить следующее. С самого начала её отношение к мальчику
отягощено некой греховностью. Причём нельзя сказать, что эта
греховность проистекает из неё. Она, скорее всего, двойственна,
как двойственна первая строфа - первое её отношение:
Бежим дитя, бежим за ели,
где вороны овна заели.
Когда мы говорили, что жертвенность
задана уже здесь, мы не различали, кто же будет палачём. Между
тем, вороны, заевшие овна - это не только те, с дрекольями.
Вороны, между прочим, существа небесные, иными словами, в
этом их степень родства Юноне ближе, чем к тому мужского рода
множеству с дрекольями ("вороны"!). И с другой стороны,
не объединяют ли их эти вороны, не зеркальны ли они друг другу?
Но это уже другой вопрос.
Вкратце характеризуя ребёнка, достаточно привести последовательный
ряд отношений Юноны к нему: дитя - 1 строфа, ребёнок - 9 строфа,
сын матери - 11 строфа, мальчик - 18 строфа. Как видно из
этого ряда, ребёнок приобретает пол лишь к концу своих отношений
с Юноной.
Теперь о самих отношениях. Побег предшествует всему, но предполагая
определённые отношения из названия, вернее будет сказать,
что грехопадение начинается с побега. И ни этот ли побег придаст
их отношениям изначальную греховость?
Отношения эти, несмотря на наличествующее, диктующее, объединяющее
обращение Юноны - бежим дитя - поначалу если не противоположны,
то во всяком случае противоречивы. Ребёнок, обращаясь к ней,
просит бежать тише. Существенна оппозиционность и предметное
наполнение их первых обращений. Если Юнона говорила хоть о
мёртвой, но живности, ребёнок говорит о живых "больно"
мёртвых камнях. Ребёнок противополагает себя и в обособленности
"мне трудно и выше". Обратим внимание и на то, что
ребёнок называет Юнону тётенькой, тётей. Между прочим, тётя
это и сестра матери.
Далее, в строфе З предыдущее "живое и мёртвое" "существо
и вещёство" объединяются в безличном образе озера. Этот
образ наряду с образом растительности - сквозной в самом совращении
Юноной ребёнка. Они стоят равноценно - "озеро",
что "блещёт и волнами плещёт" и "золотые цветущие
травы и белые купавы". Вода и растения - это единство
существа и вещёства, единство живого и мёртвого, подвижного
и неподвижного, активного и пассивного начал.
Заметим, что отношения Юноны и ребёнка с самого начала прерываются
внешними силами, а именно поначалу матерью. Характер этих
внешних отношений - предмет нашего рассмотрения в следующем
подпункте, здесь же достаточно сказать, что и эти "внешние"
отношения складываются по поводу отношений Юноны и ребёнка
и тоже так или иначе прорисовывают их. Мать о мальчике: "он
кроток и тих" и т.д.
Вместе с тем и отношения Юноны с ребёнком настолько связаны
со внешними отношениями, что вычленить их можно с определённой
долей условности. Разве же не мотив дальнейших действий -
реплика Юноны относительно матери, "она не устанет меня
проклинать" и т.д.
Но вернёмся к самому совращению. Мы говорили о сквозном образе
воды и растений как двух различных начал, осталось сказать,
что тот ряд включает в себя и мужское с женские начала, т.к.
Юнона прямо сравнивает себя со струёй влаги, а ребёнка с осокорем.
Животворность влаги для растения - казалось бы трюизм, но
в контексте этого произведения на противоречивости этой логики
нам предстоит остановиться. При всей хрестоматийно выстроенной
рядоположности различных оппозиционных начал, совращает-то
Юнона. Она и предпринимает эти жеманно-неопределённые действия.
"Прекрасная тётя, зачем ты снимаешь?" Что снимает?
С кого снимает? С ребёнка или с себя? Прямого ответа на эти
вопросы из текста мы не получим. Можно лишь догадываться,
что это одежда! "Всё же снимай. Видишь, и я - чиста,
прекрасна, как влаги струя". Но эта одежда может прочитываться
глубже, как оболочка и, видимо, может быть, даже построен
такой транзитивный ряд: то, чем является одежда по отношению
к телу, тем тело является по отношению к духу. Но правомерен
ли этот ряд - в этом стихотворении?
"Красный ребёнок" - это верх телесности при любом
прочтении слов красный, это в некотором смысле и рождающийся
ребёнок для "прекрасной тёти", это и впрямь ещё
бесполое существо. Но что означают следующие строки: "Смою
я грязь, в воде погружая"? - Приём ли родов, стирку ли
одежды, смыв ли этой телесности, тварности красного ребёнка
и его очищение? В любом случае это освящение должно произойти
по образу, подобию и посредством воды, с оформленной частью
которой "влаги струя", сравнивает себя Юнона. И
всё же струя влаги это не струя воды, это род оксюморона,
в котором соединены почти противоположные понятия: струя и
бесформенно и почти бесплотная, обволакивающая влага (см.звучание
слова). И здесь и женское и мужское начала в самой Юноне,
как в самодостаточном божестве. И его искушает - ещё бесполого
ребёнка. Не отсюда ли и постоянные уравнивания Юноны себя
с мальчиком и в рамках множественного числа "нас будут
бранить, если не вымоем каждую нить", и в строке: "видишь,
и я - чиста, прекрасна..."
Это соединительное "и я" тоже видимо предполагает
изначальную чистоту дитя, ребёнка. Дитя в бесполости своей
самодостаточное божество и совращение его - придание ему пола
оформляет, определяет, ограничивает его, извлекая из мира
озёр, волн, золотых трав и белых купав. И при всех множественно-завлекающих
соединительных числах, Юнона отправит его в будущее после
совращения одного. Не об этом ли нотка зловещёго в адрес не
матери, но самого мальчика: "Домой? а придёшь..."
и далее опять заигрывающее "нас", "мы".
Юнона ищет единства даже в условно-отрицательной форме, согласующейся
с отрицанием ребёнка: "не надо, не надо, родная".
Вымыть каждую нить - это видимо об одежде, но это надо полагать
и узы, и те сети, в которые завобила мальчика Юнона, это те
множественные числа, в которых мальчик отвоёвывает свое грехопадение
- единичность, личность.
Я сделаю всё, что ты хочешь,
тётя, русалка, зачем ты щекочешь?
Не надо, не надо, родимая,
я слёзы на личице вымою.
Ребёнок подчиняется воле всё
также отчуждённой "ты" богини, хотя и не понимает
происходящего. Зато Юнона в происходящем - как рыба в воде,
она превратилась в русалку. Вот ряд её превращении в устах
ребёнка: тётенька милая, прекрасная тётя, родная, русалка,
родимая. Видно как увеличивается степень родства Юноны ребёнку,
тогда как с точки зрения Юноны - божество и мальчик все больше
разъединяются. Так в начале зреет конец...
Противоречивость отношений Юноны и ребёнка хранятся и здесь.
Юнона щекочет, ребёнок вместо того, чтобы смеяться, отвергает
действие Юноны и более того, плачет: "Я слёзы на личице
вымою". Последняя строка из высказываний мальчика оказывается
преодолением влаги влагой. И если с одной стороны кажется,
что влага с которой идентифицирует себя Юнона, овладела ребёнком,
и ребёнок, подчиняясь воле Юноны, предлагает вымыть каждую
нить, готов вымыть слёзы, то с другой стороны он ведь вымывает
именно слёзы с личица, а не "грязь, в воде погружая".
Или может быть, устами младенца глаголет истина и ребёнок
прозревает, что его слёзы - это такая же грязь для Юноны,
которую во имя божества и с помощью божества следует смыть?
Но так или иначе - стремление преодолеть слёзы - что говорится
налицо. И теперь чистая и прекрасная, безгрешная вода будет
замешана на слезах ребёнка. Так личице превращается в личность.
И здесь Юнона начинает обособлять, отъединять от себя ребёнка.
На первый взгляд кажется, что она лишь продолжает любоваться
им и описывать его, но от красного "мясного" ребёнка
теперь в представлении Юноны остаются лишь "жемчуг-зубки",
- род камешков, сделанных токарем, т.е. выточенных на станке
и в следующей, казалось бы, восхищающейся строке: "ты
бел и нежен, как этот осокорь" - не производится ли обесцвечивание,
окончательный смыв и окончательное отъединение, когда множество
золотых трав и белых купав воплощается в едином тополе?
"Жемчуг-зубки", сделанные токарем - это действительно,
штамп-образ, но сколько в нём неуловимого блеска! Совращение,
выявившее в стихии воды "жемчуг-зубки" ребёнка,
параллельная, хрестоматийная ассоциация их с жемчугом слёз,
и наконец, жемчуг как "живой камень", отражающий
первоначальное пространство боли дитяти...
Как токарь сделал эти жемчуг-зубки, так и Юнона, давая обособленность,
пол, личность мальчику делает его всё более и более "овещёствлённым",
неподвижным, статуарным, и движение, чем начиналось их отношение,
приходит в неподвижность, когда всё определилось:
Мальчик, нам хорошо тут?
Мальчик уже окончательно отделён
от Юноны.
Кто это там? Опять твоя мать?
Она не устанет по сыну рыдать?
Юнона, что называется, уже
вышла из игры и последнее её обращение лишь конец заклинания,
заколдовывания обречения мальчика на окончательную неподвижность.
Начинавшееся побегом кончается ожиданием, как и категоричное
побуждение - вопрощающим сомнением.
Итак, из самих высказываний Юноны и ребёнка установить т.с.
"материальную" сторону их отношений весьма трудно.
Ясность вносят лишь внешние, земные силы, а именно мать ребёнка,
чьи высказывания врываются в диалог двух и обнажают, заземляют
эти отношения, сводя их к совращению тела, а не духа, хотя
из анализа диалога можно было видеть, что в первую очередь
происходящее - это проблема духовная. Но каждому, как в зеркале,
дано видеть в другом собственное отражение и если отношение
ребёнка и Юноны это поначалу отражение божества в божестве,
и лишь затем выход, прорыв по обе стороны зеркала. На этом
мы ещё подробно остановимся ниже, но отношение матери к Юноне
- это отражение женщины в женщине. И об этом следующий подпункт.
Теперь же перейдем к рассмотрению отношений небесного существа
и ребёнка в "Романсе".
Прежде всего, заметим, что ни луна, ни ребёнок - субъекты
отношений, не меняют на протяжении всего произведения своего
имени. Луна остаётся луною, ребёнок в "Романсе"
- ребёнком. Отношения их начинаются с того, что ребёнок глядит
на луну, глядит как зачарованный. Неподвижность ребёнка задана
с самого начала. Движется казалось бы неподвижная луна. И
это движение скорее магическое, нежели мифическое явление
Юноны.
Все движения луны, кроме разве что слов её, могут быть истолкованы
с точки зрения реальности, с точки зрения ребёнка. Это - реальность
ребёнка, в которой явление всегда оказывается главнее сущности,
внешнее превалирует над внутренним. Так начинается и танец
луны: сначала приходит в движение воздух и лишь в нём двигает
луна руками. Видимо эти же руки показывают влажные и чистые
груди из твёрдого олова луны, и свет исходивший от неё возвращается
к ней же. Это сосредоточение на луне характерно для взгляда
ребёнка, зачарованно смотрящего на неё так пристально, что
её шаль из жасминов забывается и отпадает сама собою.
Влажные и чистые груди - это единственное, что может быть
отнесено на счёт совращения луной ребёнка, это самое плотское
в действиях луны и вместе с тем эти груди оказываются из твёрдого
олова. Металл и его блеск более сродственен кузнице, в которой
происходит действие и в этом смысле вместе с "совращающимся"
воздухом совращение может быть отнесено ко всей атмосфере
кузницы, а не к ребёнку лично. Не потому ли первое же высказывание
ребёнка полно страха: "беги луна, луна, луна". И
ребёнок не принимает иных отношений. Если в "Любовнике
Юноны" побег диктовался Юноной и был предварением к самим
отношениям, то здесь побег диктуется ребёнком и с самого начала
направлен на прерывание отношения. Начиная с первого высказывания
ребёнка, диалог строится таким образом, под отрицательным
знаком: о "неотношениях" ребёнка и луны и предметом
этих "неотношений" становится поначалу этот самый
побег.
Необходимость побега объясняется следующим предположением
ребёнка, "если придут цыгане, сделают из твоего сердца
браслеты и кольца белые". Так ребёнок замыкает свои отношения
с луной на цыган. И опять почти автоматически начинающийся
период, как и в случае с грудями из твёрдого олова, кончается
магической метафорой: "сделают из сердца браслеты и кольца
белые". Причём, оба указанных раза магия метафоры лежит
в упомянутой таинственной атмосфере кузни, но не в ребёнке.
Интересно, что страх в ребёнке рождают не отношения с луной,
но сама луна (твоё сердце). "Сделать из сердца браслеты
и кольца белые" - это значит убить ради рукотворных украшений,
ради красоты. Вместе с тем, эта красота в обоих случаях вроде
уз - и браслеты, и кольца - это нечто окольцовывающее. Не
так ли сам ребёнок на корню убивает отношения с луной от своего
страха перед этими отношениями, от этой пугающей красоты,
которая и мёртвая - пленит. Браслеты и кольца белые из сердца
- это и скрытый комплимент, танцующей луне, и если кто их
достоин, то кто как не она сама - единственное существо женского
рода? И опять всё лунное возвращается к луне, и опять замыкается
очередной круг.
Ребёнок, оставь меня, дай мне потанцевать.
Так отвечает самодовлеющая луна. Ребёнок в её высказывании
неопределёнен и есть каком-то оттенок раздражения в этом отчуждении
"dejame" - оставь меня. Их стремления прямо противоположны,
их желания противоречивы и поэтому трудно понять - успокаивает
ребёнок или угрожает ему луна, продолжая этот диалог:
Тебя найдут на наковальне
с глазами закрытыми.
Опять та же структура периода:
автологическое начало и метафорический конец. Но там, где
были металлические груди, кольца и браслеты из сердца, теперь
на наковальне ребёнок с закрытыми глазками. Почему на наковальне?
Чтобы перековали, изменили? Или уже перекованного, изменённого
найдут и встретят цыгане? А что означают закрытые глазки?
Сон или смерть? Но во всяком случае, можно заметить, что если
в предыдущих двух периодах речь шла о металлических частях
тела луны: груди, сердце, то здесь ребёнок хоть и на наковальне,
остаётся ребёнком, и по логике движения образа перековать
можно то, что глубже груди и сердца, не неизменное, пусть
и с закрытыми глазками, тело, но дух мальчика. Опираясь на
этот же метафорический параллелизм можно сказать, что вся
телесность ребёнка приравнивается к возможности смотреть,
видеть, и закрытые глазки, параллельные сердцу из которого
делают браслеты и кольца, а также грудям из твёрдого олова
- это окончательно замкнутый круг, это конец самой себя изжившей
телесности, конец зрения вовне. Здесь, перефразируя известное
выражение, можно сказать, что смотрящий с вожделением, уже
прелюбодействовал, и закрытые глазки ребёнка - это в каком-то
смысле и побег от совращения.
И ещё об одном моменте в этой последовательности события:
цыгане, которые должны бы перековать сердце луны в браслеты
и кольца, предположительно, найдут на наковальне ребёнка с
закрытыми глазками. Несуществующее условное будущее диктует
происходящее настоящее. Первый же действительный вопрос: почему
цыгане должны перековать сердце луны - остаётся без ответа.
За совращение ли ребёнка, за самовольное проникновение ли,
или замышленное похищение? Это неизвестно. Но тем не менее
на этом условии водружается следующий круг измышлений. Отсюда,
остаётся без ответа и второй вопрос: а что должны сделать
цыгане, найдя на наковальне ребёнка с закрытыми глазками?
Трудно найти логически однозначный ответ на эти вопросы, и
видимо, дело не в этих ответах, но в их мерцающей магической
многозначности.
Беги, луна, луна, луна,
ибо я уже чувствую их коней
Магика последней вымышленной
фразы как бы действительно закрывает глаза ребёнку, и он уже
не видит, но чувствует их коней. Это синекдоха нагнетает страх,
как его может нагнетать топот приближающихся коней, и адресованность
этого приближения не к отдельному чувству, но ко всему существу
увеличивает размеры тревоги. Условное, несуществующее, проникая
вовнутрь ребёнка, становится действительностью, равно как
действительно становится лишь нутро ребёнка. Условность заменяется
причинностью и впервые ощущается тревога разбитого круга,
выхода за его пределы, впервые этого круга кроме самой луны
нет. Цокот коней, как молоты, высекающие кольца и браслеты.
Но если прежде живое становилось мёртвым, то здесь наоборот,
несуществующее начинает воплощаться в коней.
Ребёнок, оставь меня,
не наступай
На мою белизну крахмальную.
Последнее высказывание
луны, которое как бы окончательно разъединяет её и ребёнка.
"Dejame" уже отделяется от последующего: это не
оставь меня для танцев, но оставь меня, вроде "отвяжись".
Как и прежде, в этой зыбкости кузни, одно перетекает в другое
и чувство ли приближающихся коней, тревога ли за танцующую
луну, сам ли танец луны приводит в движение ребёнка. Или же
луна предупреждает его движение: не наступай подобно коням
на мою белизну крахмальную, не следи (no pises!).
И вместе с тем есть вторая сторона этого мерцания - луна рассыпалась
в крахмал под ноги ребёнка - ведь есть классический образ
самоотверженной любви праха в ногах.
Если подходить этимологически к слову "совращение",
то оно обнимает и это взаимное отталкивание луны и ребёнка,
когда ребёнок просит луну бежать, и при этом повторяет её
имя дважды по три раза, а луна просит мальчика оставить её,
что называется в покое, и ложится в ногах мальчика с велением
не наступать на белизну крахмальную. Каждый из них занят мыслью
о другом, но говорит большей частью о третьем - о внешних
силах, которые поначалу являются условными, несуществующими
и в этом смысле они своего рода "ничто". Отношения,
отвоёванные у этого Ничто и есть то, что связывает луну и
ребёнка. Эти отношения как бы пляшут от разлуки, от конца
к началу.
И, наконец, белизна крахмальная - это такая бесплотность,
которую можно потревожить дыханием, духом. Так плотское, металлическое
становится всё более эфемерным, зыбким, имматериальным.
И всё же, завершая рассмотрение этого сегмента, можно ли твёрдо
сказать, что луна явилась в кузню для совращения ребёнка,
и явившись, совратила его? Видимо только косвенно, через те
зыбкие, мерцающие, многозначные истолкования, которые частью
приведены выше. В реальности же, если к происходящему применимо
слово "реальность" и для ребёнка, и для луны характерно
стремление сохранить свое "status quo", что выражается
наряду с прочим и в отсутствии причинно-следственных связей
в их диалоге - каждый, как говорится, ведёт свою партию.
в) вмешательство внешних сил
В "Любовнике Юноны" внешние силы - это мать ребёнка
и неопределённое множество с дрекольями, ружьями. Естественно,
что их отношение к Юноне и ребёнку различно. Выше было отмечено,
что вмешательство матери в действие начинается почти с началом
самого действия и голос матери постоянно косвенным образом
дилогизирует с сыном и Юноной. Вот отношение матери к сыну:
О, сын мой любимый, сыноня,
и тут же альтернатива:
или стал ты милым Юноны?
Далее отчуждение:
Он кроток и тих, какая в нём
корысть?
уж лучше взяла бы трясуха и хворость.
В этом и страх безответности сына, страх безответного слова,
и непонимание причин этой безответности, и отчаяние, когда
собственному сыну можно пожелать чего угодно, но только не
безответности. Последняя строка прочитывается и как первое
проклятие Юноне, более страшной, чем трясуха и хворость. Слова
матери не остаются неуслышанными. И в неустановившийся диалог
матери с сыном врывается Юнона:
Кто это там? Опять твоя мать?
Она не устанет меня проклинать.
Первый же вопрос изгоняет мать
из круга общения и пространства за счёт внеположности местоимения
"там", а вторая строка - из настоящего времени:
не устанет когда угодно, но не сейчас. Сразу же задаётся враждебный,
бранный тон отношений между Юноной и матерью. "Опять
твоя мать?" Что означает это "опять"? Ведь
ранее мать в отношения с Юноной не вступала. Не заранее ли
заготовленный агрессивный стереотип отношения Юноны к ней?
Или же ещё одно вытеснение матери за пределы происходящего,
отраженного в произведении?
Повторённое дважды, это высказывание действительно кажется
стереотипом, который выпуливает Юнона в адрес матери. В нём,
кроме сказанного, уверенность в предстоящем, негативном, выраженном
даже через обращение "не устанет", характере отношений
матери к Юноне, отсюда едва заметная изначальная и конечная
конфликтность отношений между Юноной и сыном матери. Следующее
обращение матери - к неопределённому множеству:
Сюда, сюда, куда веду,
В вилы и косами встретьте
Шлюху ту гордую, что на беду
Сына завобила в сети.
О синтаксических особенностях первой половины высказывания,
об её так сказать обоюдоостром характере мы уже говорили.
Создавая безвыходное пространство, мать противопоставляет
сетям Юноны - этой русалки в воде, этой, без обиняков, шлюхи
гордой, вилы и косы этого множества. Сын всё ещё оправдывается
как попавший в беду, которая обща.
При всей определённости отношения матери к Юноне, не может
не привлечь внимания эпитет "гордая" приложенный
к шлюхе. Что это? Божественность, неуязвимая даже в своеи
шлюшности? Боязнь безответности Юноны, как и сына, на слова
матери? Или единое женское начало?
Ведь и в следующем за этим проклятии:
О проклята, проклята буди,
пусть хворью покроются вечные груди;
мать вынуждена отдать божеское божеству и назвать проклинаемые
груди вечными. А ведь груди - это не только символ телесной
красоты Юноны, но и символ материнства. Проклята буди - это
так сказать "отныне и во веки веков" и не отсюда
ли отречение против - на вечные груди, покрытые хворью?
Но как бы то ни было, мать единственный раз прямо обращается
к Юноне, в чём-то приравнивает её к себе, равно как её сын
называет Юнону тётей. Юнона же выпуливает в очередной раз:
Кто это там? Опять твоя
мать?
И в этом, действительно, вечная
непримиримость, полюса которой всё более поляризуются:
Она не устанет по сыну рыдать.
Примечательно это упорное неприятие голоса матери, игнорирование
его, хотя создаётся впечатление, что происходящее делается
прежде всего в пику именно матери, поскольку ведь Юнона реагирует
на проклятия матери. Как только раздаются проклятия, тут же
"она не устанет меня проклинать" сменяется на следующую
ступень: "она не устанет по сыну рыдать". Вместе
с проклятиями, Юнона готова вернуть полномочия матери сына
самой матери, отчуждая ии обоих от себя.
И не отсюда ли зеркальность стихии воды с которой, как было
замечено выше, идентифицирована Юнона в следующем, безадресном
высказывании матери:
Где зеркальный водоём
Весь сокрыт в плакучих ивах
Там Юнона и сын мой вдвоём
Предаются делу красивых.
Если следовать символике приведённого
ранее ряда, то здесь потрясающе проникновение матери в суть
происшедцего с её сыном. Вспомним, что Юнона называла ребёнка
осокорем. Здесь у матери плакучие ивы. Не так ли, через слёзы
"я слёзы на личице вымою" ребёнок-росточек оказался
в стихии пленившей его воды?
В этом высказывании матери одновременно проникновение как
в мир своего сына, так и в мир Юноны, и какая-то последняя,
почти идиллическая, твёрдость и отрешённость. Что может отразить
зеркальный водоём из слёз плакучих ив? Прежде всего сами плакучие
ивы - множество, которое может обнять и сына и саму мать.
Кроме того в этом зеркале конечно же отражено и небо, которое
по вполне понятным причинам игнорируется матерью: "водоём
весь сокрыт в плакучих ивах". Мать перемещает происходящее
между Юноной и сыном в плоскость человеческого и всё же это
последнее отрешённое состояние диктует ей слова рядоположные
"гордой", "вечным" - "предаются делу
красивых".
Далее в ответ на безразлично-обобщающую констатацию Юноны:
"То к нам уже идут" мать также безразлично обобщает
и объединяет множество по времени "сразу" и пространству
- "вместе" в одну не дрогнущую руку, держащую одно
оружие - дреколье.
Оружие прежде всего, затем "вперёд образа" и вслед
за этим почти что призывный лозунг и, наконец, оправдание:
"так хочет дело мести". Образа - как жупел против
языческого существа Юноны, это как бы перемещёние её в "нечисть".
Структура этого высказывания суггестивна - сначала внушается
всем образ их действия и в конце даётся призывное оправдание
предельно обобщённого характера: "так хочет дело мести".
Мести за что? Только за дело красивых? Или ещё за что? Команды
матери следуют одна за другой, не давая опомниться тем, с
дрекольями, вилами, и косами. Она сама мчится вперёд их:
Сюда идите. Здесь вон они
Между осинок в роще в тени.
В устах матери сын и Юнона упоминавшиеся сначала по отдельности,
затем вдвоём, наконец превращаются в "они". Мать
как бы объединила их, отъединив сына от себя и противоречиво
- антитезой "здесь вон" - вывела их за пределы своего
пространства, делая их пребывание всё более эфемерным: "Здесь
вон они между осинок в роще в тени".
Вовсю идёт гон за Юноной, но в этом последнем "они"
Юнона и сын незаметно сводятся воедино и гнев, направленный
на гордую шлюху "иррадиирует" и на мальчика. Мать
видимо инстинктивно чувствуя этот перехлёст пытается трезво
и разумно развернуть перед глазами происшедшее. Нет, или почти
нет ничего неприязненного, враждебного по отношению к Юноне,
которая объективирована безымянным местоимением "она".
Но в этом объективном пересказе случившегося есть обречённое
понимание сути события и сын её становится для матери таким
же отчужденным "Он". "Он" и "она"
- при всей противоположности необходимые и достаточные компоненты
"они", и это "они" означает их единство.
Мать ещё пытается разделить их хотя бы косвенно, почти бессознательно
тем, что он просит идти её потише, но она не слушается и скоро
в роще ближней хищно озираясь, скрывается. На самом деле в
этой роще, в тени они вместе, и этому "они" противостоят
они - которым с последним допущением-призывом обращается мать:
Сегодня среда, и хоть грех
убивать,
Да нужно!
И наконец, как апофеоз отношения матери к ним, верх их "эфемеризации"
матерью, бесплотнейшее из их плотского: "вот где их стонов
и воплей кровать!" - первая полнокровная метафора, даже
более того - симфора. Далее следует автологическая речь приказов,
далее, что говорится, дело техники: в ход пускаются дреколья
и ружья друзей матери. И с высот металогического апофеоза,
где были стянуты воедино страсти и противоречия, в котором
отразилась вся суть и поэзия происшедшего, речь матери, что
называется докатывается вплоть до самых низов автологии, к
бессмысленной, бездушной, инструктивной идиоме:
А вы: раз, два - пли!
И вот результат вмешательства матери и её друзей в отношения
Юноны и мальчика:
Сына целует бедная мать.
К плечам прижала седым.
Но мёртв он. Вотще подымать
Веки бессильны как дым.
Стремление матери объективировать
своё отношение к происшедшему с сыном нашло свой логический
выход в объективации самой матери. И она лишена теперь голоса,
как и мёртвый её сын, которого она целует и прижимает к плечам
седым. И вновь появляются и изобилуют поэтические фигуры.
Сначала это эпитет "бедная" - вспомним материнское:
"шлюху ту гордую, что на беду сына завобила в сети",
затем уж симфора: "к плечам прижала седым", когда
распущенные от горя волосы матери все поседели. "Но мёртв
он". Охваченная зеркальными "но - он" трагическая
констатация. И наконец, сложнейшая, многозначная фигура: "Вотще
подымать веки бессильны как дым", в которой вотще подымать
оказывается и сына и веки, бессильные как дым и сами по себе,
безотносительно ко всему веки бессильны как дым, когда вотще
подымать оказывается нечего, ничто. Наконец, веки бессильные
как дым, это дым, застилавший глаза и лишивший их зрения.
И это уже иная стихия - стихия эфемерности, всесильная в своём
бессилии.
Так, земные, внешние, казалось победившие силы оказываются
в трагическом проигрыше. Дело мести затеянное матерью против
дела красивых, оказывается неразборчивым в итоге и приводит
к непредвиденной земной матерью развязке. А именно к перевёртышу
того, к чему она стремилась и устремляла друзей - к смерти
сына, а не Юноны.
Прервём рассуждения на Юноне, поскольку это уже предмет нашего
последнего подпункта и перейдем к рассмотрению вмешательства
внешних, земных сил в "Романсе о луне, луне..."
Первое замечание о том, что внешние силы - цыгане появляются
в самом начале диалога и по существу являются его содержанием,
было высказано выше. Также мы заметили, что зарождаясь как
бесплотный, условный, гипотетичный страх мальчика, они далее
всё более материализуются в диалоге и наконец... диалог кончен.
Всадник приближался,
играя на барабане рассвета.
В кузнице ребёнок
с закрытыми глазами.
Рассматривая по предыдущей схеме анализа вмешательство земных
сил в отношения луны и ребёнка следует сказать, что в отличие
от "Любовника Юноны" внешние силы движутся поначалу
в обратном направлении: от эфемерности к воплощению. Земные
силы - это цыгане, видимо владельцы кузни. И в этом множестве
- отличие от единичной матери "Любовника". Отношения
цыган с ребёнком тоже неясны. Можно предполагать, что ребёнок
- цыганёнок и именно поэтому он боится этих цыган, но боится
он не за себя, а за луну. Он сам и задаёт отношение цыган
к луне:
сделают из твоего сердца
браслеты и кольца белые.
Отношение же луны к цыганам
- безразличное, но может быть и зловещё:
Когда придут цыгане
тебя найдут за наковальне
с глазками закрытыми.
Противоположение тоже и в том, что земные силы, появившись
здесь условно во множестве, как бы предваряют свой выход на
сцену приближающимся единичным всадником, играющим на барабане
рассвета. Кроме того, что всадник рассвета единичен, он ещё
по своей природе символичен, как скажем Фаэтон на колеснице
и т.п.
Но при известной абстрактности образа здесь этот всадник и
симфоричен, привнося в рассвет и звуки, и тревожную дробь
коня, и расплату за случившееся ночью. Образ мерцает между
тем и тем полюсом - и если слышится гул ударов по барабану,
то этот гул относится к барабану рассвета. Он отсылается к
рассвету и перемещается из сферы слуха в сферу зрения. Но
в том-то и дело, что дух как бы вызван, он воплотился, занял
место в реальном мире, а тот заклинатель, из чьей тревоги
это родилось - в кузнице, с закрытыми глазами.
Кроме явной многозначности образа закрытых глаз: уснул? умер?
закрыл их от страха? - есть ещё одна важная особенность -
это уже глаза, а не глазки, о которых говорила луна. Что делает
глазки глазами? Сон? Смерть? Жизнь? Страх? Любовь? Или вот
в этом и есть грехопадение - глазки увидевшие всё предыдущее
и стали хотя бы ценой своего закрытия, глазами? В кузнице
закрытые глаза - это и веко ударившееся о веко, как молот
о наковальню, и это начало нового круга.
Наконец являются сами земные силы - цыгане.
Из олив вышли
бронза и сон - цыгане.
Головы поднятые
и глаза прищуренные.
О том, что их выход готовится
как выход королей на бал откуда? что сделали? какие? и, наконец,
кто? мы уже говорили. Есть тончайшая в деталях замедленность
всего этого движения. И вечнозелёные оливы, и метонимия "бронза
и сон", и постепенное нарастание плана, своего рода "накат"
- от пятна к головам и глазам. Вглядываясь пристально в каждую
из этих деталей можно увидеть, насколько каждая из них полифункциональна
и многозначна.
Выход из олив это и оставление оливковой ветви, символа мира,
это явление воплощающегося противоречия, это своего рода знак
о том, что "кризис назрел". Что касается метонимии
- "бронза и сон" с её персонификацией в цыган, то
она носит помимо чисто определительной - бронзовые и сонные
цыгане - ещё и значительную ассоциативную нагрузку, в этой
метонимии существительными - поле ассоциативности оказывается
значительно шире, нежели было бы в случае вышеуказанного сравнения:
"бронза и сон" могут читаться как то, что происходит
с ребёнком, а именно сон приходит к нему в образе цыган и
дальнейшее всё прочитывается как сон ребёнка, вызвавшего из
небытия цыган.
Вместе с тем рассвет уже пришёл, и если не считать это рассветным
сном ребёнка, то бронза и сон - это состояние самих цыган.
Надо иметь в виду и то, что бронза - это сплав меди и олова,
а из олова, как известно, были твёрдые груди луны. Вспоила
ли луна ребёнка лунным молоком своих грудей и стала ли не
любовницей, но матерью, а бронзовые цыгане по этому сродству
отцами его?
Бронза и сон - это, наконец, единство противоположностей,
это материя и дух, воплощённые в цыганах. Это и то пятно,
с которого начинается полотно.
Далее - крупнее - головы поднятые - в этом есть гордость.
Но в этом же и их привязанность к небу, тревожное чувство,
что если что случится, то только связанное с небом.
И ещё крупнее - глаза прищурены. Это продолжение обоих противоположных
движений - и того, что оправдывается пословицей, "цыганский
глаз - змеиный глаз" и того, когда глаза опускаются в
страхе, в ожидании чего-то катастрофического. Прищуренные
глаза - это глаза и засыпающего, и просыпающегося человека.
Так в какую сторону движутся глаза - к закрытым глазам ребёнка
или же наоборот? Во всяком случае глаза теперь придаются цыганам.
Но нужны ли были они им, когда
Как запела сова!
Ах, как запела на дереве!
По небу шла луна
с ребёнком за руку.
Следующий круг - и новое искусство. От танца луны через драматический
диалог её с ребёнком, через музыку рассвета, театрализованное
явление цыган, наконец, к песне.
Но запела птица. И если в "Любовнике" птичий род
был в начале, то здесь эта птица в конце, равно как и совершенно
противоположна функциональная "окраска" этих птиц.
Там "вороны овна заели", здесь "как запела
сова, ах как запела на дереве".
И пульсация движения продолжается ровно противоположного характера.
Если в предыдущей строфе всё укрупнялось, то здесь, наоборот
всё отдаляется: сова, она на дереве, небо, по которому идёт
луна с совсем маленьким ребёнком за руку. Последняя маленькая
ручка. Крупным планом самое маленькое в этой картине. Но помимо
того, что ручкой "делают" прощанье, у цыган рука
- это и судьба.
Зеркальность с предыдущей строфой поразительна. Предыдущая
строфа кончилась прищуренными глазами цыган. И тут же эти
глаза подсвечены глазами "мудрыя" совы, которая
поёт на дереве. Цыгане вышли из олив, и оставили в этом пространстве
своего прошлого единичность, неповторимость, невозвратимость
- дерево с глухой песней совы.
г) результат вмешательства внешних сил
Мы говорили об условности подобной сегментации, вот и здесь
можно видеть, что результат вмешательства внешних земных сил
тесно вплетён в само вмешательство и вытекает из него не как
мораль из басни, но... как небесное существо из земных пут:
А сквозь ругань, крик "ура"
высокомерна и красива
к небу вздымалось меньше пера
голубооблачное диво.
Результат дан буквально в двух плоскостях: во-первых по горизонтали
- как земной итог вмешательства, который мы расмотрели ранее,
и во-вторых по вертикали как оставление Юноной земли, т.е.
небесный итог происшедшего.
Характерно то, что земной итог вершится раньше того, как небесное
существо покидает землю. В некотором смысле Юнона оказывается
ни при чём и земля, в образе матери несёт кару за свои земные
действия.
Эта земная путаница, приведшая к развязке, продолжает длиться
и в следующей строке: "А сквозь ругань, крик "ура",
оценивающей земной итог происшедшего одновременно и отрицательно,
и восторженно. Мать оставалась один на один со своим горем.
Но как стало эфемерным её состояние:"веки бессильны как
дым" - так оно было подхвачено звуковым множеством, выраженным
тем не менее единственным числом: "ругань, крик "ура".
Впервые и напоследок это анонимное множество "друзей"
матери получает свой голос и уже в авторскую итоговую речь
встревает со своим бессмысленным "ура". Следующая
черта оставления Юноной земли - отпадение всех её земных атрибутов
- имени, пола. Она на глазах превращается в божество. Поначалу
ещё высокомерна и красива - женский род - она через ряд превращений
становится голубооблачным дивом - среднего рода - лишь отдаленно-фонически
напоминающим деву.
На глазах превращаясь в божество, она всё более оставляет
и свою плоть: сквозь эфемерную среду - ругани и крика "ура"
она к небу вздымается меньше пера. Как истолковывать "меньше
пера"? Меньше птичьего пера? Или меньше писчего пера,
впрочем, происшедшего от того же птичьего? Видимо истина посередине.
А истинное Божество исчезает и в том, и в этом случае, то
как летучая плоть, то как летучее понятие. Голубооблачное
диво это схождение крайностей, последний акт мгновенной пульсации,
когда божество уменьшалось до пределов невидимой точки "меньше
пера", вместе с тем растворяется в голубом небе, становясь
равновеликим в беспредельности.
Два дыма: один матери "веки бессильны как дым",
который ещё более увеличивает земную отягощенность горя -
"вотще подымать" и другой - улетучивающейся, вздымающейся
богини - "голубооблачное диво" - уравнивают их в
эфемерности, в бесплотности, т.е. говоря фигурально на поле
Юноны.
Слепое человеческое горе "вотще подымать веки" и
высокомерность и красивость божества проистекают от одного
источника - потерянной и покоренной души мальчика. Из ничего
пришедшая, богиня и уходит в ничто, оставляя следом пребывания
на земле земную смерть мальчика и земное горе матери.
Мы говорили, что покидая землю божество оставляет все атрибуты,
дающие ей плотскость: имя, пол, плоть. Но вместе с этим она
оставляет свои свойства, которые как бы выстраиваются на парад.
В конечном итоге она, как известно, превращается в диво, но
сколько определений предваряют его: высокомерна и красива,
меньше пера, и наконец, голубооблачное. И в этих свойствах
всё меньше остается плоти и наконец небо опять незыблемо как
и во веки веков. Всё изменчивое, путанное, становящееся, трагическое,
осталось на земле.
Рассмотрим итог посещёния земли небесным существом в Романсе.
Dentro de la fragua lloran,
dando gritos los gitanos.
El aire la vela, vela.
El aire la esta velando.
Честно говоря, адекватный перевод
концовки представляется невозможным. Если первые две строки
ещё можно достаточно близко представить в виде:
В кузнице плакали
Вскрикивая цыгане,
хотя "вскрикивая"
по-испански - буквально "давая крики", а это несёт
дополнительную смысловую нагрузку, то конечные две строки
попросту непереводимы. И вот почему.
Глагол "velar" имеет несколько значений, может прочитываться
и как "свеча в упоминание" и "парусник"
и "разносить". Итак, получается сверхнасыщенный
зыбкостью заключительный образ пустоты, которая осталась с
цыганами. Единственное незыблемое здесь - это ветер, что называется
ветер на всём белом свете, который "la vela, vela".
И снова рождается вопрос, а что подразумевается под "la",
"этим" в женском роде, то ли по аналогии с начальным
"la mira, mira": луну уводящую ребёнка по небу -
подобно паруснику в синем море, или же свече, поставленной
в поминанье; то ли плач цыган и их крики, растворяющиеся в
этом воздухе вместе с "gritos en la fragua" - кузницей
- где всё и происходило, то ли всё это происшедшее под знаком
женского рода?
Но какого бы толкования не придерживаться - оно не отграничивает
иные и в этом-то вся магика заключительных строк, где ночь
растворяется в утре, унося с собой свою тайну, как гася свои
свечи и отдаляя свой парусник. И всё находит свой конец в
ветре...
Этот ветер обнимает собой и луну, уведшую ребёнка и оставшихся
с плачем и криком цыган, в отличие от "Любовника",
где земля осталась со своим горем, а небо со своим божественным
безразличием, несводимое одно к другому и не нашедшее единства.
...Теперь, после всего случившегося,
в нашем случае, после проведённого сравнения, несущего на
себе отметину искушения познанием, рождается вопрос: а правомочно
ли такое сравнение, когда два стихотворения берутся вне всяческого
контекста: исторического, биографического, творческого и по
ним делаются типологические обобщения? Этот метод, который
условно может быть назван "голографическим" (по
фрагменту восстанавливается целое), при кажущейся методологической
уязвимости, сводящейся в конечном счёте к пункту "стимул
- реакция" или "среда - индивид", оправдывают
себя... существованием этих двух стихотворений, в которых
каждый атом есть планетарная модель всего поэтического мира,
и может быть даже бессознатальное этих поэтов подчиняется
закономерностям именно их языка. Простое перечисление у Хлебникова:
"между осинок, в роще, в тени" - предельно функционально,
и, задавая сначала плоскостное "между", в первом
приближении координаты, оно затем передаёт их в трёхмерное
пространство - "в роще" и как бы накрывает Юнону
и мальчика мешком пространства матери, сверху вниз - "в
тени".
Или же по внешне однотипным и параллельным синтаксическим
конструкциям диалога ребёнка и луны у Лорки между тем движется
единая направляющая времени: так, в первом "беги, беги..."
ребёнка, расположение подлежащего в придаточном условном делает
предложение максимально гипотетичным. Ответ луны перемещает
её во временную область:"когда придут цыгане". И
наконец, последнее восклицание ребёнка с придаточным следствия
вместе с появлением цыган перемещается в область реальности:"ибо
я чувствую их коней", и т. д.
Количество "словесных атомов" Хлебникова и "образных
молекул" Лорки - это их количество в кристаллической
решётке, которую мы едва наметили.
Есть известное выражение Роже Кауйа:"Мир начинается с
атомов, но заканчивается листвой и снами". Пусть же эти
атомы останутся с нами, а статья кончится этими небесными
как Юнона и луна стихотворениями двух гениальных и трагических
детей человечества.
ПОВТОРЫ
Рассмотрим в этом параграфе
поэтические повторы, включая метрические повторы: стопу, стих,
строфу; эвфонические элементы: анафоры, эпифоры, рифму, ассонансы,
диссонансы и т.п.; стилистические праллелизмы, виды симметрии.
а) метр
Анализируя метр "Любовника
Юноны", следует прежде всего сказать, что он чрезвычайно
разнообразен. В произведении используются все виды метра и
для того, чтобы в тонкостях разобраться в особенностях его
использования, понадобился бы отдельный труд. Применительно
к целям нашего исследования ограничимся рассмотрением частотности
метрических форм, общей диалектики метроритма, его маркированности
по действующим лицам и некоторых характерных особенностей
использования того или иного метрического рисунка.
Наиболее употребительны трёхсложные метры: амфибрахий, анапест,
дактиль различных размеров. Разумеется, это нам ни о чём не
скажет, если не проанализировать характер употребления метрических
форм по ходу стихотворения.
Стихотворение начинается энергичным, скачущим, полноударным
4-стопным ямбом с клаузулой, который уже во второй строке
модифицируется в вариант ямба со сверхсхемным ударением в
первой и пиррихием во второй стопе, что смещает акцент с "где"
на "вороны", с пространственности на субстанциональность,
повторяющаяся же клаузула как бы скрадывает, уводит в тень
концовку.
Первое обращение ребёнка к Юноне оформлено полноударным З-стопным
дактилем с женской клаузулой, как бы недосказанной до дактилической
стопы ("тише..."). Но эта недосказанность как бы
переливается в следующую строку анакрузой "здесь",
со сверхсхемным ударением, превращая строку в 4-стопный амфибрахий.
Эта сверхсхемность ударения на первом, безударном слоге амфибрахия
в этой строке регулярна. Она как бы вытекает из условий, заданных
Юноной и также снимает акцент поначалу с пространственных
"здесь", а затем и с "мне", тем самым
как бы устраняя ребёнка оттуда, где господствуют "камни",
"больно", "трудно", "выше".
Третья строфа метрически индифферентна - дважды повторённый
двухстопный амфибрахий.
Отвращение матери к сыну метрически предстаёт таким образом:
поначалу это трёхстопный амфибрахий со сверхсхемным ударением
на восклицании "О" и местоимении "мой",
что может быть истолковано как снижение патетики и что естественно
для отношений матери к сыну, равно как естественно и соединение
сочетания "сын мой" как бы в одно слово, далее в
метре появляется зыбкость и вторая строка представляет собой
переход от анапеста со сверхсхемным ударением на первом слоге
("или стал") через амфибрахическую стопу с таким
же сверхсхемным ударением ("ты милым") к правильному
амфибрахию ("Юноне"). Так сформирована загадка со
смятением вначале и прояснением к концу. И опять же акцент
смещён с "ты" на "милым". Обеим сторонам
как бы важна не субстанциональность, но атрибутика ребёнка.
Третья строка: "он кроток и тих. Какая в нём корысть?"
- четырёхстопный амфибрахий с цезурой после второй неполной
стопы. Как и в случае с ребёнком здесь тишина обозначается
отсутствием слога. И опять дважды с ребёнка убирается акцент
("он", "в нём").
Наконец, четвёртая строка - обращения матери - правильный
4-стопный амфибрахий. Строфа, как бы находит своё разрешение.
Следующий за этим вопрос Юноны представляет собой дольник
такого симметричного вида: - 2 - 1 - 2 - . Характеризуя метрику
строки, можно заметить, что интерес Юноны именно к матери
акцентирован. И если в предыдущем случае, при стяжении "сын
мой" - это служило единству, то сочетание "твоя
мать", с безударным и как бы игнорируемым "твоя"
- разъединяет, и такая акцентировка несёт в себе смысловую
нагрузку. И опять, когда дело касается матери, метрика высказывания
Юноны чётко определена З-стопным амфибрахием с клаузулой.
Далее, говоря о метрической характеристике диалого ребёнка
и Юноны, следует заметить, что "партия" ребёнка
выдержана в почти правильных амфибрахических стихах. Ритмика
же высказываний Юноны зыбка, полиметрична, и всё же сквозь
эту метрику словно проступает регулярный амфибрахий, и последние
её слова, характеризующие мальчика: "ты бел и нежен,
как этот осокорь", после начальной осечки становятся
целиком амфибрахичными, как бы выявляя маркировку устойчивости.
Характерен ямбический параллелизм призыва матери: "Сюда,
сюда, куда веду" с первой строфой - призывом Юноны к
мальчику, мать как бы нашла на ту же тропу побега и погони,
тем более, что далее метр в строфе меняется на дактилический
с различными вариантами клаузул и анакруз. И, наконец, конец
высказывания матери опять оформлен разрешающим, определённым
4-стопным амфибрахием: "Пусть хворью покроются вечные
груди!"
Таков же ответ Юноны, но с более энергичной, усечённой, мужской
концовкой: "Она не устанет по сыну рыдать!"
Эта же особенность метра в целом сохраняется и далее, так,
например, пеон: "весь сокрыт в плакучих ивах" переходит
к ударнику в общем амфибрахичному: "Предаются делу красивых".
Характерно решена в метрическом плане и 18 строфа, ямбический
стук погони: "то к нам уже идут, то к нам уже идут..."
переменяется в высшей степени зыбким метром фразы: "мальчик,
нам хорошо тут?", где каждое слово тянет ударение на
себя, а вместе с тем метрическая гармоничность и устойчивость
целого разрушается.
И наоборот, замешательству Юноны, какафоничности метра её
вопроса, противостоят ритмически чётко организованные команды
матери - 4-стопный амфибрахий: "с дрекольем идите все
сразу и вместе" и т.д., которые кончаются ямбическим
стихом: "Так хочет дело мести", впрочем могущим
быть истолкованным и как фразовик. Но дальше происходит сбой
и у матери, своего рода ритмическое замешательство, два различных
акцентных стиха 20 строфы, где в первой строке характерна
акцентировка лишь на пространстве "сюда", "здесь",
а во второй, подобно последнему вопросу Юноны - ударность
каждого слова. Этот сбой видимо содержателен. Не потому ли
далее мать долго пересказывает всё происходящее, словно упражняясь
в регулярных, устойчивых формах стихов, имеющих различные
варианты, как будто ища себе метрическую опору, нужный ритм
действий? 21 строфа состоит почти сплошь из разновидностей
поначалу ямбических, а к концу амфибрахических стихов, в которых
мать и находит разрешение.
Далее, характерно, что дольники 22 строфы также сменяются
на ключевую фразу: "но мёртв он, Вотще подымать"
- тоже амфибрахий, своего рода последнюю ступень устойчивости.
И, наконец, метрика последней 23 строфы зыбка, как зыбка покидающая
землю Юнона, и в этой строфе как бы мерцая, проступают все
использованные метры, и даже оформляющая новое состояние земной
толпы хореическая строка, пеон, дольник, ямб, но нет маркирующего
устойчиваость амфибрахия. Юнона как ямбически пришла, так
и ушла...
Что касается метрики "Романса",
то следует оговорить, что здесь приведённый подстрочник ничего,
разумеется, подсказать не может, поэтому в самом ограниченном
смысле придётся умозрительно и очерково аппелировать к оригиналу.
В оригинале "Романс" представляет собой трёхиктный
восьмисложник - одну из разновидностей акцентно-силлабической
системы испанского стихосложения, размер которого определяется
количеством схемных ударений (иктов) и количеством слогов
в стиховом ряду. Метрическая схема "Романса":
х х х х х _ = (~), при том,
что две из х-позиций ударны, где
х - произвольно ударные позиции,
для которых признак ударности и безударности безразличен,
=, ~ - константно-ударные и константно-безударные позиции,
в которых икты не могут быть замещёны безударными, и неикты
- ударными,
_ - доминантно-ударные и доминантно-безударные позиции, в
которых икты могут замещаться безударными, а неикты - ударными.
Не вдаваясь в подробности этой
системы стихосложения, ограничимся лишь тем предварительным
замечанием, что в метрике "Романса" три последние
позиции неизменны, и как бы канонизированы, т.е. один доминантно-безударный,
константно-
ударный и константно-безударный слог. В предыдущих же 5 слогах
ударение вариативно, т.е. оно может падать на различные слоги.
И если каноническая часть выдерживается в "Романсе"
всецело, кроме единственного нарушения, а именно на слове
"corazon" - "сердце", когда ребёнок говорит
луне о судьбе её сердца (совершенно не боясь банальности,
здесь можно сказать, что сердцу ритма не укажешь), то в вариативной
части ударение, передвигаясь, разнообразит интонацию.
Явление луны метрически (правильнее - акцентно) оформлено
однообразно - со второй и пятой ударными х-позициями.
Танец луны разнообразен в ударениях: позиции 3-5, 1-4, 2-4,
2-5. Обращение ребёнка к луне, следующее за этим: "Huye
luna, luna, luna", как бы продолжает волну танца луны,
ударны 2 и 5 позиции. Удивительно решено это трёхкратное повторение
луны: первая луна безударна, вторая - произвольно-ударна,
а третья - константно-ударна. т.е. идёт интонационное нарастание,
растёт акцентное напряжение. В этом обращении примечательно
также то, что эта заданость (2 и 5 ударные позиции) сбивается
лишь при упоминании цыган (2 и 4 позиции).
Ответ луны оформлен иной акцентировкой - луна, говоря о себе
и цыганах, использует ритмоформулу 1-3, но когда речь заходит
о мальчике, интонация меняется (4-5 и 1-4 ударные позиции).
И опять призыв мальчика к луне (2-5), а о цыганах, как и прежде
(2-4). Ответ же луны характерен тем, что первая фраза имеет
формулу 1-3, как и при первом ответе, а вторая строка построена
по "образцу" цыган - (2-4), луна второй раз интонационно
идентифицирует себя с ними. Не одинаковое ли это отношение
к ребёнку?
Приближение всадника интонационно одинаково с началом танца
луны - (3-5), как и игра на барабане рассвета (2-4) продолжает
ряд: "если придут цыгане" и "ибо я чую их лошадей",
лежащий же на наковальне мальчик акцентирован его собственным,
единым ритмом - (2-5).
Закрытые глаза ребёнка интонационно одинаковы с явлением из
олив, что позволяет предположить их близость и это может быть
истолковано функционально: то есть так, что закрытые глаза
видят это, скажем, во сне. "Бронза и сон - цыгане"
имеют свою маркировку (1-3), но их качества сродни приближающемуся
всаднику.
То что интонация несёт в себе смыслообразующий момент, хорошо
показывают две заключительные строфы - сама развязка. Уже
первые две, казалось бы одинаковые фразы: "как запела
сова", "ах, как запела на дереве" маркированы
так сказать двумя лагерями: в первом случае ударны 1 и 3 х-позиции,
то есть связанные с цыганами, во втором - 2 и 5, иными словами
интонация, связанная с ребёнком. Можно сказать, что сова поёт
двумя голосами - и цыган, и мальчика.
А по небу идёт луна, как начинался танец, как приближался
всадник, как являлись цыгане, и вот здесь происходит казалось
бы невероятная метаморфоза: фраза "с ребёнком за руку"
произносится "цыганской" интонацией, с ударением
на 1 и 3 х-позициях! Прежде чем пытаться истолковать это,
досмотрим метроритм до конца. "В кузне плакали"
- как ни парадоксально, маркировано ударными позициями 2-5,
т.е. присущими ребёнку, но "вскрикивающие цыгане"
остаются цыганами (1-3) и далее ветер всё ставит на свои места,
дважды повторяя формулу 2-5.
Как же объяснить метаморфозы концовки? Мы уже говорили об
этом заключительном "вывороте" пространства, и здесь
он вдобавок закреплён интонационно, когда ребёнок с луной
оказываются вне замкнутой кузни, на "цыганском"
просторе, а в кузне же остаётся от ребёнка лишь плач, который
затем ветром разносится на всё пространство внутреннего и
внешнего мира.
б) Эвфоника
Рассмотрим оба произведения с точки зрения их звуковой инструментовки,
а именно - наличия и роли анафор, эпифор, рифмы, самой звукописи,
ассонансов и диссонансов.
Об анафорах и эпифорах в "Любовнике" говорить почти
нечего, поскольку их попросту нет, если за таковые не принимать
дважды повторённое:
"Кто это там? Опять
твоя мать?
Она не устанет меня проклинать."
Что же касается рифмы и звукописи,
то сделав ряд предварительных замечаний, рассмотрим их по
ходу текста. "Любовник Юноны" почти целиком зарифмован.
Исключение составляют лишь несколько строк 21 строфы. Говоря
об общей характеристике звукописи, а именно частотности тех
или иных звуков, заметим, что наиболее часты согласные "Т"
- 106, "Н" - 87, "С"- 79, "Д"
- 61, и гласные "О" - 134, "А" - 132,
"Е" - 117, "И" - 93, "У" - 52,
"ы" - 45.
Имея в виду общие цифры, можно анализировать их "нагнетение"
или "разрежение" на том или ином участке текста,
предварительно рассчитав среднюю частотность буквы на строку.
Первая строфа даёт нам омонимическую рифму: "за ели -
заели", чем самым задаётся непредсказуемая каламбурность
происходящего. Действительно, смысл омонимов в контексте -
противоположен: "за ели", где можно скрыться и "заели"
- как то, что ожидает скрывшихся. В решётке гласных преобладают
"е" и ударное "и". Кроме двухкратного
повторения резкого "бежим" интересна также оборотная
аллитерация "ВОроны" - "ОВна", противополагающая
два начала.
Вторая строфа - ответ мальчика, характерна нагнетением "т",
затем "н". Решётка гласных почти повторяет соответствующую
первой строфы. Это же соответствие с преобладанием "е"
продолжено в третьей строфе. Рифмы здесь почти полные.
Что касается первого высказывания матери, то рифмы её:"сыноня
- Юноне", "корысть - хворость" - оставаясь
в пределах богатых рифм, вместе с тем отличаются грамматически
от рифм Юноны и дитяти. Здесь рифмуются существительные, тогда
как у Юноны - существительное с глаголом, а у дитя - два наречия.
Иными словами, подмеченный ранее поворот в сторону субстанциональности
в высказывании матери оформляется и через рифму.
Заметим также, что непротиворечива и однопорядкова в этом
ряду рифм лишь рифменная пара дитяти: "тише - выше".
Говоря же о звукописи, заметим, что среди согласных превалируют
также как и у сына "Н", "Т", а среди гласных,
наряду с преобладанием как и у Юноны в строке, обращённой
к дитяте - "И", чувствуется и нагнетение "О",
а также явное превышение нормы гласной "ы". И вместе
с тем в позиции ударных пребывают почти все гласные, работая
на растерянность матери.
Выдерживаются ли далее очерченные здесь акценты эвфоники,
распределённые по героям, иными словами "маркированы"
ли эвфонически действующие лица и какие происходят изменения
по сравнению с заданными в первых строфах звуковыми координатами?
Строфа 5 - вопрос Юноны. Мужская рифма "мать - проклинать",
повторённая дважды (существительное и глагол, лицо и действие),
как видим, продолжает предыдущий способ рифмовки. Если рассмотрим
звуковые предпочтения, то заметен резкий сдвиг в звуковое
пространство последнего высказывания матери. Юнона как бы
перебивает мать на её поле. 18 раз повторённая на 4 строки
буква "Т", 12 раз - "О", 10 раз - "Н"
просто заглушают мать, как бы задавая тон, и с другой стороны
Юнона не остаётся целиком в этом пространстве, нагнетая самую
открытую гласную "А". Позволяя себе фривольность,
можно сказать, что Юнона прёт как "ТАНК" в звуковое
пространство матери.
Интересна также наблюдаемая перекличка последней ударной гласной
предыдущего и первой ударной последующего высказывания героев,
т.е. как бы передача голоса, начинающаяся с первой строфы
и идущая вплоть до совращения: е - ё, ы - ы,
о - о, а - а, а - а. В этой строфе кроме
всего прочего можно говорить об искуссной аллитерации к примеру
"там - мать", или во второй строке - целый ряд:
"на - не - не - ня - на". Аллитерация эта, как и
в предыдущей строфе: "рыс - ряс - рос" - вариативна.
И всё же аллитерация сгласных нехарактерна для рассмотренного
выше текста.
Здесь более существенна инструментовка гласных. Достаточно
составить решётку гласных, чтобы согласиться с этим утверждением.
К примеру, начальная строфа:
/е - и/- и - я -/е - и/- а -/е
- и/
е -/о - о - ы/ - /о - а - а/- е - и/,
в которой можно вычленить определённые
константы, а также вариативную часть. Или же рассматриваемое
высказывание Юноны, строфа 5:
/о э/о а/о я/о я/ а о а/е/у
а/е/е я/о и/ а
Здесь различные виды варьирования
своего рода опорных гласных, или даже как в первом случае
- групп гласных, построение различного рода симметрий.
Строфа 8 характерна тем, что в ней и в последующей 9 строфе
нарушается принцип двустрочной рифмовки типа а - а, в - в,
и впервые применяется перекрёстная рифмовка, что несёт определённый
смысл в контексте происходящего совращения. Искусность применённой
звукописи не вызывает сомнений: почти полное отсутствие звонких
согласных при шепчущем вопросе ребёнка в первой строке, и
звонкое противостояние его, подобное ударам бубенного сердца
во второй. Соответственно этому и аллитерации: "сн -
сн" в первой и "нд - дн" во второй строках.
С точки зрения гласных здесь доминирует и играет роль опорной
- "а". Интересно решена в этом отношении вторая
строка: /е - а - о/е - а - о/о - а - я/, как бы с отражением,
противопоставлением гласной структуры последнего блока двум
предыдущим, что вытекает из смысла самих слов.
О характере рифмы 9 строфы мы сказали, заметим лишь, что пара
рифм - глагольная, другая - ассонансная.
Далее, всё совращение характерно нагнетением гласной "и",
оно проходит как бы под знаком "и" (взятый отдельно
- это соединительный союз), причём, если вспомнить первое
высказывание матери, то нагнетение "и" ощутимо лишь
в строке "или стал ты милым Юноне", когда и мать
допускает их соединение. Что же касается самохарактеристики
Юноны, то в ней превалирует "а" (взятый отдельно
- противительный союз!): "чиста, прекрасна, как влаги
струя", хотя сказано в предыдущей строке " и я".
Иными словами, можно предположить, что буквы обнаруживают
то, что скрывает сама Юнона. И в десятой строфе опять преимущество
"и" в гласных.
Итак, проследив кривую перелива гласных в совращении Юноной
ребёнка, можно сказать, что поначалу Юнона внедряется в сознание
мальчика голосом матери (подобно волку при семерых козлятах)
и самого ребёнка, затем создаёт как бы нейтральное соединительное
поле, сквозь которое прорывается её отчуждённость, но впоследствие
она восстанавливает его, заговаривает. Последнее движение
гласных поддерживает и сам смысл высказывания, когда Юнона
опять переходит на форму "мы" с ребёнком.
Что касается регулярностей в решётке гласных, то в строфах
совращения они не просматриваются, решётка намеренно нерегулярна,
хаотична, как в вышеподобных константных опорах, так и в ударных
гласных. Нерегулярна в этих строках и аллитерация согласных,
за исключением первой строки 9 строфы, где как бы продолжен
вариативный ряд ребёнка: "ны - но - не - ни", и
делее сводятся на нет "вариации на тему" матери:
"рас - гряз - груж".
Говоря о рифме на этом отрезке текста, следует заметить, что
рифмовка типа: "глагол-существительное" - сохраняется
за Юноной, но после некоторой, видимо, преднамеренной осечки.
Так, после перекрёстной рифмы 8 и 9 строф вновь идёт двустрочная
рифмовка, но в первой же после этого 10 строфе мужская (!)
рифма "и я - струя" построена словно бы по материнскому
образцу - субстанционально. Очевидно, через характер рифмовки
и даётся двойное толкование этому соединительному союзу "и".
Это и побуждение "всё снимать", обращённое к мальчику,
и в то же время побуждение, как бы сказанное материнским доверительным
голосом.
И с другой стороны побуждение передаётся посредством мужской
рифмы, ведь именно Юнона являет собой активное начало в акте
совращения (см. постоянно женские и даже дактилические окончания
рифм ребёнка!). Характер огласовки последующего и последнего
высказывания мальчика остаётся почти прежним: наибольшая частотность
среди гласных - "е" и "а", среди согласных
- "т", но вместе с тем, в строке отказа: "не
надо, не надо, родимая" наибольшее количество "о"
- материнской гласной (см. строфу 4). Интересно также равномерное
распределение по всём четырём строкам по одному "я",
причём в опоясывающих, рамочных строках - это впервые появившиеся
личные местоимения.
Что касается пары рифм "хочешь - щекочешь", "родимая
- вымою", то очевидно, что к концу этого ряда впервые
в рифму ставится глагол, относящийся к ребёнку и ребёнок как
бы склоняется к действию, которое диктует ему Юнона.
Рассматривая 3 следующих высказывания Юноны (строфы 13, 16,
18), можно заметить, что ряд рифм Юноны движется по противоположной
направляющей, от именной пары "токарь-осокорь" через
характерную форму - существительное-глагол: "мать-рыдать"
к паре, которая оканчивает глагольный компонент указательным
местоимением "тут": "идут-тут", выдвигая
на первый план ни существа, ни действия, но само место. Так,
приблизительно начинался рифменный ряд мальчика. Эта характерная
зеркальность зафиксирована и в звукописи: если 13 строфа остаётся
в пределах средней частотности тех или иных звуков в высказываниях
Юноны, то в 16 строфе явно проступает нагнетение согласных
"т" и "н" - именно тех, которые превалировали
в первом высказывании мальчика (см. строфу 2). Нагнетение
этих согласных вызывает различные ассоциации: и нервной дрожи,
и звуковых аналогов "тени" и "нет", и
т.д., но главное - играет на уравнение изначального дитя и
Юноны в божественной бесплотной ипостаси.
И, наконец, 18 строфа - последнее высказывание Юноны огласовано
в первой строке чрезвычайно равномерно (почти все гласные
по 2 раза, кроме нагнетаемого "у" - 4, характерного
для голоса матери. 4 раза повторена и согласная "т".
Юнона как бы говорит с голоса и матери, и мальчика, и не в
этом ли суть совращения?!). Вторая же строка несколько нерегулярней
и наиболее частая в ней гласная - "о", наиболее
распространённая, впрочем, и во всём тексте. Иными словами,
Юнона "сливается" с основным звуковым фоном происходящего.
Теперь о "партии"
матери. Звуковая организация 14 и 15 строф доведена до изощрённости.
Вот вариации: "сю - сю - са -
сы - се -ся", "да - да - да - ду - ду - ду - ди
- ди", "ве - ви - во - во - ве", "те -
ту - то - ти - та - та", "ре - ро - ро - ро - ру",
"лы - лю - ла - ля - ля", "бе - би - бу".
Наряду с этим есть и более крупные аллитерационные блоки:
"беду - буди", "гордую - груди". Во всём
этом есть своего рода звуковая магика заклинания, которая
усиливает смысл самого высказывания. Причём, на эти две строфы
приходится как бы кульминация звукописи в высказываниях матери,
отголоски которой отзываются в последующих строфах.
Действительно, в момент самого совращения, конфликт достигает
предела, это и естественно, но вместе с тем, из многих внесмысловых,
формальных характеристик видно, что мать при всём при том
вынуждена играть в ту игру, которую ей задала Юнона. К примеру,
обратимся к характеру рифм в этих строфах. 14 строфа зарифмована
перекрёстно: "веду - встретьте - беду - в сети".
Выше мы видели, что и способ такой рифмовки, и тип рифмы:
"глагол - существительное" (поначалу "существительное
- глагол"!) был задан в момент совращения Юноной, и мать
вынуждена включиться в круговерть этого действа, этого акта.
Это единство противоположностей оформлено в некотором смысле
и в звуковом плане. Вот, например, звуковая вариация, идущая
по словам и матери, и Юноны: "руд - рыд - рыт - ред -
рёд" и т.п. В самом материнском проклятии (строфа 15)
восстанавливается двустрочная рифмовка, но тип её остаётся
прежним: "буди - груди".
17 строфа зарифмована опять перекрёстно, но рифмуются уже
другие части речи: существительное - наречие, существительное
- прилагательное ("водоём - вдвоём", "ивах
- красивых"). Отсутствие глагола в рифмах этой строфы
подчёркивает, видимо, бессилие матери вмешаться в происходящее
"дело красивых".
Но вместе с тем, мать как бы вновь обретает своё первоначальное
поле рифм, вырываясь из оцепенения. В звукописи продолжены
вариативные ряды: "де - до - да - де" или "во
- ве - ва - во - вы", или "рка - кры - кра",
"со - сы - ся - си".
Преднамеренность подобной звукописи могла бы показаться надуманной,
если бы не видимая опора в различных строфах на различные
согласные, а также их почти полное отсутствие в отдельных
строках, равно как нагнетение в других. Так, в 19 строфе варьируется
следующий ряд: "рек - раз - ред - раз - рог - рук",
или же, начинаясь в 19 строфе, переходит в 20 строфу вариация:
"ди - да - де - да - ди - де - ду".
Все эти переклички словно бы скрепляют текст высказывания
воедино, вместе с тем даже в этих "атомах" или фонемах
задавая множественность и звуковое регулированное разнообразие.
В 19 строфе впервые использована опоясывающая рифма ("вместе
- образа - рука - мести"). И опять это оправдано функционально,
выдавая стремление матери окружить Юнону и сына. Части речи,
поставленные в рифму, также подтверждают, что мать выбралась
из плена чар гордой шлюхи, и теперь ею владеет определённое
намерение. И всё же рифма "образа - рука" своим
диссонансом демонстрирует как нелегко матери от образов (т.е.
идеи) перейти к делу мести. Рука ведь, тем не менее, как видим,
дрогнула.
Но в 20 строфе восстанавливается двустрочная мужская рифма:
"они - в тени", и напоследок, как отзвук происходящей
погони, доносится: "да - ди - де - ду"...
21 строфа стоит особняком и в исследуемом отношении. Так,
рифмовка этой строфы в подавляющей части - глагольная: "спустилась
- пустилась", "развевалась - касались", "потише
- слушалась - ближней - скрылась", "убивать - нужно
- кровать - дружно", "коли - пли". Видно, что
созвучность рифм убывает и в 4-8 строках она минимальна: "слушалась
- скрылась" или неглагольная ассонансная рифма: "потише
- ближней". И вновь, как воспоминание о происшедшем,
рифмовка на этом отрезке перекрёстная. Неточность рифм, видимо,
выявляет психологическое свойство отторгать, вытеснять неприятные
воспоминания, делая их смутными, приблизительными.
Ведь далее, когда речь идёт о том, как поступить, мать четка
в командах, как и в акцентирующих их рифмах: "убивать
- нужно - кровать - дружно - коли - пли".
Единственное существительное в ряду рифм - "кровать"
и впрямь стягивает на себе два существа, равно как и существо
самого конфликта. Мужской характер этой перекрёстной рифмы:
"убивать - кровать" опять возвращает нас к Юноне
(см.выше), но вместе с ней теперь и к мальчику, обретшему
мужской пол.
И, наконец, убийственная рифма: "коли - пли". Так,
двумя глаголами убийства кончен ряд рифм матери, начинавшийся,
как помнится, двумя существительными: "корысть - хворость".
Вот итог действия, итог становления.
Относительно звукописи 21 строфы можно сказать, что аллитерационные
блоки здесь крупнее просто "вариационных рядов",
наблюдавшихся выше, и достигают временами характера внутренних
рифм. Вот ряд созвучий: "пыли - пальцами", "итти
- потише", "ближней - хищно", "ну же,
друзья мои - сразу и дружно" (почти зеркальная рифмовка!),
"дрекольями дружно коли!", или же примеры аллитерации:
"сегоДНЯ, ДА Нужно", "сРЕда - гРЕх" и
др.
Что касается превалирования отдельных звуков, то наиболее
частые в этой строфе гласные "о", "а",
"и", согласные "с", "л". Вместе
с тем, на различных отрезках строфы нагнетение различных звуков
различно. Так, в четверостишии о том, как Юнона уводит ребёнка,
заметное преимущество шипящих согласных "ш", "щ",
"ж", что в общем-то выдаёт ещё раз отношение матери
к случившемуся, а в конечных, командных строках заметно явное
преобладание звонких согласных "д", "з",
при наличии того же "ж".
Следует заметить, что характер распределения отдельных звуков
в этой строфе почти повторяет первоначальное бранное восклицание
Юноны (строфа 5), иначе говоря, мать так-таки овладевает собственным
полем, занятым было Юноной, однако же при заметном уменьшении
опорной согласной "т", "доставшейся" от
ребёнка (строфа 2). То есть, даже в звуковом оформлении уже
предстаёт результат происходящего: мать вытесняет Юнону, но
с отречением от предпочтений сына.
Так сюжетно и происходит в 22 и 23 строфах. В этих строфах
свои звуковые предпочтения, отличные в целом от звуковых "партий"
героев. В 22 строфе чаще встречаются гласные "а",
"е", "ы", согласные "м", "н".
Из аллитераций же явна лишь одна, которая проявляется в трёх
строках четверостишья и наконец обретает форму существительного:
"седым - подымать - дым", причём,
все эти слова поставлены в рифменные окончания строк: "мать
- подымать" и "седым - дым". Рифма в строфе
- перекрёстная. Теперь этот перекрёст - перекрёст матери и
сына, это их переплёт.
Чрезвычайно интересен сам характер рифм. В первой рифме: "мать
- подымать" существительное как бы вливается в глагол
и в этом действии остаётся скрытой, как в дыму, сама мать,
а во второй: "седым - дым" происходит обратное:
из качественной характеристики вычленяется почти окончание
- дым, субстанция самой эфемерности.
И последняя пара рифм: "ура - красива - пера - диво",
окончательно лишённая глаголов, в которой междометие рифмуется
с существительным в функции определения, а краткое прилагательное
с последним, ещё более эфемерным существительным - "диво".
Последнее четверостишие, также как и предыдущее, зарифмованно
перекрёстно, и стихотворение, начинавшееся женской двустрочной
рифмой, завершается женской же, но перекрёстной рифмой.
И если двустрочный принцип рифмовки можно, видимо, истолковывать
в этом стихотворении как стремление к обособлению, автономизации
тех или иных отношений, как расчёт на собственный голос (так
Юнона и мать перетягивают попеременно ребёнка в плоскость
своего влияния, как бы перетягивая одно и то же одеяло), то,
говоря о перекрёстной рифме, можно добавить к тому, что было
сказано выше, ещё предположение об узле, переплетённости отношений,
их многомерном характере.
В звуковом плане для последней строфы характерно нагнетение
рокочущих "р" в первых трёх строках, сквозь ряд
которых опять как дым (см. вздымалось) уносится голубооблачное
диво, лишённое и признака этого рокота. Из всех гласных в
этой заключительной строфе превалирует "а", с которой,
как противительным союзом и начинается четверостишие. Вторая
по частотности - гласная "о", скрытый знак восторга,
удивления, потрясения. Ею, самой частой гласной текста, и
заканчивается как строфа, так и произведение в целом.
Теперь о "Романсе" и прежде всего о его рифмовке.
Рифма на протяжении всего "Романса" ассонансная,
но в отличие от русского ассонанса, по традициям испанской
поэтики в нём совпадают только гласные буквы, а согласные
- различны. В данном случае этими гласными во всём "Романсе"
являются ударная "а" и безударное "о".
Иными словами, весь "Романс" построен на одной рифме,
т.е. является моноримом. Помимо этого, указанные две гласные
- и наиболее распространённые среди всех букв "Романса"
(98 и 79 случаев соответственно). Зарифмованы все вторые и
четвёртые строки. Первые и третьи строки не рифмуются. Вот
ряд рифм:
nardos - mirando
brazos - estano
gitanos - blancos
gitanos - cerrados
caballos - almidonado
llano - cerrados
gitanos - entornados
arbol - mano
gitanos - velando |
жасмины - глядящий
руки - олово
цыгане - белые
цыгане - закрытые
кони - накрахмаленные
рассвет - закрытые
цыгане - прикрытые
дерево - рука
цыгане - разносящий |
Уже сам этот ряд обнаруживает
ещё одну особенность рифмовки: по одну сторону находится группа
существительных, а по другую - различных частей речи, в основном
тех или иных определений, и что примечательно, ни одного глагола,
хотя в других (1 и 3-х строках) глаголы превалируют в конце
строк.
Если брать рифменный ряд в семантическом плане, как самостоятельное
поле особых поэтических ассоциаций, то можно заметить почти
полную принадлежность ряда имён органическом, "тварному"
миру (кроме единственного случа - "рассвета") с
регулярностью появления в нём из действующих лиц лишь цыган.
Луна же и ребёнок появляются в рифменном ряду лишь "рукой".
Но, впрочем, привяжем наши замечания к тексту. Явление луны
в кузню к ребёнку оформлено наиболее полнозвучной рифмой "de
nardos - mirando", и тем самым напоминает восточную поэтическую
традицию, когда газель начинается с "хусни матлаъ"
- зарифмованного бейта, в котором даётся как бы зародыш всего
последующего. С этой точки зрения семантический анализ двух
слов, стоящих в рифме, и впрямь проливает свет на многое.
Что касается лунного рифменного слова "de nardos"
- "из жасминов", то это существительное выступает
в контексте всего предложения в качестве определения ("жасминовая
шаль"). Иными словами, субстанциональное превращается
в качество, свойство, как если бы густой, подобный молоку
лунный свет мы попытались бы взять в руки. И эта эфемерность,
неуловимость луны пройдёт её характеристикой сквозь весь "Романс".
Характерно и рифменное окончание, отнесённое к ребёнку: "mirando"
- "смотрящий" - причастие, или иначе говоря, действие,
обращённое в качество, или же безысходное действие.
Говоря о звуковом плане как начальных строк, так и "Романса"
в целом, следует предупредить, что особой звуковой маркировки
героев происходящего здесь нет. Есть нагнетения определённых
звуков в определённых частях текста, но они не имеют крепкой
и однозначной привязки к действующим лицам. Так, превалирование
гласных "а" и "о" распределено почти равномерно
по всем "блокам" сил, равно как и наиболее частых
согласных "n", "l", "s" и др.
Иное дело, что на различных отрезках текста их соотношение
является различным. Эти предпочтения и рассмотрим повнимательней.
Звуковые предпочтения, как и характерность рифм, заявленные
выше, задаются с первого же четверостишия (13 "a",
по 8 "o", "n", "l"). Есть здесь
и синтаксическая анафора "El nino la", повторяющаяся
в 3 и 4 строках с различными окончаниями. Вообще, анафоры,
как и эпифоры различных уровней (лексические, синтаксические,
строфические), играют в "Романсе" значительную роль
и довольно распространены по всему тексту ("Huye luna,
luna, luna...", "Nino, dejame...", "vinieran
los gitanos" - "vengan los gitanos" и др).
Часть этих анафор и эпифор мы рассмотрели, анализируя синтаксически
параллельные конструкции, здесь же, прежде чем давать им подробное
истолкование, предварительно следует отметить, что повторность
с вариативность в "Романсе" в целом идёт по более
крупным, нежели слово (как это обстоит в "Любовнике Юноны"),
единицам.
Продолжая рассмотрение регулярностей в различного рода звуковых
повторах первого четверостишия, следует указать и на три ударные
"i" в решётке гласных третьей строки. Но поскольку
такие примеры в "Романсе" редки, то вряд ли могут
быть истолкованы как преднамеренные. И всё же большое количество
гласных "а" и "о" как в этой части, так
и во всём "Романсе" предопределено, видимо, его
напевным характером, иными словами, это нагнетение как бы
"овнешнённое", привходящее, обусловленное внешним,
внетекстовым фактором. Причём, подавляющая часть ударных позиций
замещается именно этими гласными.
В подобном случае, как и при метрическом разборе, можно придерживаться
приёма вычленения, "вынесения за скобки" преобладающих,
стабильно-фоновых элементов, и рассматривать звуковую специфику,
звуковой рисунок или узор в вариативной части. Анализ под
этим углом зрения первого же четверостишия можеть натолкнуть
на мысль, что в звуковом строе всех трёх действующих лиц присутствует
эта "доминанта" в виде "а" или "о"
и плюс к тому "тоника" в виде "u" у "luna",
"i" - "nino", "i" - "gitanos".
Общего, как видим, у "nino" и "gitanos"
больше, чем у "luna" и "gitanos", и действительно,
ребёнок принадлежит цыганам, что называется, обеими гласными,
но вместе с тем есть общее и между луной и цыганами, в этом
"a" - ударном у цыган и безударном у луны, как и
между "luna" и "nino" в чём-то внебуквенном,
небуквальном, неформальном - структуре слова, структуре его
звучания.
Признавая все эти допущения, можно сказать, что поисходящее
в "Романсе" - "поле" цыган (преобладание
"а" и "о"), и впрямь, действие происходит
в их кузне, и романса луна и ребёнок касаются частично: "а"
луны и "о" ребёнка. Это есть то, что условно говоря,
заканонизировано. Импровизация же - это то, что покрывается
данным "полем", а именно - опорность на ударное
"u", сопровождающее луну или "i" ребёнка.
Вместе с тем - и к концу "Романса" это проявляется
всё более явственно - есть ещё одна опорноударная гласная
- "e", не содержащаяся в звуковом составе ни одного
из действующих лиц, но которая находит своё воплощение в самом
конце "Романса" в незаметном доселе "El aire
la vela, vela"... Эта ударная "e" как бы мерцает
в тексте, вплетаясь то в речь луны, то ребёнка, то в действие
цыган, и находит свой исход в ветре, свече и парусе:
El aire la vela, vela,
El aire la esta velando.
Москва, 1985
часть
1 | часть
2 >> |