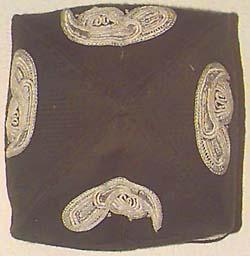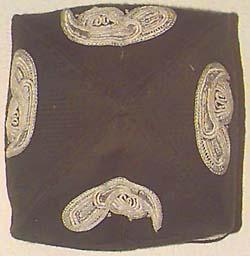|
…Однажды мне приснился сон. Будто бы Осип Мандельштам
только что вернулся из своей поездки в Армению и что-то
рассказывает мне. За его спиной в дверном косяке Москва
30-х, марширующие военные, тревога нарастающих шагов в
сапогах… «Ты знаешь, Хамид, кого я видел там?» – «Чаренца?»
– спрашиваю я. «Да, Егише Чаренца. И знаешь, он мне назвал
самого грустного поэта мира. Его, оказывается, зовут Надым…»
И здесь Мандельштам читает строки неизвестного мне поэта,
и от их невозможной красоты я просыпаюсь. В тот же день
я выяснил у своего друга-тюрколога, что и впрямь есть
такой великий турецкий поэт 18-го века, поэт Эпохи Тюльпанов,
когда Стамбул ещё раз соединился с Европой.
Потом я долго думал, почему еврей
со слов армянина открыл мне – тюрку моего же поэта Надыма
и не нашёл ничего лучше, чем попенять на подсознание,
которое скомбинировало из М-Н-Д Мандельштама подобное
Н-Д-М Надыма.
В
этом зачине есть почти всё, что я хочу сказать о Бродском,
начиная от мистики букв, которой он был пристрастен, и,
кончая мистикой имени, которую он сам пережил. Второй
Ося или Иосиф, как и самый первобытный – Иосиф Прекрасный
испытал дно колодца от рук собратьев, и как Юсуф в Египте,
нашёл признание вне своего Ханаана, вне своей страны.
И если говорить об его Зулейхе или библейской жене Потифара,
то, конечно же, эта требовательная красавица – Венеция.
Магика этой мифологемы имени настолько
мощна, что её можно заметить, как это ни странно и как
это ни страшно и в судьбе другого Иосифа – Сталина-Джугашвили.
И здесь можно завязать первый узел: Поэтики и Политики.
Советская Империя была во многом
Империей слова. Как ни парадоксально, но, казалось бы,
марксизм говорит о приоритете материального над идеальным,
однако ленинизм незаметно подменяет марксистскую политэкономию
на волюнтаристкую политологию, когда идея власти становится
довлеющей. Созданная на этой основе империя диктатуры
пролетариата стала насквозь идеологической системой, в
которой суггестивность пропаганды была намного важнее
экономических реалий. Отсюда то неподдельное значение,
которое система придавала литературе и литераторам. Оттого
и литераторы автоматически оказывались в авангарде партийного
внимания, начиная от друга Ленина Горького и до друга
Горбачёва – Евтушенко.
На этом противостоянии и взросла
судьба Иосифа Бродского. Иначе говоря, Бродский был возможен
только лишь в Советской Империи, ведь абсурдно представить
себе какого-нибудь английского, французского или итальянского
поэта двадцатого века, которого бы упекли в ссылку за
тунеядство, изгнали из страны за поэзию, которая, в общем-то,
аполитична и приватна. В этом смысле, если бы не было
Советской Империи в судьбе Бродского, то, говоря словам
Вольтера, её следовало бы выдумать.
И всё же взаимоотношения Бродского
с Империей значительно сложнее и многослойней, нежели
исконно русская формула: Поэт и Власть. В случае с Бродским
это преодоление слова словом. Слова общественно-лозунгового,
обесцененного, проституированного словом частным, метаболическим,
сокровенным. Идиостиль Бродского внешне как бы принимает
имперско-тоталитарную форму, он традиционен в форме стиха,
но взрывает его изнутри. Мысль его располагается внутри
этой жёсткой формы так, как угодно ей – мысли: захочет
– протянется на три с половиной строки и оборвётся в самом
неподобающем месте, захочет – тянется лишь до междометия.
Это не искусственный enjambment, это свободное течение
мысли внутри заданной извне формы.
Никто в русской поэзии не рифмовал
столь часто и охотно всякую мелочь речи – служебные слова,
предлоги, междометия, союзы. И в этом та же «бродская»
философия частности, но с другой стороны это как перевитая
лента ДНК, переходящая в спираль и соединяющаяся частями
спирали в четвертичную структуру белка, которая лишь при
такой сложности приобретает свойства жизни.
Бродский стал «частью речи», частью
русской речи, частью русской советской речи и в этом смысле
эта самая русская советская речь оказывала постоянное
воздействие на Бродского своим существованием. И дело
не только в том, что «календарь Москвы заражён Кораном»,
весь воздух русской речи пропитан Степью, Азией, весь
русский менталитет идёт оттуда. Оттуда русская неприкаянность
и непоседливость, если не сказать кочевничество духа,
отсюда – «жизнь прожить – не поле перейти», а значительно
больший путь. Как говорил сам Бродский:
Узнаю этот ветер, налетающий
на траву,
под него ложащуюся, точно под татарву.
Узнаю этот лист, в придорожную грязь
падающий, как обагренный князь.
Растекаясь широкой стрелой по косой скуле
деревянного дома в чужой земле,
что гуся по полету, осень в стекле внизу
узнает по лицу слезу.
И, глаза закатывая к потолку,
я не слово о номер забыл говорю полку,
но кайсацкое имя язык во рту
шевелит в ночи, как ярлык в Орду.
Всё
советское существование было гигантским котлом разнообразнейших
культур. Философ Сократ Шаркиев, описывая этот феномен
в одной из своих работ, писал: «А теперь я представляю
себе свою же советскую жизнь. Детский сад в который я
ходил в горном кишлаке в Ферганской долине. Влюблённая
в своего армейского друга воспитательница Валентина, играющая
на баяне и поющая о «мерцающих звёздах Сибири», сын местной
судьи кыргыз Тулян по кличке Толян, Чингизхан, которому
я разбил зеркальце и который грозит приговором своей матери
привязать меня к хвосту кобылы, мой соперник по Леночке
Коробочкиной татарин Ринат, таскающий ей из дому татарские
беляши, и Леночка ненавидит мою самсу, хотя и танцует
матросский танец со мной. Грек Илюша Пентакиди, гомерически
ведающий нам, что Леночка – его, что он вчера делал ей
«стукалочку» (что за эллинское приспособление, как бык,
на котором украдена Прекрасная Елена? – не знаю до сих
пор), словом и т.д. и т.п.
Школа? Армия? Кенигсберг.
Где-то лежит Кант, где-то спрятана Янтарная комната: об
этом рассказывает рижанин Алтухов, знающий всё по-оккупантски
хозяйственно. Зато каптенармус Даниелиус Швярус по кличке
Примус, как лесной брат вскрытую шарит по нашим послепобывочным
карманам и сдаёт оккупанта за оккупантом особисту-чекисту.
А вот астраханский ногай Бадретдинов занят своим бизнесом:
взамен на астраханскую икру, высылаемую на городскую почту
«До востребования» скупает яловые и кожанные офицерские
сапоги и отсылает на родину, а заработанную прибавочную
стоимость тратит на изюмовые булочки в офицерском Чепке,
которые напоминают ему мамины печенья. Казах Куанышев
гибнет от удушающей астмы бесстепья, таджик Абдулло Нуриев
молится вскрытую в туалете, грузин гарцует, армянин «ачаровывает»
кухарку Нюшу – советская жизнь течёт… Пойдите на базар,
сядьте в тюрьму, лягте на советское кладбище – разве не
то же самое буйное разношерстье…
Это я сходу, как говорят
англичане «с макушки моей головы» или по-русски – с кондачка
– рассказал то, что пришло в голову. Вот ведь какой была
советская жизнь. Огромным цивилизационным котлом, в котором
переваривались, приваривались, уваривались буддийское
с исламом, атеистическое с гомосексуалистским, национальное
с коммунистическим, мифологическое с идеологическим и
несть тому числа, что с чем да в какой комбинации».
Поэтому
совсем не удивительно, что у Бродского можно найти на
первый взгляд редчайшие образы, которые вдруг выплывают
там, где их никто не ищет. В «Большой Элегии Джону Донну»
Бродский использует редкий по красоте троп:
Дыра в сей ткани. Всяк,
кто хочет, рвет.
Со всех концов. Уйдет. Вернется снова.
Еще рывок! И только небосвод
во мраке иногда берет иглу портного.
Спи, спи, Джон Донн. Усни, себя не мучь.
Мало
того, что примерно в те же годы узбекский поэт примерно
того же возраста Абдулла Арипов написал примерно такое
же стихотворение, где всё перечисляемое на свете, кроме
человеческой зависти, спит (мало ли как советский застой
отражался в поэтическом сознании), у другого узбекского
поэта начала века Чулпона есть вот такие строки с тем
же самым удивительным образом:
Если одежда мира порвана
(дырява), то нечего печалиться,
В один из дней на землю будет намётан ватой снег…
Иной
раз переклички Бродского с Чулпоном, который был расстрелян
в сталинских застенках в 1938 году, приобретают чуть ли
не мистический характер. Вот Бродский:
Когда-нибудь оно, а не
– увы –
мы, захлестнет решетку променада
и двинется под возгласы «не надо»,
вздымая гребни выше головы,
туда, где ты пила свое вино,
спала в саду, просушивала блузку, –
круша столы, грядущему моллюску готовя дно.
А
вот Чулпон в концовке своего стихотворения «Огненная вода»:
Вспенится море, взволнуется,
хлынет,
С шумом перехлестывая через ваш гроб…
Это
всего лишь переклички, которые, разумеется, можно найти
соответственно и в других поэзиях. Но я хочу рассказать
лишь на одном примере о том, что больше случайных или
неслучайных перекличек.
Казахская
устная поэзия, быть может, более всех остальных сохранила
свои те самые степные, кочевнические черты. О ней и речь.
У казахов до сих пор существует охота на лис. Всадники
гонят лису по степи в одном направлении. Когда лиса достаточно
разгонится в этом направлении, всадники незаметно обходят
её стороной и резко меняют направление погони. Этот момент
называется «кайтарыс», что-то навроде «облома». Лиса бежит
теперь вбок. Когда она разгонится в этом направлении,
всадники ещё раз заходят со стороны и опять резко меняют
направление погони. После двух-трёх «обломов» происходит
главное – всадники заходят на этот раз не сбоку, а спереди.
Это – «улуу кайтарыс» – «великий облом». Лиса падает замертво!
Это вольное степное создание при всём своём хитром уме
не способна представить себе, что степь, эта открытая
на все четыре стороны степь, замкнута.
Такова и эстетика «жир» – казахского
традиционного стихотворения. Задаётся тема. Когда сознание
привыкает к её развитию, поэт-сказитель резко меняет курс
своей мысли. Опять идёт нанизывание подобного и после
двух-трёх «обломов» или скорее «изломов» стихотворение
обрывается на «великом обломе», чаще всего на неожиданном
антитезисе. Чтобы не быть голословным приведу два-три
примера из Базарбая, казахского «жирау» – сказителя 18-го
века.
Каргадан карга туар каркылдаган
Жаксыдан жаксы туар жаркылдаган…
От вороны (карги) рождается
ворона (карга) каркающая,
От хорошего рождается хороший, блистающий…
Этим
тезисом начинается стихотворение. Следом этот тезис развивается,
что рождается от чего – вот ключ к этой теме. Затем тема
слегка меняется, вернее подменяется: добавляется другой
аспект генеративности – исторический. Что было в прошлом,
а что – теперь. Мысль довольно скоро привыкает к изоморфному
развитию этой темы и в этот момент ещё одна смена перспективы
– на этическую: как пропадает в людях добро, поскольку
из зла рождается зло и т.д. и т.п. Поэт может загружать
эту часть прогрессией пословиц или ещё чем – главное усыпить
сознание слушателя, настроенного на эту самую волну. И
вдруг концовка стихотворения:
Алардын арасинде бизде
журмиз
Топракда зартуймедек жаркылдаган.
Среди них (этого народа)
и мы ходим-живём
Подобно золотой пуговице в пыли…
Помните
начало стихотворения, как от хорошего рождается хороший,
блистающий. Так вот эта пуговица, которая должна бы застёгивать
царственные халаты сверкнула вдруг в пыли, пробивая всё
стихотворение от начала и до конца необыкновенным светом,
от которого хитроумное сознание уже неспособно сбежать,
оно падает замертво перед поэтом. Начало и конец стихотворения
как бы отражаются в друг друге и это напряжение между
двумя полюсами вдруг озаряет всё стихотворение.
Или вот другой пример из того
же Базарбая:
Айдында айдан башка ай
жок…
В лунности нет луны кроме
луны…
Следом
прогрессия того, чего ещё нет на свете со всеми этими
изломами, изгибами мысли, пока, наконец, всё не разрешается
в последней строке:
…дунянын барлыгы мал бок.
…а впрочем, весь мир –
коровья лепёшка – говно.
И
эта коровья лепёшка, которая лежит земным круглым отражением
небесной луны, пришлёпывает всё стихотворение снизу вверх
и весь человек оказывается между лунностью и «говностью»,
соединяя своим сознанием эти два полюса, между которыми
бьёт ток стиха или жизни.
И
вот теперь техника «длинномысленного» Бродского, которая
удивительно схожа с этой самой казахской поэтической эстетикой
охоты на лис. Вот первый приходящий на ум пример – самое
первое стихотворение, с которого для меня начинался запрещённый,
машинописный Бродский:
Я пришел к Рождеству с
пустым карманом.
Издатель тянет с моим романом.
Календарь Москвы заражен Кораном.
Не могу я встать и поехать в гости
ни к приятелю, у которого плачут детки,
ни в семейный дом, ни к знакомой девке.
Всюду необходимы деньги.
Я сижу на стуле, трясусь от злости.
Так
начинается «Речь о пролитом молоке». Дальше Бродский,
развивая тезис отсутствия денег, говорит: «Можно в месткоме
занять, но это – все равно, что занять у бабы». И переходит
на тему этой самой бабы. Но только привыкаешь к ней, как
мысль перескакивает на Маркса и на социологию. «Равенство,
брат, исключает братство. В этом следует разобраться.
Рабство всегда порождает рабство. Даже с помощью революций.
Капиталист развел коммунистов. Коммунисты превратились
в министров. Последние плодят морфинистов» и т.д. и т.п.
Потом начинается этика: «Деньги похожи на добродетель.
Не падая сверху – Аллах свидетель, – деньги чаще летят
на ветер не хуже честного слова…» Затем поэт сосредотачивается
на себе: «Я занят внутренним совершенством: полночь –
полбанки – лира. Для меня деревья дороже леса. У меня
нет общего интереса. Но скорость внутреннего прогресса
больше, чем скорость мира». Как только не гоняется мысль
– из бока в бок, из стороны в сторону: здесь тебе и расизм,
и пацифизм, и филантропия, и культура и религия, пока
на сороковом-роковом повороте не является совершенно ниоткуда
вот это:
Зелень лета, эх, зелень
лета!
Что мне шепчет куст бересклета?
Хорошо пройтись без жилета!
Зелень лета вернется.
Ходит девочка, эх, в платочке.
Ходит по полю, рвет цветочки,
Взять бы в дочки, эх, взять бы в дочки.
В небе ласточка вьется.
Сравните
это, как и в случае с Базарбаем, с началом стихотворения
и ведь очевидно, насколько противоположно это чувство
изначальному. Человек, запертый в безденежье, искушаемый
плотью, вколоченный в стул и стянутый до пространства
этого стула и вдруг совершенное бескорыстие природы, её
обнажение – хорошо бы скинуть даже последнее – жилет и
взлететь небесной птицей, которая не сеет и не жнёт, а
лишь купается в божьей милости. И даже изначальная проституированная
девка как Святая Магдалена превращается при этом в невинную
дочку…
Можно
было бы продолжать эту тему, разбирая многие «эпики» или
«жиры» Бродского, так, чтобы сознание свыклось с этим
течением мысли, усвоило его и канонизировало, но я сам
задал кочевую форму, которой хорошо бы последовать самому.
…Пару
лет назад Александр Солженицын посвятил один из выпусков
своего «Дневника писателя» поэзии Бродского и как в шашечной
игре «Четыре волка и один козлёнок», камня на камне не
оставил от своего Нобелевского со-лауреата. Сначала он
расправился с «игрушечной» отсидкой Бродского в ГУЛАГЕ,
затем с «русской» частью поэзии Бродского, доказал, что
поэт не знает «расширительных возможностей русского языка»,
потом разбил его на международной почве по поводу злосчастной
Марии Стюарт и, в конце концов, лишил Бродского даже еврейского
венца, говоря, что поэт никогда не поднимал голоса в защиту
даже евреев. Я вспоминаю это не в защиту еврея Бродского
от русского Солженицына. Я вспоминаю это в различение
метонимической, а отсюда изначально тяготеющей к тоталитарности
прозы от метафорической, а стало быть, равночастной поэзии.
Солженицын судит Бродского не законами поэзии Бродского,
(как основоположил в своё время Пушкин), а законами прозы
Солженицына. А ведь если Бродский в своей поэзии формально
советский, то Солженицын советский содержательно (пусть
со знаком минус). Один – само анти-воплощение Советской
имперской прозы, другой – поэт, возможный как сон лишь
в этой Империи. Да, Солженицын наверняка во многом по-солженицынски
прав в своём дневнике, но вот странное дело, в своей уж
если не «всемирной отзывчивости», так, по крайней мере,
в отзывчивости «евроазиатской» еврей Бродский оказывается
более русским, нежели «обустраивающийся» лишь в своём
русский Солженицын…
А впрочем, чего это я – узбек,
рассуждаю об этих материях. Или это опять всё та же мистика
букв: Б-Р-Д – вольный бард Бродский и С-Л-Ж-Н – повязанное
служение Солженицына… |