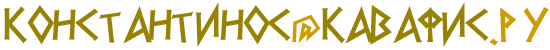Летний вечер. Пустынный берег
острова – может быть, это Лемнос. Краски мало-помалу гаснут.
В бухте между высокими скалами стоит на якоре корабль. Оттуда
доносятся возгласы и смех; матросы развлекаются играми или
борьбой, некоторые плещутся в воде. Перед входом в пещеру,
которая служит жильем, сидят двое: один из них – зрелый
и, видно, многоопытный муж, обросший густой бородой, второй
– могучий юноша, пытливые глаза которого горят страстью.
Чертами лица он похож на Ахилла, только нежнее – не сын
ли это Ахилла, Неоптолем? Серебряным отблеском солнца, неторопливо
заходящим в розовом и лиловом небе, движется медлительно-робко
по небосводу узенький, блеклый полумесяц. Старший, Отшельник,
проведший много лет в одиночестве и безмолвии, видимо, долго
и неумолчно говорил, обращаясь к нечаянному своему собеседнику,
появившемуся здесь всего два часа назад; теперь он снова
погружен в молчание – глубокое, удовлетворенное, и совсем
иное молчание, – и на нем лежит печать пусть бесплодной,
но такой человеческой усталости и тяжкой скорби. Высокое
его чело омрачено тенью каких-то сердечных угрызений. И
все же он не отрываясь рассматривает прекрасное лицо Юноши,
словно чего-то ожидая. В глубине пещеры поблескивает его
оружие: большой, искусно выделанный щит с изображением подвигов
Геракла и три прославленных его копья, единственные в своем
роде. Юноша, словно он принимает мучительно трудное решение,
собравшись с духом, начинает говорить:
Высокочтимый друг, я рассчитываю, что ты
согласишься
со мной.
Мы, молодые,
и, как люди говорят, избранные в последний миг для того,
чтобы пожать победу, подготовленную вашим оружьем,
вашими ранами, вашею смертью,
мы, молодые, полны восхищения всем, что сделано вами,
однако
и мы отмечены роком, но раны наши незримы,
и ни один из нас не может бросить на чашу весов
ничего, подобного доблести вашей,
и ни у кого из нас нет такой благороднейшей крови,
как та, зримая, что пролили вы в зримых битвах
и поединках на глазах у людей.
Славы такой мы не знаем –
да кто и желал этой славы?
Ведь нам не досталось на долю и часа досуга – нам
приходилось
платить по чужим долгам и счетам. И мы не видали,
как утром рука открывает окошко напротив
и с важным спокойствием делает дело,
никому не нужное и все же необходимое:
вешает на гвоздик клетку с канарейкой.
Все речи взрослых о мертвых
и о героях,
странные, страшные речи преследовали нас даже во сне,
пробираясь под запертой дверью, вторгаясь
и
в трапезный зал,
где кубки сверкали и песни звенели и где покрывало
незримой плясуньи колыхалось беззвучно,
подобно прозрачной разлуке, кружившей
между жизнью и смертью. Эта прозрачность,
трепетавшая в ритме танца, утешала немного
сны нашего детства, смягчая тени деревьев,
густевших на белой стене в праздном сияньи луны.
В одно время с пищей для нас
готовили пищу
для
мертвых. В час обеда
со стола брали амфоры с медом и маслом
и уносили на могилы неведомых мертвецов. Мы не
различали
сосуды с вином и сосуды с мирром для мертвых.
Не
знали, какой
из сосудов для нас, какой – для покойников. Стук
ложки о дно тарелки казался нам грозным перстом,
ударяющим нас по плечу. Мы рывком озирались. Никого.
За пределами наших покоев
– барабаны и трубы,
красные искры, немые удары кузнечного молота
в
тайных подвалах,
где ночью и днем ковались доспехи и копья,
и другие удары в подземных пещерах,
где ваяли бюсты и статуи героев войны и богов войны,
отнюдь
не
гимнастов или поэтов, а сотни и сотни надгробий, –
нагие фигуры бойцов, стоявшие над горизонтом,
заставляли забыть о горестно-плоской линии смерти.
Лишь
иногда
они наклоняли голову легким движением шеи,
подобно цветку над пропастью; и пропасти не было
видно
– мастера
научились искусно (а может быть, их заставляли?)
скрывать от взоров людей и пропасть, и прочие
мелочи
жизни.
То была длинная белая галерея (она и осталась),
где справа и слева стояли надгробные стелы. И нам
запрещалось
останавливать взгляд хоть немного на стройных
телах, на мраморном завитке, ниспадавшем порой на чело,
словно сдутом устами внезапного благоуханного ветра
в золотой летний полдень, – да, мне кажется,
благоуханье
лимонных цветов и солнцем прогретой ивы.
В
наследство нам дали
геройский пример: кто просил их об этом? Зачем
не оставить нас было в ничтожестве нашем? Ведь мы
не
желаем
меряться доблестью с ними; каков же был, впрочем,
выигрыш
ваш?
И каков – выигрыш наш?
О, твой благородный уход мне
понятен, мой
высокочтимый
друг.
Его оправдать нетрудно – ведь ты его объясняешь
не душевною скорбью, не болью, а неисцелимою раной.
Укус ядовитой змеи (а может, премудрого змия?)
стал отличным предлогом, чтобы жить тебе здесь одному,
и, даже когда ты понял, что жить тебе здесь
невозможно,
ты свернулся в кольцо, как змея,
вцепившаяся в собственный хвост. (Ах, как часто и я
так
хотел!)
Быть может, живя тут отшельником, ты готовил
возмездье
–
чтобы греки признали тебя или хотя бы
признали оружье твое. И теперь ты оправдан:
не буду скрывать, я ради оружья пришел, и ты
догадался
об этом,
наконец-то поможет оно одержать грекам победу,
(оракул был ясен), а мне предназначено им воевать.
Но прежде всего я пришел для
тебя. Нет, оружие я бы
не
принял,
если б его мне вручил ты за то,
что я тебя признаю, или в благодарность за то,
что тебе предлагаю спасенье – тебе,
пораженному страшными язвами и одиночеством
горьким,
предлагаю подняться на судно мое, – разве это спасенье?
Теперь они часто так говорят
– и все знают об этом, –
а что нам ответить? Никто в наше время
не успевает осмотреться и уж потом говорить.
Бегуны с факелами бегут в
ночи. В свете факелов
кажется:
дороги вымощены золотом.
Изваяния белых богов, осветясь на мгновенье, похожи
на двери, распахнутые в гигантской стене. Потом
тени их каменных рук снова падают на дорогу.
Более ничего не различимо. Однажды я вечером видел,
как, обезумев, толпа подняла человека на плечи,
славя его. И вдруг на него опрокинулся факел.
Вспыхнули волосы. Он не кричал.
Он был давно уже мертв. Толпа разошлась,
остался
только вечер, увенчанный лавром,
украшенный
красными листьями звезд.
Выбор, мне кажется, невозможен
– да и какой же
выбор?
Вспоминаю:
когда я был ребенком, из гостевых покоев нашего дома
до
нас доносились
звучно-мужественные голоса гостей,
незадолго до сна, в тот час, когда они, наверно,
раздевались,
и, пожалуй,
они в этот час забывали военные планы, сражения,
славу,
и, плотские в своей наготе, невидимы и сладострастны,
они по ошибке, быть может, касались собственной груди
иль замирали на краю постели, расставив колени,
забывая их в своих горячих ладонях,
пока не закончат смешной анекдот,
сопровождаемый смехом н скрипом кроватей.
Я слушал их из-за двери, тайком
разглядывая их сверкающие мечи и доспехи,
прислоненные к стене, – они таинственно отражали
лунный свет, проникавший в стеклянную дверь. И мне
казалось,
что я бесконечно один и растерян,
словно мне в это мгновенье предстоит сделать выбор
навеки
между их смехом и их оружием (они владели и тем
и
другим).
Я уже боялся,
что отец встанет ночью и найдет меня перед дверью,
увидит, что я трогаю эти удивительные доспехи,
но
прежде всего
он поймет, что я слышал их смех, и поймет
мой тайный выбор. Я никогда не подходил к гостевым
покоям,
я только прислушивался к голосам,
преодолевшим пространство галерей,
одной – темной, другой – светлой,
голосам, которые порой заглушались
стуком копыт во дворе; да, меня нередко пугала
большая
тень, падавшая к моим ногам, – то конь
подходил
к стеклянной двери и глядел вовнутрь,
бросая тень на искусную резьбу щитов.
Тень отца моего тоже была огромной, она ложилась
на весь дом, покрывая сверху донизу окна и двери,
и порой мне казалось: чтобы увидеть свет,
мне придется просунуть голову у него между ног;
больше всего меня пугало одно – прикосновенье его
ляжек
к моему затылку. Я готов был скорее
оставаться один в полумраке покоев,
где покорная мебель, где нежная мягкость завес,
или в зале, среди безлюдия статуй – я любил их.
Тишина и прохлада царили там
в раскаленно –
полуденный
час,
когда за стенами дома неистовствовали цикады
в оливковых зарослях и среди лоз виноградных.
На полу пересекали друг друга мягкие тени статуй,
образуя прозрачные голубоватые ромбы;
и порою мышь, обнадеженная тишиной,
пробегала неторопливо по ногам этих статуй,
ее глазки – две капельки масла – настороженно обращены
в сторону узких, высоких окон,
а мордочка, заостренная, словно стрелка,
обращена к бесконечности – от имени этих окаменевших
героев,
она – их сообщница.
Отец мой статуй не любил.
Никогда я не видел,
чтобы он постоял подле них; может быть, он и сам
уже статуей был, памятником себе,
медной статуей всадника, который неприступно –
надменен;
только любовь его к Патроклу чуть приближала его
ко мне, и он как бы спускался,
широко шагая, со своего пьедестала
и терялся в роще. И казалось мне странным,
что совсем не слышен лязг сочленений
медных его колен.
Моя мать – тоже тень, прозрачная
тень,
легкая, дальняя, – всегда была ее нежность,
хотя ее не было никогда. Мужчины,
возвращаясь с охоты и подъехав к самому дому,
замечали за деревьями западное окно,
как бы висевшее в пустоте, на ветках, отдельно от дома,
а в темной его глубине – моя мать,
тоже как бы вися в пустоте, созерцала
далекий закат, и на ней был отблеск заката.
Мужчины думали, что она ждет, пожирая глазами
дорогу...
Гораздо позднее
мы поняли: она была далеко,
и в самом деле вися в пустоте.
Тень веревки угадывалась на бледном ее лице,
когда, услышав охотников на дороге,
она надевала улыбку и рукой отводила
смольно-черную прядь, падавшую ей на глаза;
а ведь она отводила тень от веревки; мы поняли это,
когда раздавались над озером в сумерках звуки
последнего
рога,
когда едва заметный кусок штукатурки падал бесшумно
на
землю,
долина сверкала, розовая и золотая, а на ней
привиденьями
стыли деревья,
а охотничьи псы, задыхаясь и свесив язык,
прыгали, словно в экстазе они устремлялись на небо.
Вскоре вечер заполнили переливчато-пестрые
крылья
мертвых птиц; убитые, они лежали грудою на каменном
столе,
и тут же под открытым небом – виноград –
янтарные, синие, красные груды,
а в чашах родниковая вода. И мать мне грустно
улыбалась:
«Вот видишь, ты хотел быть птичкой!» – мне твердила
она, служанкам же велела ощипывать на ужин птиц
там, на хозяйственном дворе, где тень горы
лилась расплавленным металлом, кипарисы,
огромны, одиноки и суровы,
храня молчание, стояли на часах.
В тот миг охотники в поту, в пыли –
в их волосах колючки, на плечах пыльца от сосен –
уже вступили в баню, и оттуда доносились
плескание воды и запах мыла,
который смешивался с запахами сада – смолы, герани,
мяты,
розмарина, –
и освежал, и глубоко вдыхался. А садовник
ставил свою большую лейку на каменную скамью,
обращая
скромно, но весело слова «добрый вечер!»
хозяйке
дома,
их он произносил, прервав свою долгую речь о цветах,
о
привычках семян,
о болезнях плодов и растений, о гусеницах и насекомых.
На эвкалиптах тысячи птиц
возносили восторг и хвалу, как на ярмарке зазывалы;
а под ними внизу служанки ощипывали птиц. А потом
приходил
вечер,
приходил вразвалку, неизбежный и мирный,
весь в легких, радужно-переливчатых перьях,
и каждое – с красненькой точкой у корня. Однажды
одно такое перо застряло в ее волосах –
оно покрывало лицо моей матери тенью. Тогда незаметно
я подобрался и вырвал перо, я не мог согласиться,
чтобы чужие грехи бросали тень на нее. Легкий возглас
исторгся из груди ее, словно я из нее выхватил нож.
А в другой раз, я помню, она заслонила руками
светильник,
защищая от ветра огонь; и ладони ее
стали прозрачны, как два розовых лепестка,
это был сказочный цветок, а пламя между ладоней
казалось диковинным пестиком. Тогда я увидел
ключи, позабытые ею на каменной лестнице; они
лежали
рядом
с охотничьей сумкой и луком, и вот что я понял:
вовек эти руки не смогут уже ничего открывать –
так они одиноки, так беззащитны и так навсегда
обречены
на собственную прозрачность; когда она говорила,
казалось,
что о главном она молчит; и губы ее едва
выделялись в тени ее долгих прекрасных ресниц.
А еще мне другой запомнился
полдень: она пила под
деревьями
воду,
и я снова увидел руки – прозрачней той чаши,
из которой она пила; тень этой чаши
падала на траву – круг сияющий и нереальный;
и вот в середину его опустилась пчела, ее крылья
светились,
словно ее осаждало невыразимое счастье.
То было минувшим летом, а потом и меня призвали.
Я говорю тебе много о матери
– быть может,
на
твоих руках
мне померещился отблеск ее сияния. То, к чему она
прикасалась,
становилось далекой музыкой, и никто уж того
не
касался,
а только – слышал. Нет, даже не слышал. Оставалось,
быть
может,
позабытое эхо или зыбкое ощущенье.
Затем изменилось вдруг освещенье – костры военного
лагеря,
обнаженные тела,
ярко-красные в свете огней, словно покрытые кровью,
словно с них кожу содрали, животно плотские,
бесстыдно страстные, – и все это, точно огромная бойня,
где кишки и прочие внутренности висят на крюках ночи
среди звезд, меркнущих при огнях,
в то время как рядом в канавах потоки несут
кровь, сперму, мочу, испражнения, грязь
и тени всадников скачут вдали в багровом свете –
пока не взойдет луна нежной и влажной губою
и не наступит час угрызений, и мук, и творенья.
Теперь зашумел под деревьями
тихий поток –
запела прохлада! II надо ли знать нам, куда он
стремится?
Костры угасают один за другим. Огромные птицы,
которые дремлют на ветках, порой открывают глаза,
и легкий, трепещущий луч пробегает по листьям.
Мужчины искали в своих волосах
– на груди и в лобке;
почти безбородые мальчики, чистые, нежные дети,
чувствовали каждый два сильных удара в сосках,
словно их пригвождали к ночи сладострастные стрелы,
и
мышцы
живота сжимали им поясницу канатом. Стражники
снимали сандалии и терли себе пальцы,
скатывали черные жирные шарики и их разминали
часами,
податливые, занятные шарики, похожие на загадочные
фигурки,
и молча метали их в мрак. Потом,
нюхая пальцы свои, они долго сопели,
похожие на красивых животных, они медленно цепенели,
пока
их не сковывал сон.
Большие щиты, лежавшие на
земле,
гудели долгим металлическим гулом, когда по ним
ударяли
мечи
далеких созвездий. Под ними лежали
во мраке одежды военных вождей. Над шатрами
сверкал гигантским обглоданным рыбьим хребтом
Млечный
Путь. Было снова
почти как тогда, летом, в давние годы, – страх
перед грабителем – незримым, загадочным или же
перед
обычным,
как бы не прыгнул он в комнату в окно или через балкон;
в ту пору мы не умели (как и теперь) обороняться,
нас отвлекали жужжащий комар, гудение лунного света
и усиленный низкими сводами звук поцелуя, –
так, доверясь безлюдию, мочатся на поляне
женщины, чуя на бедрах укусы травинок и звезд.
Это чувство вечного похищенья
– пожалуй, скорей
грабежа,
–
безмолвного, тайного, неотвратимого. Вдруг занавеска
окна
в спальне стала плясать под мучительным зноем,
явно желая отвлечь наши взгляды
на златотканый подол женской туники; а потом
занавеска застыла недвижно – она темно-синею тканью
укрыла какую-то статую – может быть, это была
гранитная статуя ночи, а может, другая –
Статуя Похищения из красного камня,
и опять тот же звук, как будто пилят решетку,
и голоса лягушек, навевающие покой,
и потрескивание таракана, бегающего внутри шлема.
Нам некогда было выяснять. Прежде чем мы в первый
раз
сосчитали звезды, мы уснули. Когда рассвело,
слепая сова закричала, свалившись в кусты,
и глаза ее, отливавшие молоком, устремлялись
в
иное пространство,
и тень горы Эты уходила с равнины,
как исполинская черепаха, подбирающая ножки
под
панцирь.
Над горизонтом солнце трубило
в свой рог. Высоко
над
миром
пылали все шестьдесят четыре копыта его коней,
отражаясь внизу в повозках, запряженных волами.
Открывались
ворота.
Давка на рынке – купцы, зазывалы,
пестрые горы плодов. И крестьяне с ослами.
Философ, вставший с левой
ноги, двигался молча
между рядами убитых быков. Гончары
ставили в ряд подле дороги кувшины,
странное войско из глины. В больших гимнастических
залах,
прохладных от утренней сырости, освещенных косыми
лучами,
первые бегуны выходили из раздевален и, пробуя силы,
делали небольшие круги, как в утреннем воздухе птицы.
А солдаты в казарменном дворе чистили походные котлы.
Простоволосые женщины вытряхивали из окон
ослепительно-белые простыни. Нас ослепляли
сверканьем
Триглифы дорических храмов и ярусы стадионов. Весь
этот
блеск,
слепой и слепящий, выставляющийся напоказ,
словно стремившийся что-то скрыть – и скрывавший
от
нас в самом деле,
только – что? Похищенье? Там были еще
огромные глиняные кувшины в садах и подвалах,
и позолотой сверкали маски с пустыми глазами,
глядящие
пристальным взглядом.
Тишина; тот же зыбкий, мерцающий смысл; словно все
сговорились.
Росли бороды, волосы, ногти и железы;
постоянные вести о мертвых, о героях и вновь о героях;
лошадиные кости на склонах, поросших сухими кустами;
все удушливей запах грязного тела. Вдали иногда
проходила вечером женщина, неся на плече кувшин,
а за нею ветер перегораживал путь. Летний вечер
наматывался на древко флага. И внезапно звезда
восклицала загадочно: «Нет!», а затем
конский галоп утихал до утра,
и безмолвные звезды над миром казались еще
безмолвней.
Вспомнить, подумать, спросить
– до того ли нам было?
В пути, постоянно в пути; все обрывисто, коротко, рвано.
И вот уже похожи один на другой клики радости,
крики
страданья –
интонация стерлась; и стерлось различие в лицах
врагов
и друзей.
Только ночью, когда опускалась с небес тишина,
когда
утихало сраженье,
слышны были издалека стоны раненых, громоздившихся
среди
камней,
и смотрела луна, как расширенный глаз павшей лошади;
только
в такие минуты
мы понимали, что мы еще не мертвы.
Тогда все звезды, казалось, лукаво подмигивают
и
нам говорят:
«Отнимите все, что похитили воры, пусть даже ценой
воровства».
Там внизу
у светлого берега моря наши темные корабли
каменели недвижно, грезя о новых дорогах,
и если мокрые весла сверкнули на миг, то, значит,
они
отозвались
на удары нашего пульса. Вестники легконого
сновали туда и назад, скользя, как летучие мыши, и,
быть
может,
какой-то предательский след оставался на белом
песке
и среди чертополоха –
черный пух, ремешок от сандалии, пряжка, –
и на рассвете надо было его уничтожить.
И уже нам казалось, что мы слышим, как в лесу
топоры
валят деревья; неумолчный треск, когда вязы
валятся наземь; и устрашенную тишину,
которая пряталась за нашей спиной.
Казалось, что я уже вижу: Троянский конь,
полый, гигантский, сверкает смертельной угрозой
в свете созвездий, а его баснословная тень
ложится на стены. И жило во мне уже чувство,
будто я – вместе с другими, и все же один –
сижу, неудобно свернувшись, в шее коня,
сквозь дыры глаз его я смотрю в стеклянную ночь,
словно вися в пустоте и понимая,
что грива, которая вьется над шеей моей, – не моя.
Равно
как и победа. И все ж собираюсь я сделать
огромный и тщетный прыжок в неизвестность.
Там, наверху, свернувшись клубком и забившись
в
деревянную глотку коня,
я чувствовал, будто проглочен, и все ж я, живой,
наблюдаю
вражеский лагерь, костры, триремы и звезды,
привычное, страшное, неисчислимое чудо Вселенной,
я – кусок, застрявший у бесконечности в горле, я – мост,
перекинутый между двумя берегами, которые оба
неизведаны,
оба скалисты,
мост, разумеется, – мнимый, из дерева и из обмана.
(Сдается, тогда-то я сверху, объятый кошмаром,
впервые увидел оружье твое, его спасительный блеск.)
Позднее опять наступали, как
прежде, нескончаемые
полудни,
когда в перерывах между боями
или на отдыхе после далекого марша
мы ощущали внезапно палящую жажду,
только палящую жажду. Нет, мы не произносили этих
слов – «вода» и «жажда»;
мы наклонялись в недоумении, словно желая завязать
ремень
от сандалии,
перевернутая картина пейзажа, людей и себя,
и так, наклонившись, смотрели вдаль, созерцая
контуры ложно блаженной, размытой и светлой
картины
–
как отраженье в воде. Но воды вокруг нас
не было, нас терзала палящая жажда.
Вся дорога была опустошена. Справа и слева
засыпанные землей или заваленные мертвецами
колодцы.
Трескался камень
от зноя. Цикады хрипели. Вокруг горизонт
был известью и языками огня. Под пламенным солнцем,
воткнутые в стену, сверкали осколки стекла,
разделяя друзей, соратников, братьев по оружью.
Несмотря
ни на что,
этот жгучий убийственный свет ничего не скрывал.
Я
видел, как храбрецы
посыпали волосы пеплом. Я видел, как пепел
смешивался с их слезами; черные борозды
сбегали по заросшим щекам до самого подбородка.
Те, кто, нагие, купали прежде
своих лошадей
и в лучезарные утра, когда все сверкает – люди и кони, –
смазывали им гривы прозрачным маслом; те, кто недавно
плясал вечером у костров, сверкая
багрецом босых ступней, – эти самые люди
съеживаются теперь среди скал,
злятся, ворчат, прикрывая
срам свой руками, им стыдно, они хоронятся
от
взглядов,
словно на них вина или словно их оскорбили, и,
быть
может, их гложет зависть
к молодым бойцам, к беззаботной их красоте, к их
восторженной
болтовне и, возможно, больше всего
к их тяжелым сверкающим волосам, дышащим
здоровьем
и страстью.
Когда-то и они отправлялись
в дорогу с наивным
весельем
и с тайно-тщеславной надеждой – весь мир переделать.
Отправлялись
в дорогу
все вместе, но каждый отдельно, и все они ясно
увидели:
каждый
снедаем своим честолюбием, скрытым
под общей идеей, и общая цель – это только
прозрачный
покров,
под которым отчетливее выступают отдельность
каждого
и
несчастливость и мелочность всех. Как, мой высокий
друг,
внести в этот хаос порядок? И как подле них оставаться?
Сегодня я все это понимаю – вполне.
Когда простые воины ночью
спали вповалку, похожие на мешки,
сваленные на палубу,
спали, прекрасные в юношеском своем легковерьи,
в своей беззаботности, в животной своей чистоте,
в
красоте своих мускулистых тел,
закаленных полезным трудом на полях, в мастерских,
на
дорогах;
когда, во власти летучих надежд и бездушных команд,
спали они, подобные овцам, ведомым к закланью
во имя других, и все же во сне
улыбались, и бредили вслух, и храпели,
проклиная каких-то коров, и все снова и снова,
полуголые, в свете таинственном вечных созвездий,
мерцавших
над морем,
в бреду вожделений твердили женское имя, – тогда
в
эти ночи
слышал я под плескание весел
голоса полководцев, ругавшихся из-за добычи,
еще
не захваченной ими,
из-за наград, еще никому не врученных.
Злобу и ненависть, почестей дикую жажду,
а глубоко в их глазах – светлячком в беспросветной
пещере
–
одиночество. За бородами вождей блестела судьба их
нагая,
так за нагими ветвями блестит под луною
сухая равнина и груды белых костей.
И это понять – было как откровенье,
как освобожденье,
как признанье, дарующее покой, как ленивая радость,
рожденная чувством вечности
и небытия. И все же еще немного
я мог позволить себе созерцать
за или между щитами и копьями
клочок океана, отблеск вечерней зари, округлость
колена,
и то, что это давало мне радость – всему вопреки, –
это несло облегченье, и темный, безмерный
страх растворялся в безмерности мира облаком,
тающим
в небе.
Помню ночь, полнолунье, мы
плыли, луна
ложилась на лица сверкающей маскою смерти.
На мгновенье воины замерли и переглянулись,
не узнавая друг друга или как будто каждый впервые
понял себя самого, и все, обернувшись, внезапно
подняли взоры к луне;
мертвецы и бессмертные, околдованно и безмолвно
встали они неподвижно над вечной подвижностью моря.
Словно чувствуя в чем-то вину
и словно не в силах
нести
этот груз,
непосильный и легкий, они вдруг стали орать,
гоготать, заголяться, меряться силой мужской,
натираться жиром жаркого, прыгать, плясать и бороться,
потешаться, читая по голым спинам козлов
дурацкие предсказания или похабные сказки,
и все это делали, может быть, лишь для того,
чтобы забыть этот миг, – это свое пониманье друг друга,
это отсутствие...
Быть может, и ты в такую же
ночь (как я тогда
в
полнолунье)
среди голосов, обращенных друг к другу,
ясно вдруг ощутил собственное молчанье.
Я слышал отчетливо, что я не кричу, и, как
пригвожденный,
стоял там один,
окружен пустотой, наверху,
и я слышал с ужасающей ясностью голоса других,
и в то же время свое молчанье. Оттуда вторично
увидел я блеск твоего оружья. Увидел – и понял.
Может быть, ты, досточтимый
мой друг, в такую минуту
принял решенье – уйти. Тогда-то, сдается,
дал ты себя ужалить алтарной змее. И тогда осознал,
что нужны не мы, а наше оружье. (Так ты сказал.)
Ты же – одно с оружьем своим, честно добытым
работой,
дружбой и жертвой, оно досталось тебе
из рук, задушивших семиглавую лернейскую гидру
и сразивших Аидова стража. И все это видел ты сам,
собственными глазами. Жизнь твоя – этот завет
и это оружье. Только оно победит. А теперь
научи меня с ним обращаться. Час пробил.
После, быть может, решат,
что я один – победитель,
и
забудут
тебя и оружье твое. Но нет никого, кто вправду
хотел
бы забыть о тебе.
Да и что тебе до того? Ведь победа побед,
единственная (как ты говорил), все равно за тобой –
это сладостно-страшное понимание: нет никакой победы.
Ты снял рубаху свою и повесил
ее на ветке,
чтобы прохожие думали и говорили: «Он умер».
Ты же сидел за кустами, и, всеми чувствами владея,
слышал,
как мертвым тебя поминали;
после ты, снова надев на себя рубаху
мнимой смерти своей, дал зарок не снимать ее с тела,
пока не станешь великим безмолвием собственной
жизни,
–
ты этого ныне достиг.
Старое, с запекшейся кровью
копье, уволенное
в
отставку,
одинокое, мирное, не нужное никому,
к скале прислоненное и медным своим острием
отражающее сиянье луны,
изогнется, как медленный перст
над лирой – над вечною лирой, о которой ты говорил.
В
этот час,
мне кажется, я понимаю, к чему с благодарностью
обращены
твои взоры.
Вспоминаю закат над притихшим морем –
неправдоподобный
покой,
небывалый, забытый, – открытую бесконечность
небес и воды, ни островов и ни мыса,
только призрачные триремы летят или плывут
в сказочной заросли роз. Бесшумные, ровные весла,
словно косые лучи, широкие, влажные, мерно
врезаются в воду. Один из гребцов
пытался было запеть и замер с открытым
ртом, зияющим, будто дыра,
в которой сверкнул океан.
Тогда я и стал развязывать
пояс и ощутил –
с метафизической неоспоримостью –
уверенность, неотвратимость и необъяснимость
движения собственных рук; казалось, что я
развязал вековой узел, захлестнувшийся у меня
на
шее. Я немного
подержал в руке свои расстегнутый пояс,
а потом опустил его в воду одним концом, наблюдая,
как он чертит плавную линию в бескрайнем просторе,
тогда
как
в пальцах моих отдается биение сердца,
едва ощутимое. После
вытащил я из воды свой пояс, и, мокрый,
крепко его затянул на себе.
Порою свет вечерней зари –
словно прекрасный
подарок,
не так ли? –
отраженный водою и слитый собственным отраженьем,
отдельный от ночи и дня, – независимое соединенье
ночи и дня. Этот свет,
недолговечный и вечный, – золотая броня,
которая защищает нам грудь. А прежде всего –
неуязвимый, легчайший воздушный слой
между бронею и нишей плотью,
который делает внутренней силой
внешнюю силу дыханья. Бывает,
когда мы глубоко вздыхаем, мы чувствуем: наши сосцы
касаются тайно металла – брони, охлаждаемой ветром....
Могу показать тебе на моем теле след от пояса –
пряжка, вдавившись, впечатала тут кольцо, –
о да, свобода всегда неприступна, всегда сжимает
тело твое целиком – и, уж во всяком случае, пятку.
Если ты пояс затянешь, расправится грудь непременно,
мало-помалу глубокое, мучительное отчуждение
будет
преодолено.
Но пусть оберегут нас боги,
не дадут оказаться в плену –
в любом плену, даже в плену открытия самого
прекрасного,
–
чтобы нам не утратить навеки
нежного простодушия преображений
и высокого действия слов. Быть может, тебя
в
одиночестве полном твоем
только это страшило и еще, что вокруг тебя нет
никаких предметов – не для того, чтобы пользу из них
извлекать,
но чтобы их представлять, их сравнивать, к ним
прикоснуться,
братски их сопоставить с бесконечностью или
невесомое
взвесить.
Хотя бы поэтому – вернись
с нами. Я никому
не выдам гордого страдания твоей одинокой святости.
Нетронутой радости твоей свободы никто не поймет,
и никого она не устрашит. Вот маска героя,
я принес ее тайно в мешке, и она
закроет твой прозрачный и недостижимый лик.
Надень ее. И – в дорогу.
Когда мы прибудем в Трою,
деревянный Конь,
о
котором
я тебе говорил, уже будет готов. Я в нем спрячусь
с
твоим оружием. Будет Конь
моей маской, а впрочем, и маской твоего оружия.
Таков
единственный путь
к победе. Это будет моею победой, но и твоей. Это
будет
победой
всех греков и их богов. Ну как, ты решился?
Только такие победы бывают. Пойдем.
Десять лет истекли. И конец войны уже близок.
Пойдем, погляди на то, что предвидел. На какие трофеи
обменяли мы столько греческих жизней; на какую
вражду
внутри нашего стана
обменяли мы прежних врагов. Посреди развалин, над
которыми будут подниматься вверх, к солнцу,
столбы
дыма,
посреди убитых, посреди нагроможденных доспехов
и
боевых колесниц,
посреди стонов побежденных и одержавших победу –
твоя
улыбка,
всепонимающая, добрая, будет для нас лучом,
компасом будет для нас терпеливость твоя и молчанье.
Пойдем же; ты нужен нам не только во имя победы,
ты
нужен нам прежде всего
после победы – когда мы, оставшиеся в живых,
поднимемся вновь на наши триремы, возвращаясь
домой вместе с Еленой, на десять лет постаревшей,
с Еленой, говорящей с иноземным акцентом,
и
видящей чуждые сны,
и скрывающей под длинными златоткаными покрывалами
свою старость и чувство, что здесь она среди нас чужая,
и еще скрывающая под своим покрывалом нашу
собственную
отчужденность, угрызения совести,
отчаяние
и весь ужас,
неумолимый, неотвратимый ужас вопроса:
зачем мы вторглись, за что воевали, зачем и куда
возвратимся?
Мне кажется, в самых красивых женщинах, когда они
начинают
стареть,
просыпается материнство – они, исполненные
нежности
и любви,
вооружаются горьким терпением и думают только о том,
чтобы всеми видимой справедливостью оправдать
неизбежность
ошибок,
неизбежности потерь неизбежно истекшего десятилетия.
Тогда постаревшие красавицы, воображаемые матери,
обычным жестом всех женщин, когда у них вдруг
заболит
поясница,
последним движением святости – в обе руки хватают
висящий
у пояса ключ,
да так, чтобы мы не видали, что этим ключом уже
нечего
отпирать.
Как выдержим мы его – этот взгляд Елены
из-под темных сверкающих покрывал,
в неизведанной ночи, под нежным сиянием звезд,
когда будут безмолвны гребцы, а весла без устали бьют
в морской барабан возвращенья, вещающий
о
невозвратном?
Хотя бы ради этого часа останься с нами. Это нам
нужно
еще более, чем твое оружие. И ты это знаешь.
Вот твоя маска. Надень ее. И – пойдем.
Обросший бородой муж, который
безмолвно слушал, взял маску, затем положил ее наземь. Он
не надел ее. Лицо его стало медленно меняться. Оно становилось
моложе, отчетливее, реальнее. Казалось, оно подражает маске.
Долгая пауза, ожидание. Упала звезда. Юноша ощутил, как
едва заметное дуновение коснулось его лица и как волосы
его сами собой разделились посредине, точно их разделил
тонкий золотой гребень. Снизу, с берега, доносилась песня
матросов – народная песня, в которой были канаты, мачты,
гребцы, звезды, великая горечь, отвага, терпение, все темное,
сверкающее море, вся беспредельность в человечьих масштабах.
Быть может, это была та самая песня, которую Отшельник когда-то
прежде знал.. И быть может, он потому и принял свое решение.
Он спокойно поднялся, принес из пещеры оружие, отдал его
Юноше и, пропустив его вперед, пошел за ним следом к берегу
моря. Шагая среди камней и сухих кустов, он видел, как впереди
оружие его сверкало под светом звезд, и он слышал, как песня
моряков гудела в его доспехах. И ему показалось, что идет
он не за Юношей, а всю свою жизнь шагает за собственным
своим оружием, в направлении, которое ему указывают сверкающие
отточенные острия, – против смерти. На скале подле пещеры
все так же лежала маска; в таинственном великолепии ночи
она тоже сверкала, словно выражая свое удивительное, непостижимое
согласие.
Афины, Самос. Май 1963 — октябрь
1963
Перевод Ефима Эткинда
(опубликован в книге: Яннис Рицос. Избранное. –
М. Прогресс, 1973)