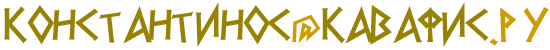Фантастическая
и подлинная история древнейшей греческой семьи
Из всей семьи остались только
две сестры. Одна сошла с ума. Вообразила, будто их дом перенесся
в древние Фивы или, скорее, в Аргос, – словом, в голове
у нее перемешались мифология, история и ее собственная жизнь,
прошлое и настоящее – все, кроме будущего. Только в этом
и заключалось ее безумие. Потом она пришла в себя. Именно
с ней говорил я в тот вечер, когда привез им с чужбины весточку
от их дяди – брата их отца. Другая сестра даже не вышла
ко мне. Иногда из соседней комнаты доносились тихие шаги
– мягкое шарканье домашних туфель. Так было несколько раз
за то время, пока старшая говорила:
Вот мы и бродим теперь вдвоем
по этому необъятному дому –
младшие сестры,
младшие, как-то неловко произносить это слово – мы ведь
тоже
состарились,
да, мы действительно были младшими в нашей семье,
и
только мы уцелели;
что делать теперь с этим домом, что делать с собой –
мы
не знаем,
пустить его с молотка – но здесь прошла наша жизнь,
здесь наши мертвые – нельзя же их тоже продать,
да и кому нужны они, мертвые? А таскать их с собой
из дома в дом, из одного квартала в другой –
и утомительно, и опасно; здесь они прижились
и
пристроились:
кто в тени занавески, кто под столом,
кто за шкафом, кто за стеклами книжных полок,
кто-то в настольной лампе – непритязательный, скромный,
таким
он был и при жизни,
кто-то с улыбкой застенчивой за скрещением тонких теней,
что ложатся на стену от спиц моей младшей сестры.
Крупную мебель мы заперли в нижних комнатах,
там же – ковры, шторы из шелка и бархата,
скатерти, вышитые салфетки, сервизы, хрусталь,
большие подносы из серебра – некогда в них
целиком отражался
круглый счастливый лик семейного гостеприимства,
одеяла, покрывала из шелка, белье,
теплые вещи, сумки, пальто
наши и наших умерших – все вместе,
кружева, перчатки, страусиные перья со шляпок матери,
пианино, гитары, барабаны и флейты,
деревянные наши лошадки и куклы – реликвии детства,
парадные мундиры отца и первые длинные брюки*
нашего
старшего брата,
шкатулка слоновой кости с белокурым локоном младшего, нож
с
золотой инкрустацией,
костюмы для верховой езды, мантии и мешки – все вперемешку,
без нафталина, без веточки душистой лаванды, обернутой тюлем.
Эти покои теперь заколочены. Для себя мы оставили
две комнаты наверху, выходящие на закат,
коридор и, конечно, наружную лестницу, мало ли что –
как-нибудь вечером захочется вдруг погулять в саду
или возникнет нужда что-то купить по соседству.
И все же покоя нам нет. Хотя мы, конечно, избавились
от лишних движений, нелепой уборки, напрасных трудов
во имя порядка, который недостижим. Однако взамен
дом, закрытый и голый, обрел
потрясающую акустику, чуткую
к каждому шороху крысы, таракана, летучей мыши.
Каждая тень в далеких глубинах зеркал, скрежет зубов
моли или жука-древоточца продлеваются в бесконечность,
завершаясь в тончайших сосудах молчания,
возбуждая невероятные галлюцинации. Отчетливо слышится:
мерно в подвале стучит среди глиняных чанов
ткацкий
станок паука;
ржавчина точит резцом вилки, ложки, ножи;
или вдруг грохот в передней, когда отваливается
кусок штукатурки и падает так, словно рушится
древнее любимое здание.
Порой на рассвете мусорщик мимо проходит,
направляясь
в предместья,
и колокольчик его отдается в посуде –
в
стеклянной и в металлической,
в бронзовых шишках кроватей, в рамах фамильных портретов,
в бубенцах с костюма Пьеро, его сшили для младшего брата,
–
какой это был маскарад! – помню, на обратном пути
нас
напугали собаки
яростным лаем, платье мое зацепилось за гвоздь на заборе,
я побежала догонять остальных, однако луна
к моему прильнула лицу – и не было сил бежать,
меня между тем окликали, но долетали ко мне
не их голоса, звучавшие за деревьями, а звон стеклянных
бусин
с
маскарадных костюмов,
и звезды, тоже стеклянные, сыпались, будто монеты,
с
невидимого Миртойского моря,
и когда наконец я своих догнала, они явно смутились,
потому что лицо у меня светилось, покрытое золотистой пыльцой,
той, что у нас покрывают старинные подвесные лампы в столовой
или же зеркала на изящных резных консолях в гостиной –
все это тоже заперто в нижних комнатах.
Мы
могли бы, конечно, оставить
что-нибудь для себя, скажем кресло-качалку,
в нем хорошо отдыхать, или зеркало, чтобы причесываться
перед ним иногда. Но кто за этим присмотрит?
Лучше
уж так, как сейчас:
мы хоть и слышим их разрушенье, но по крайней мере не видим.
Все нас покинули.
А две эти комнаты, что оставили мы для себя, –
такие холодные, голые и на такой высоте, –
может быть, для того и выбраны, чтобы видеть предметы сверху,
на расстоянии, чтобы крепло в нас ощущение,
будто мы вправду вершители нашей судьбы,
особенно в сумерках, когда природа приникает к земле,
еще
теплой,
а здесь, наверху, холод как острый меч,
готовый пресечь даже мысль об уступке или надежду
на невозможную встречу; и есть в этом холоде,
непримиримом и ясном, нечто здоровое, разве не так?
Вот и висят наши комнаты в необъятной ночи,
словно погасшие фонари на пустынном морском берегу,
молния на мгновенье зажжет их и тотчас потушит,
пронзив их полое существо, а затем вонзив их в пространство,
такое
же полое.
Если случится кому-то подняться на поросший колючками холм,
что
напротив нашего дома,
в час погружения солнца, когда природа становится бледной,
зыбкой,
лиловой
и кажется, будто потеряно все и все достижимо, –
тот человек одинокий, бредущий по склону,
нам представляется кротким и милым, и даже мерещится,
будто он может и нам посочувствовать, и от мысли об этом
чудится, будто холм уже не дичится
и
приблизился к нашим окнам
и стоит тому человеку обернуться сюда, к кипарисам,
сделать один только шаг, и он ступит на наш подоконник,
и спустится в комнату, как добрый старый знакомый,
и щетку попросит – почистить ботинки: ведь они запылились.
Однако
он уже скрылся за гребнем, и вновь перед нашими окнами
только овал холма, молчаливый, словно раскаяние,
и горький от компромиссов закат, утопающий в тенях.
Не то чтобы мы привыкли, но ничего не поделаешь.
Все
нас покинули,
мы тоже покинули всех – вот так и возникло
равновесие, почти справедливое, без обоюдной злопамятности,
без угрызений и даже без грусти – могло ли случиться иначе?
Да, мы остались, так остаются обычно –
когда под вечер спускаешься в сад и срезаешь цветы,
много цветов для столовой и для спален умерших, –
так на руках остаются желтые пятна пыльцы,
и пыль, проникавшая с улицы и оседавшая на листьях и стеблях,
и какие-то насекомые, крылатые и бескрылые,
и несколько капель росы, уже чуть согревшейся,
и легкие паутинки, что вечно окутывают цветы,
но вот догорает закат, гаснет в оконных стеклах,
и ты почему-то воображаешь, что нож затупился
от крови – от молочка цветов, которые только что срезаны,
–
сложное, странное чувство страха и убиения –
слепая, душистая, необъятная, благородная красота,
голые нети. Все это так. Все нас покинули.
Помню последний день, служанки вскрикнули и побежали,
а их пронзительный крик вонзился в сумрачный коридор и замер,
как рыбья кость в горле у незнакомого гостя
или как ржавый меч в длинном гробу убитого, –
крик звучал только миг – и они убежали,
закрывая лица стиснутыми ладонями, но едва оказались
там, перед мраморной лестницей, за колоннадой,
как предстали вдруг черными, низенькими, горбатыми,
невероятно осмотрительными, расчетливыми,
злопамятными, корыстными, с дальним и метким прицелом –
остановились, такие чуждые своему недавнему крику,
отвели от лица ладони и очень внимательно
посмотрели вниз, на ступени, чтоб не упасть,
хотя ноги их, конечно же, знали и помнили
всю эту лестницу, каждый ее пролет,
словно стихотворение на календарном листке,
словно солдатскую песню после трудного боя –
ее спели им те уцелевшие, что вернулись домой:
они были еще красивыми
и, пожалуй, печальными;
ноги большие, и руки большие, и блохи в белье,
и подземелья в глазах, и упавшие звезды в глазах
под сизоватыми веками, словно под тенью крепости
возле
источника;
складки у рта, нетерпеливые, жесткие,
с выражением мужества и безразличия, словно пришлось им
многих убитых поцеловать в скрещенные руки и в лоб,
или покинуть товарищей раненых и бежать по ущелью
под
холодным дождем,
или похитить флягу с холодной водой у изголовья больного.
Однако
по вечерам они пели на кухне (мы были маленькими
и слушали их за дверью, не смея нарушить запрет
и проскользнуть на кухню, где столько незнакомых предметов
и волшебные запахи перца, чеснока, сельдерея, томатов,
и другие, более хитрые, таинственного происхождения;
где заклятия дыма, огня, кипящей воды,
перестук торопливых ножей, горы немытой посуды,
готовые
рухнуть,
и огромные, голые, обагренные кровью кости животных
из
какого-то мифа.
Там царили кухарки – колдуньи в передниках,
занимались алхимией с травами,
мясом,
фруктами, рыбьей костью,
скрытые ведьмы с огромными деревянными ложками,
ворожившие над парами котлов,
из дыма лепившие то женщину в белом хитоне, заколотую,
то корабли трехпалубные –
с
канатами, с моряками, с их руганью,
то длинную бороду слепого певца с лирою на коленях, –
вероятно, поэтому мать не велела ходить нам туда,
и порой у себя за дверью мы находили щепотку соли
или же голову петуха с гребешком, похожим на малый закат,
в треснутой плошке.
Взрослым мы ничего не рассказывали. Когда открывалось
окошко
для выдачи блюд,
колонна душистого дыма вываливалась и часами стояла
посреди коридора, высокая, грозная, с конским хвостом,
свисавшим из-под стеклянного шлема, одинокая и бесплотная,
но было в ней что-то звериное и могучее.
Мы
замирали и слушали,
прячась за дверью, и лишь где-то за полночь
алый сверкающий сон надвигался на нас).
Так
вот, солдаты на кухне пели
и порой шутили с прислугой,
снимали ботинки и растирали затекшие толстые пальцы,
а после вытирали капли вина с мясистых, чувственных губ,
скребли волосатую грудь, чесали в паху,
лапали женские груди – какая бы ни подвернулась –
и снова затягивали протяжную песню (мы слышали даже во сне),
их сальные волосы падали на склоненные лица,
разутые ноги притоптывали, отбивая отчетливый ритм,
а пальцы постукивали по кувшину или стакану
или по доскам стола, на котором рубится фарш, –
тихонько-тихонько (чтоб не услышали хозяева в комнатах),
кадык у них поднимался и вновь опускался,
как узел толстой веревки, которую тянут то туда, то сюда,
как узел веревки, опущенной в глубокий колодец,
как узел в кишечнике. Поэтому женщины,
слушая их, рыдали, бились в истерике,
срывали с себя одежды и, оставшись совсем нагими,
брали их на колени, как больных ребятишек,
и молились, чтоб к ним вернулось здоровье,
и словно хотели принять их всех в свое лоно –
может быть, потому, что зияло оно пустотой, –
словно хотели спрятать их глубоко-глубоко,
спрятать и уберечь, сохранить для себя,
спрятать, а потом когда-нибудь снова родить
в более подходящее время, в доме, который белее,
где воздуха больше и света и нет этих мрачных теней
от колонн, кувшинов, убийств, мечей, славы, гробниц,
где меньше этих невидимых дырок на стенах:
там некогда гвозди сидели и крепко держали
зеркала, вечерние туалеты, мундиры, трубы и шлемы,
связки безмолвных игрушек, принадлежавших умершим детям,
иконы, свадебные венки и кастрюли, – давно уже нет этих
дыр:
столько ремонтов, побелок, а все же они существуют
где-то внутри, в самых глубинах памяти.
Так вот, они хотели родить их заново
в доме более светлом и прочном, где нет этих полостей –
нет тайников, подземелий и склепов,
в доме, где двери не заперты и за ними не слышится
злобное бормотание, стоны, рыдания,
шум, с которым обрушиваются на колени
распущенные
женские волосы,
стук башмака, отброшенного далеко от кровати.
Пусть бы они родили их там, где царят
неизъяснимая искренность, одиночество и надежность,
в поле, весной, среди зеленого ячменя,
рядом с алым конем и пепельным добрым осленком,
возле собаки, коровы, овцы, под единственной тенью плуга.
Однако
мужчины
не слышали их и не видели, словно вовсе утратили чувства,
опьяненные смертью, отважные и безразличные,
погруженные в песню, отнюдь не геройскую,
однако и не слезную, не увечную, –
наверняка они научились когда-то этой песне
от
старых крестьянок
и теперь, вернувшись с войны,
обучали ей этих молоденьких женщин. Так вот, перед лестницей,
которую знали служанки не хуже, чем эту старую песню,
выученную заново, да, они знали,
какой высоты и какой ширины ступени,
знали цвет камня – где яркого, где неброского,
тонкие переливы тонов сверху донизу; тысячи раз
сбегали и поднимались они по этим ступеням в лучшие времена,
когда подносили жаркое – из жаркой печи,
или кувшины с вином – из прохладных подвалов,
или душистые караваи свежего хлеба и фрукты,
или охапки цветов – розы, гвоздики, ромашки,
ветки оливы и лавра, сверкающего росой, –
так бывало у нас в дни свадеб, крестин, в дни рождения,
в дни триумфа и славы, когда запыленный вестник,
запыхавшийся, падал на эту лестницу,
жадно целуя мраморные ступени и заливаясь слезами,
и голос его, мужественный, чуть хриплый,
боролся с волной последнего всхлипыванья;
помню, сбегались слуги и какие-то странники-старцы
и слушали, сгрудившись у колоннады, и служанки стояли
в дверях, прикрывая глаза уголком передника,
и государыня, наша мама, – недвижная в центре дворика;
рядом
– кормилица,
словно расколотый молнией дуб; чуть позади – воспитатель,
пожелтевший как воск, с жидкой бородкой,
весь он был словно рука, бесплотная, зацепившая струны арфы;
младшие дочери застыли в проемах окон,
спрятавшись за мечты и смутные подозрения,
слушая и не постигая услышанного,
обращая больше внимания на колено склоненного вестника,
на бородку его, совсем еще юную, на черные волосы,
кудрявые, слипшиеся от пота и пыли, на веточку,
что зацепилась за край хитона. Стало быть, могут леса
шагать, словно люди, и столы, словно кони,
подниматься
на задние ноги,
и триеры плыть над деревьями в разливе заката:
гребцы сгибаются-разгибаются, сгибаются-разгибаются
в явственном ритме любви, и весла –
это голые женщины, подвешенные за волосы,
и бьются они, и трепещут, сверкая в морской волне,
пока за триерами проступает пенистый млечный путь.
Вестник меж тем возвестил о блестящей победе –
при тысячах мертвых, раненые не в счет –
и под конец объявил о скором прибытии государя
с трофеями и знаменами, с колесницами и рабами
и с зияющей раной во лбу, которая, говорил он,
открылась, точно новый замечательный глаз,
откуда взирает смерть, и видит теперь государь
насквозь до самого сокровенного – вещи, пейзажи, людей,
словно они из стекла, и он читает свободно
ритм нашей крови, настроения и судьбу,
различает золотоносные жилы в твердыне камня,
разветвления угля в мраке подземных пластов,
серебристые нервы воды, растекающейся меж скал,
и мелкую дрожь вины, незаметную под одеждой и кожей.
Его слушали (и мы тоже), точно окаменев,
согбенные, потрясенные, однако с сухими глазами,
словно уже превратились в стеклянных,
и видно было насквозь самих себя и других:
голый скелет под стеклом, кстати, тоже стеклянный,
хрупкий и теперь уже окончательно бесприютный. Однако
в этой полной своей беззащитности,
в этой смертельной слабости,
в этой незатененной прозрачности
все как-то вдруг ощутили покой, точно совсем растворились
в необъятной прозрачности, такие же необъятные,
непогрешимые во всеобщем грехе,
братья среди пустыни взаимной враждебности,
вооруженные своей человеческой безоружностью, облаченные
в прекрасную и благородную всемирную наготу.
«Пусть же прибудет, – произнесла государыня, –
наш государь. Добро пожаловать. Правда, он тоже стеклянный.
Стеклянный. Стеклянный. Ведь и у нас во лбу
точно такой же глаз. Мы ль не изведали смерти?
Вдоволь. С избытком. Спасибо ему за науку.
Это он открыл нам глаза. Мы давно уж прозрели.
Пусть же прибудет стеклянный наш государь
со
стеклянным мечом,
со стеклянной своей сожительницей, со стеклянными чадами,
со стеклянными подданными, волоча за собой
толпы стеклянных мертвых, стеклянных рабынь, вороха
стеклянных трофеев. Ударьте в колокола.
Пусть от вершины к вершине разносят костры дозорных
весть о стеклянной победе – да, да, о нашей победе,
все мы ее одержали. Мы ведь тоже сражались,
запасаясь терпением, одолевая
нестерпимое тысячеглазое ожидание. Все – победили,
однако самые первые – это мертвые, они тоже видят насквозь.
Пусть ударят колокола – из края в край государства.
Слуги, что ж вы стоите? Готовьте проворнее
стеклянные кушанья, стеклянные вина, стеклянные фрукты
стеклянному государю. Он скоро прибудет».
Так государыня говорила, и было видно, как билась
кровь у нее на висках, и угадывалось, что вскоре
выступит пот и зальет ее голубые щеки.
Старая наша кормилица поддержала ее,
словно та падала в обморок, и своим проникновенным молчанием
дала ей опору, укрыла под мудрыми сводами
глаз, которые стали огромными. А после взмахнула
черным своим передником, словно сгоняла
черную птицу. И вестник ушел.
Над двориком низко-низко пролетела сова,
а день еще был на дворе, задолго до сумерек,
не время ей было летать, и тень ее отпечаталась
как раз над воротами (там эта тень и теперь).
Служанки
вбежали в дом.
Забыв, что надо детей нарядить, в ванную зашла государыня,
наполнила ванну горячей водой, но мыться не стала. И вскоре
в покоях своих заперлась, и там перед зеркалом
покрасилась и стала порфирной, как маска,
как
мертвая, как изваяние,
как убийца или убитая. А солнце катилось к закату,
желтое, раскаленное, как коронованный сводник,
как разодетый в золото расхититель чужого имущества,
озверевший от страха и в страхе своем опасный;
обезумевший колокольный звон разносился по всей державе.
Да, эту лестницу знали служанки,
столько лет провели они в нашем доме,
однако остановились, чуть приоткрыли лица, посмотрели вниз,
на
ступени,
оглянулись назад – не видит ли кто,
снова закрыли лица ладонями и убежали,
черные, низенькие, горбатые, жалкие,
словно черные точки, словно комары – разносчики малярии
под каменным дождем колоннады,
и осталась за кухонной дверью большая метла, перевернутая
прутьями кверху, словно кошмар, у которого вздыбились волосы,
а голос пропал. Все нас покинули.
Мы позвали других служанок, чтоб убрали на лестнице,
чтоб вымыли мраморные ступени, хорошенько протерли. Однако,
словно пот, выступала на мраморе кровь,
и
опять убежали служанки.
Бросили нас. И мы тоже забросили все – не мели и не мыли.
А мрамор по-прежнему кровь изрыгал – чем дальше, тем больше.
Алый поток вскоре замкнулся вокруг нашего дома,
отрезал его от внешнего мира, и мир о нас позабыл,
нас уже не боялись, и мы никого не боимся.
Прохожие, разумеется, соблюдают дистанцию,
однако уже не крестятся и не плюют за пазуху,
заклиная страшные привидения.
Дорога к нам заросла
чертополохом, крапивой, репейником
и какими-то голубыми цветочками –
не догадаешься, что это дорога.
По ночам, когда какая-нибудь припоздавшая женщина
стирает еще у реки и стучит своей скалкой
по мягкой, намокшей ткани, никто уж не скажет,
что это нож вонзается в тело,
или стукнула дверь тайника,
или падает труп из окна, – просто подумают,
что скалка стучит по одежде,
и по звуку определят,
какая там ткань-шерсть или хлопок, шелк или лен,
догадаются, что эта женщина дочке готовит приданое,
пожалуй, вообразят в малейших деталях свадебную процессию,
бледного жениха, раскрасневшуюся невесту,
сплетение тел, как бы утративших плоть
под
тюлевым пологом ложа,
куда долетает ночной ветерок. Какие подробности,
какая завидная точность (свидетельство равновесия?),
сознание необходимости, а стало быть, неизбежности
всего, что случилось тогда и потом,
ощущение неотвратимости и безответственности, а также
жилка музыки, которая пульсирует в воздухе.
Ты слушаешь, слушаешь, но так и не знаешь,
где же она – может быть, там, над деревьями?
Внизу под скамейками в пустынном саду?
А может быть, в ванной? Или над красным потоком?
Или в закрытой оружейной отца,
с трофеями стольких бесполезных сражений,
или в забытых сандалиях старшего брата, который
вот уже много лет служит на флоте –
кто его знает, вернется ли он когда-нибудь, –
или в тетрадках младшего – он перестал нам писать
из
своего санатория,
или же в гардеробе несчастной матери, среди ее платьев,
белых, длинных – до пола, с обилием складок
и
с широкими пряжками, коваными.
(Часто после полуночи я видела из окна, как платья
самостоятельно бродят среди деревьев,
развеваясь под порывами ветерка, точно тени лунного света,
а за бледными их переливами различала иссохший источник
с дельфином из бронзы, не сумевшим бежать, –
какая стеклянная эта прозрачность, не допускающая
даже крошечных угрызений совести, даже крупицы памяти,
потому что она не нужна
в
протяженном отсутствии или присутствии.)
Как бы то ни было,
а музыка – всюду, и где тебе осознать, почему
ты счастлив, что же такое – счастье, однако ты различаешь
то, чего не замечал никогда, даже не видел,
но теперь это все без плоти, без тяжести. Не было
ни вестника, ни убийства, ни сбежавших служанок,
а я – одна из двух девушек, застывших в оконных проемах,
–
смотрела на этих девушек, смотрела с лестницы или с улицы,
откуда их видел вестник или девчонка-служанка,
однако не отходя от окна (я часто завидовала
служанкам – их дерзости, хитрости, их веселости и свободе,
особой свободе рабства, которая раскрепощает
от нужды принимать решения, – я им завидовала).
Ах, ничего я не видела, ничего я не помню,
только
дивное чувство,
внушенное смертью, – оно позволяет нам видеть
смерть в прозрачной се глубине. А музыка все звучала –
так иногда на рассвете просыпаешься без всякой причины,
а воздух перенасыщен щебетом и руладами
невидимых птиц – такая насыщенность,
что мир ничего уже не вмещает: ни горести, ни надежды,
ни
раскаяния, ни памяти, –
и время – безразличное, отчужденное,
как незнакомец, который спокойно пересекает дорогу
и даже не смотрит в сторону нашего дома,
зажавши под мышкой прозрачные, еще не мытые стекла,
и мы не знаем, куда и зачем он несет их,
какой в этом смысл, для окон каких они предназначены,
и даже не задаемся такими вопросами, не провожаем взглядом,
когда незнакомец безмолвно скрывается за поворотом дороги.
Кто сохранил нам все это с такой дотошностью,
в таких проекциях, в чистоте и порядке,
сгладив даже рубцы от ран и признаки смерти?
И алый поток, обегающий дом, тоже не стоит внимания:
всего лишь вода после вчерашнего теплого ливня,
отражающая багровый закат до позднего вечера,
пока не ляжет эта прозрачность, стеклянная, необъятная.
Ты видишь насквозь необъятное, нетленное и незримое,
ты сам – необъятный, нетленный, незримый, зажатый в кольцо
шепота звезд и мебели. Наша матушка
в кресле резном занята вечным своим рукоделием
под лампой с тремя языками пламени, чуть подрагивающими,
потому что окна раскрыты и гуляет сквозняк,
отец с утра на охоте – наверно, слушает
меланхолический зов охотничьих труб
и преданный лай нетерпеливых собак.
Младшая наша сестра ускользнула от нянюшки
и мечтает в саду, где уже пала роса,
верхом на каменном льве – все абсолютно спокойно,
никто не ошибся, ничего не случилось,
только что скрипнула дверь где-то внизу,
потом калитка в саду – должно быть, молочник,
мама заказывает нежирную простоквашу, чтобы не располнеть,
как хорошо для детей, когда мама не забывает
проверить
свой вес,
когда следит за собой, изредка смотрится в зеркало,
укладывает в красивый пучок свои пышные волосы; простокваша
обретает холодный блеск, мраморный, голубоватый
под звездным сиянием, под сенью деревьев; доносится
тоненький голосок служанки, самой молоденькой,
она расплачивается за неделю с молочником
и
долго считает сдачу. В саду,
в самых темных его закоулках, нет-нет да
что-то сверкнет –
это большие подсолнухи в темноте поворачивают
свои теплые плечи, и пар, совсем голубой,
клубится в ноздрях у мраморных изваяний,
словно они вдыхают тайком влажные ароматы роз.
Маленький брат удалился в ткацкую мастерскую
и рисует свои акварели в стиле росписей, украшающих
Кносский дворец**,
но нам ничего не показывает,
или в керамической мастерской наносит рисунок на амфоры,
черные и кирпичные линии нарочитой, деланной строгости:
юные воины или танцовщики за большими щитами,
если не вглядишься как следует, то не заметишь их вовсе
–
одни лишь круги, составляющие черную цепь. Старший наш брат
подал в отставку, ушел с королевского флота; теперь
он читает в соседней комнате, невозмутимо серьезный.
Время
затихло,
слышно, как поворачивается страница, словно тайная дверь
открывает нам белый прозрачный пейзаж. Действительно,
в этот момент открывается дверь и входит отец.
Накрывают на стол. Скликают детей.
Мы спускаемся по внутренней лестнице,
садимся за ужин и слушаем, как во дворе
скулят собаки, распоряжается управляющий.
Какая
простая жизнь. Какая красивая.
Мать склоняется над тарелкой и плачет.
Отец
опускает руку ей на плечо.
«Это от счастья», – говорит она в оправдание.
Мы смотрим в распахнутое окно
на необъятную прозрачную ночь и на тоненький месяц,
точно палец, заложенный и позабытый
в голубых страницах спокойной, закрытой книги.
Сегодня, пожалуй, прохладно. Что поделаешь – осень.
Окна пора уже закрыть и заклеить.
С дровами для топки камина мы, к счастью, не знаем беды:
и лес по соседству, а главное – старая мебель,
тяжелые двери, рамы, диваны, гробы, мундштуки,
ружья и даже коляска покойного дедушки.
Когда возвратитесь, скажите, пожалуйста, дяде,
пусть
не волнуется.
Мы тут живем хорошо. Смерть такая же мягкая,
как ложе, к которому мы привыкли,
тюфяк, который набили шерстью, хлопком, пером
или
даже соломой, –
удобный тюфяк, сохранивший формы нашего тела,
смерть
абсолютно наша,
она-то уж нас не обманет, не обойдет, она-то уверена,
и мы уверены в ней – уверенность строгая, дивная.
Если же вы не покинете Аргос, нам будет приятно
видеть вас снова в гостях. Для вас я, пожалуй, открою
дверь, что сейчас заколочена, в отцовскую оружейную,
покажу вам тот щит, где на черном металле
тени погибших застыли в самых невероятных позах,
покажу отпечатки окровавленных пальцев, и кровавый источник,
и подземный проход, через который бежали,
облачившись
в женское платье,
двенадцать бородатых военачальников
во
главе с их бледным вождем,
убитым, но безошибочно нашедшим дорогу.
С другой стороны, у выхода, так и зияет дыра,
немая, глубокая, мрачная, как непонятая ошибка.
Какой удивительно мягкий свет у вечерней звезды –
вы
заметили? –
и сама она мягкая, как резинка, и быстро стирается с краю,
словно задумала аккуратно стереть нашу ошибку – какую ?
–
и бесшумно скользит по ней туда и сюда,
однако ошибка все-таки не стирается,
крошки бумаги сыплются на деревья, разлетаются искрами –
приятное это занятие, и вовсе не важно,
что ошибка все-таки не стирается; хорошо, что звезда
совершает это движение, благородное, упорное, вечное,
словно смысл всего сущего – в ритме, сочетающем небесное
и
практическое,
ткацкий станок и стих, взад и вперед,
взад и вперед, бесконечно; звезда среди кипарисов,
золотая стрела в далеких и скорбных нитях
то прячет, то открывает нашу ошибку, не нашу,
ошибку всего мироздания, заложенную в корнях –
чем
же мы виноваты? –
ошибку рождения или смерти – вы обратили внимание,
как хороши осенние вечера, примиряющие,
погашающие спокойной всеобщей виной – индивидуальную, нашу,
скрепляя нас тайными узами дружбы, покоящейся на ритме,
да, да, конечно, на ритме: туда и сюда, туда и сюда,
рождение – смерть, любовь – мечтание, поступок – молчание,
–
это
выход, поверьте,
на задворки небес, такие далекие, мрачные;
оттуда слетает порыв ветерка, осушает наш пот,
вот
и вздохнем наконец-то,
с соседних террас доносятся голоса, отчетливые в ночи,
постукивает ведро о стенки колодца в саду,
слышится обещание: «Я скоро вернусь»,
пыхтенье ребенка, который впервые без мамы
расшнуровывает
ботинки,
флейта из каморки студента, музыканта-любителя,
музыка поднимается, возвышается и сливается
с восхитительной, тщетной, слаженной музыкой звезд.
Да, это действительно так, он безошибочно указал им дорогу,
–
хоть мы и знаем, что чаще всего она ведет в никуда, –
все та же необходимая, хитрая, неотвратимая смерть...
Скажите же дяде, пусть за нас не волнуется
в своей образцовой, безукоризненной Спарте.
Нам тоже неплохо живется в Аргосе.
Вот только дальше уж некуда – пусть он узнает об этом.
Пусть знает.
«Да, да», – откликнулся я
машинально и встал. Я ничего не понял. Мной овладел магический
страх, словно я внезапно оказался перед лицом всего упадка
и обаяния древней культуры. Уже совсем стемнело. Она проводила
меня до лестницы и посветила старой керосиновой лампой,
пока я не спустился. Что она имела в виду? Кто этот мертвый,
который повел их к выходу? Может быть... Нет, конечно, не
Христос. И дом вовсе не Агамемнона. А младший брат с художественными
наклонностями? Кто он? Ведь не было же второго брата. Что
все это означает? Зачем этот дом? И чего ради я пытался
разобраться в речах безумной женщины? Я вышел и торопливо
зашагал прочь, однако стук моих шагов остановил меня. Во
рту я ощущал горький привкус неудовлетворенности, привкус
черной неопределенности, растворившийся в слюне, точно я
раскусил кипарисовое яблоко. И в то же время было во мне
что-то прочное, щедрое, чистое, переполнявшее все мое существо,
так что я с математической точностью предугадывал, как легко
преодолею грядущие трудности, которые только что казались
мне необоримыми. Среди кипарисов выглянула исполинская луна.
За своей спиной я чувствовал громаду дома, напоминавшего
величественную древнюю гробницу. По крайней мере одно я
понял наверняка – понял, чего и мне, и всем нам следует
избегать.
Перевод Софьи
Ильинской
__________________________
* ...
брюки нашего старшего брата... с белокурым локоном младшего...
– по мифу, у дочерей Агамемнона и Клитемнестры был всего
один, младший брат Орест
** Кносский дворец – царский дворец на
Крите, яркий образец крито-микенской культуры. Его руины
раскопаны в начале ХХ века.